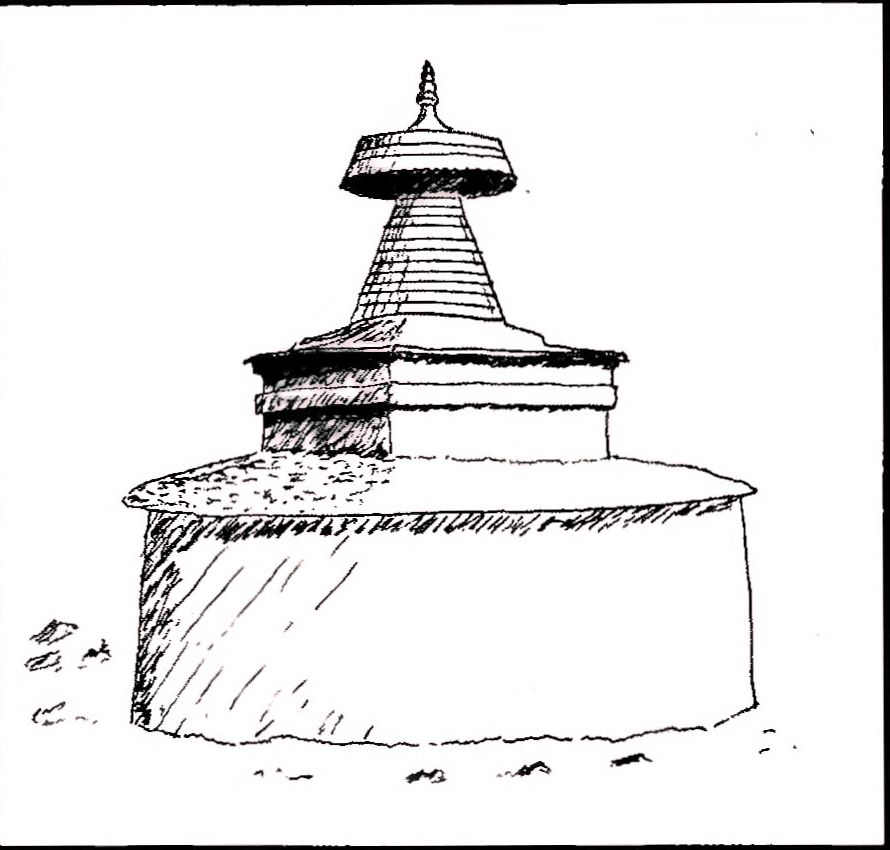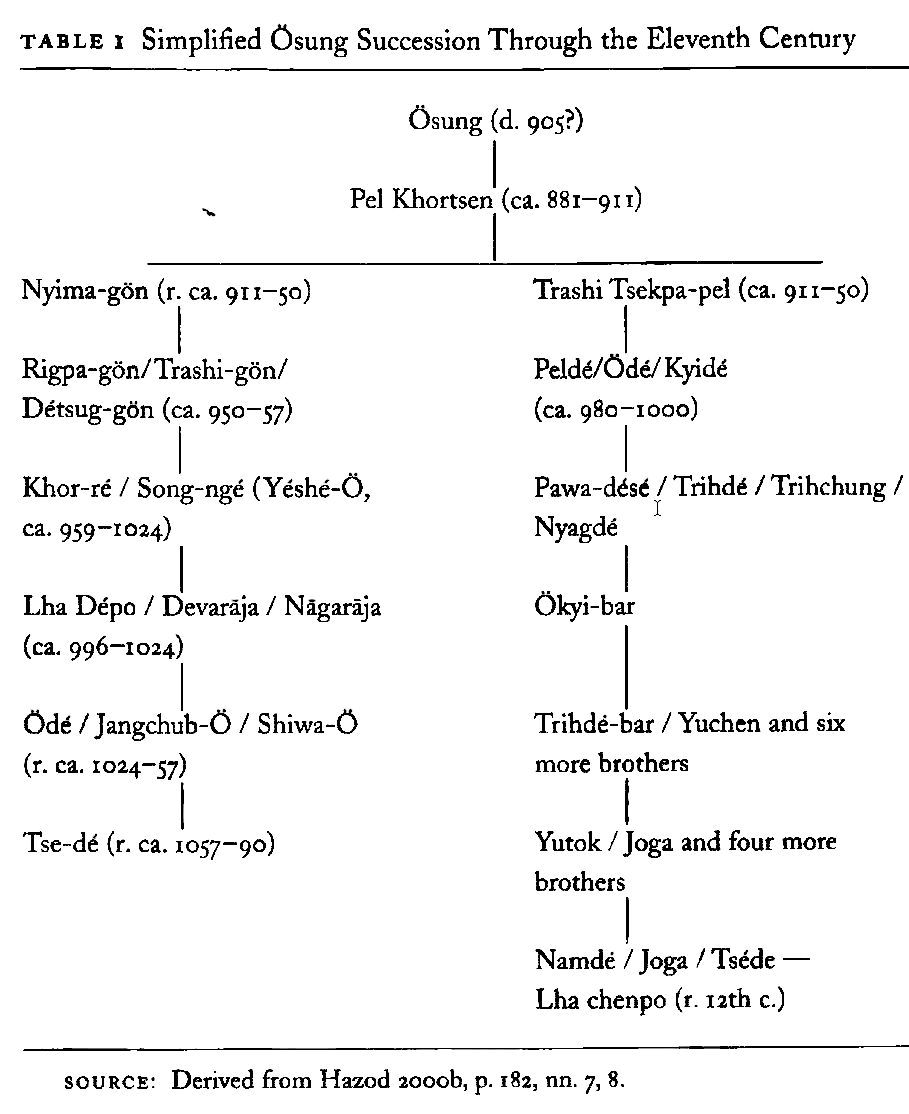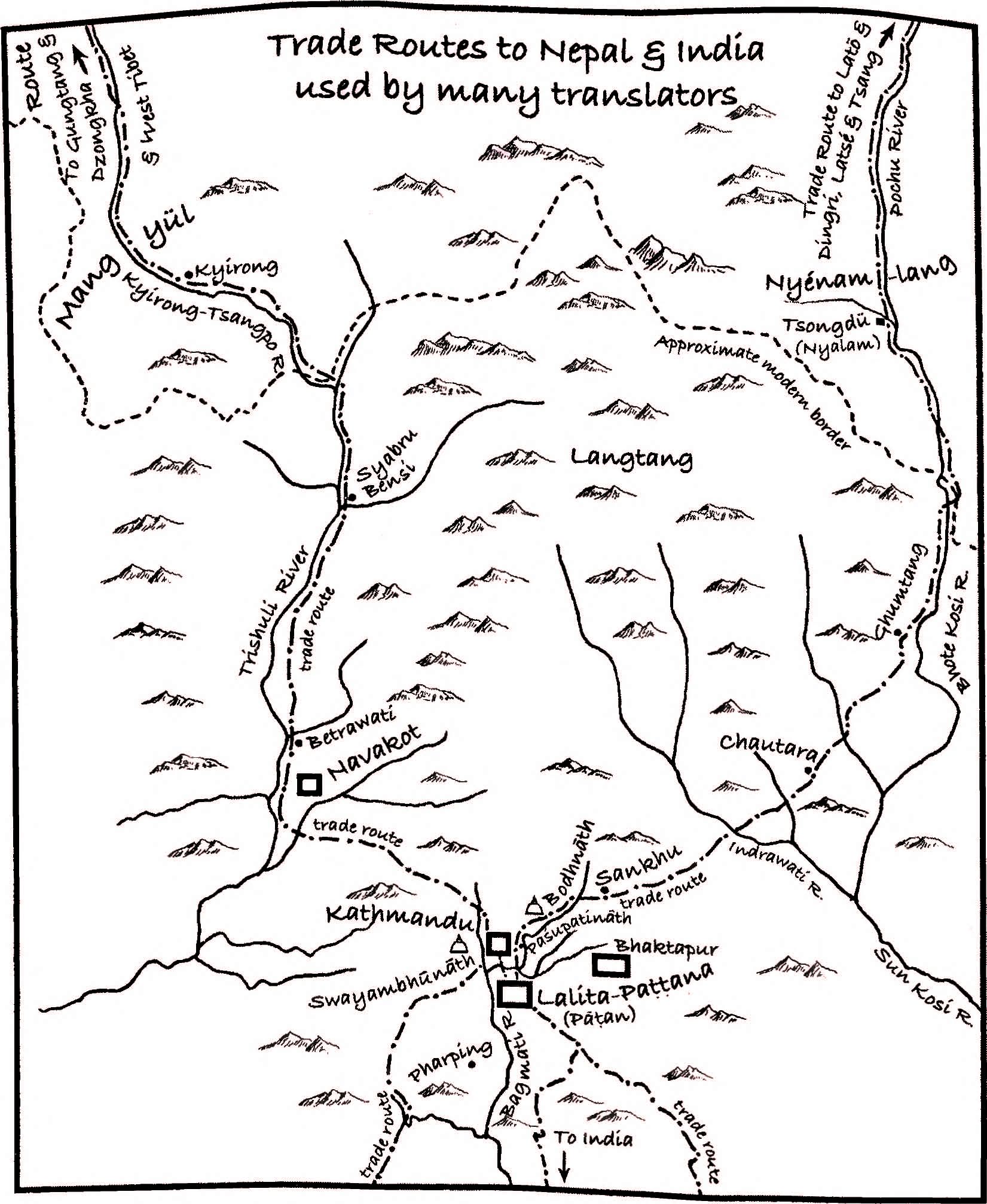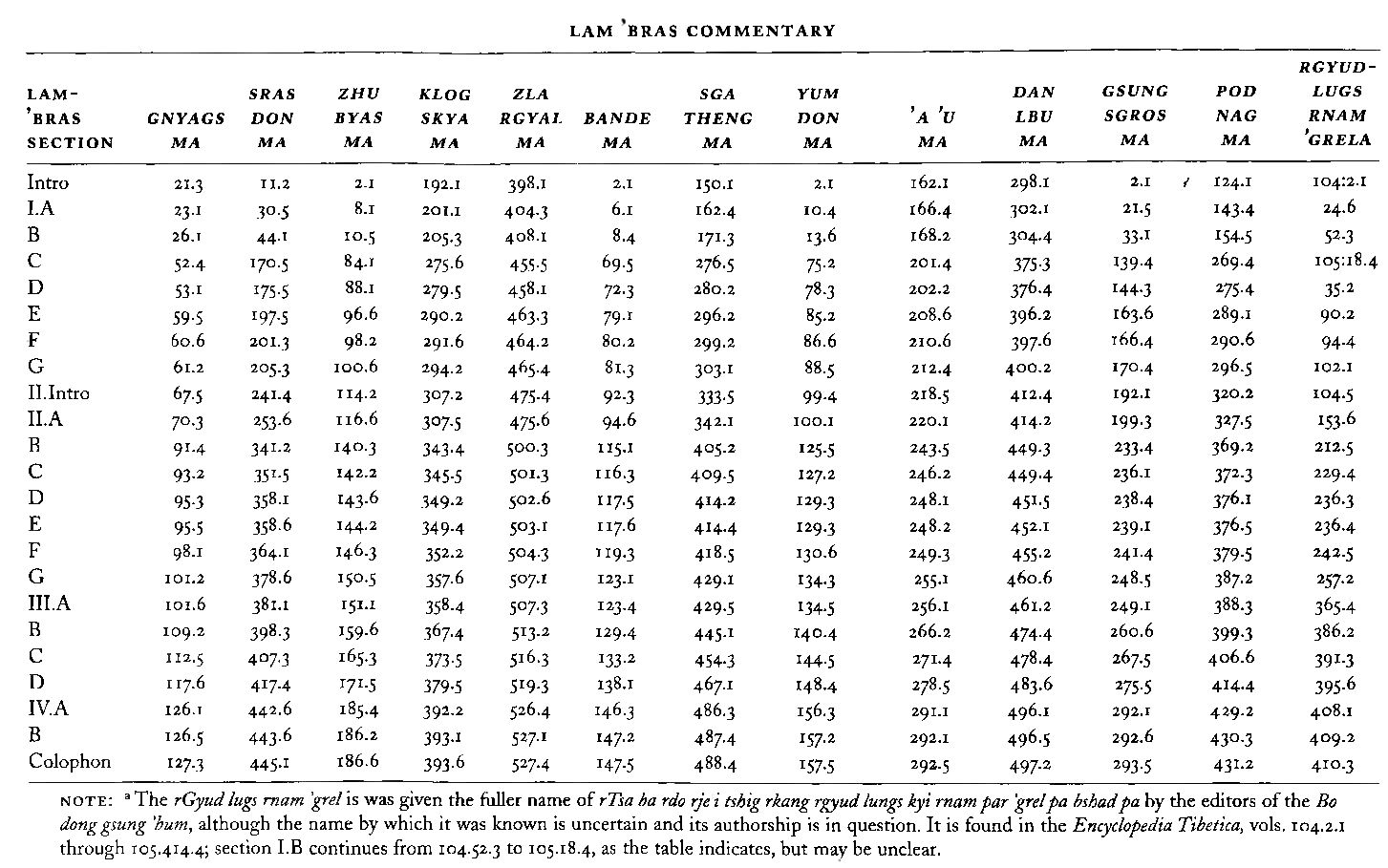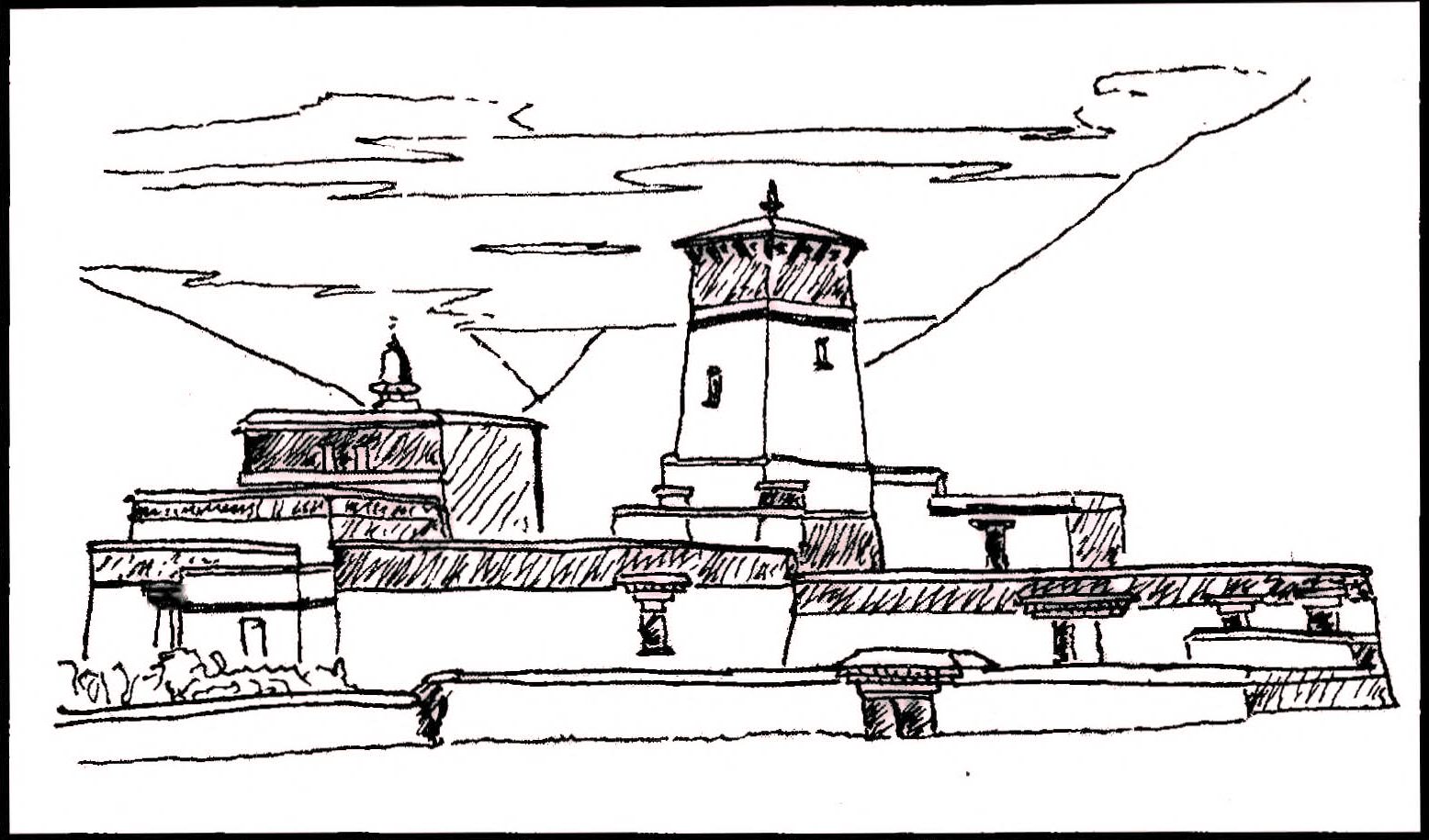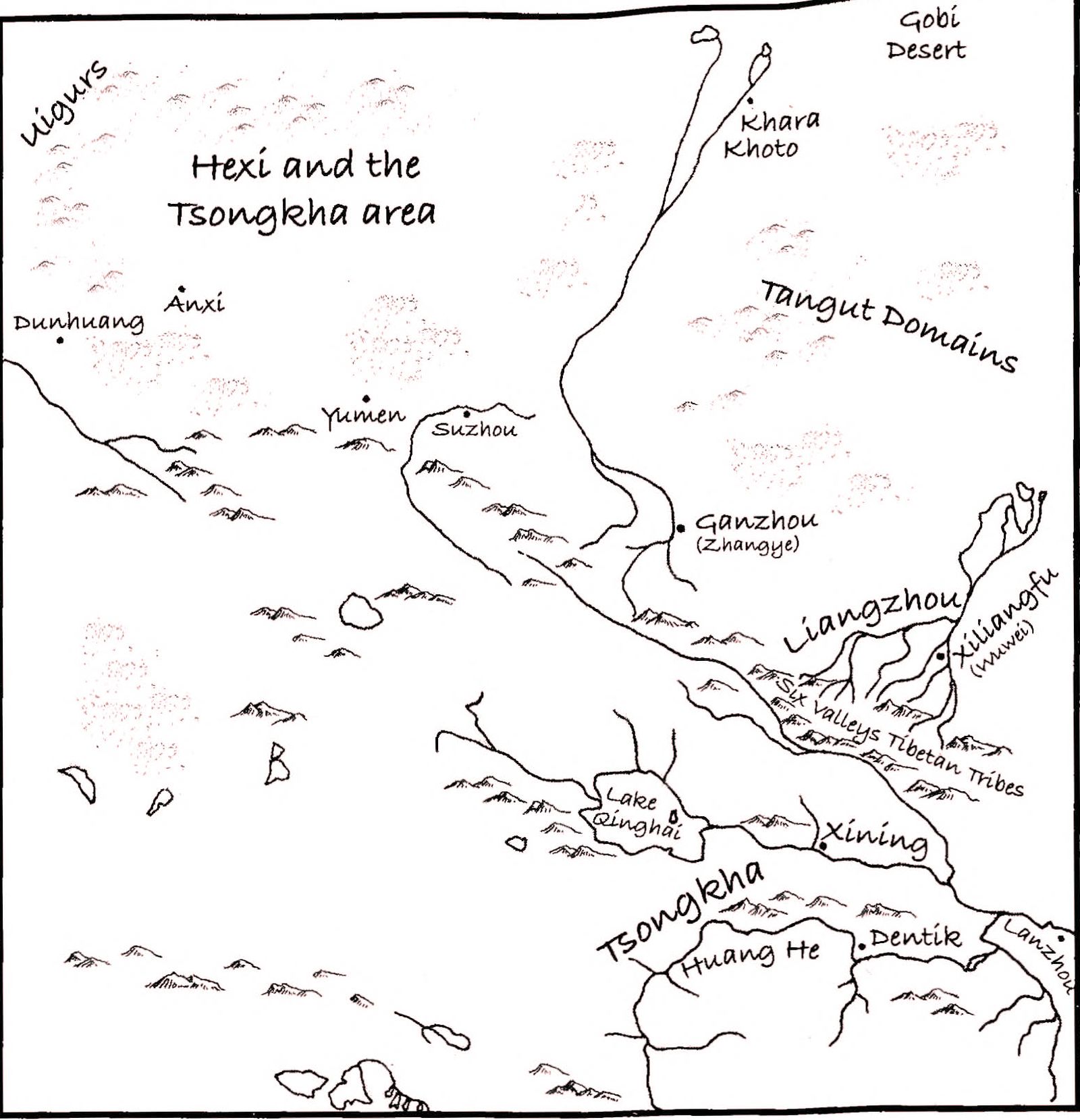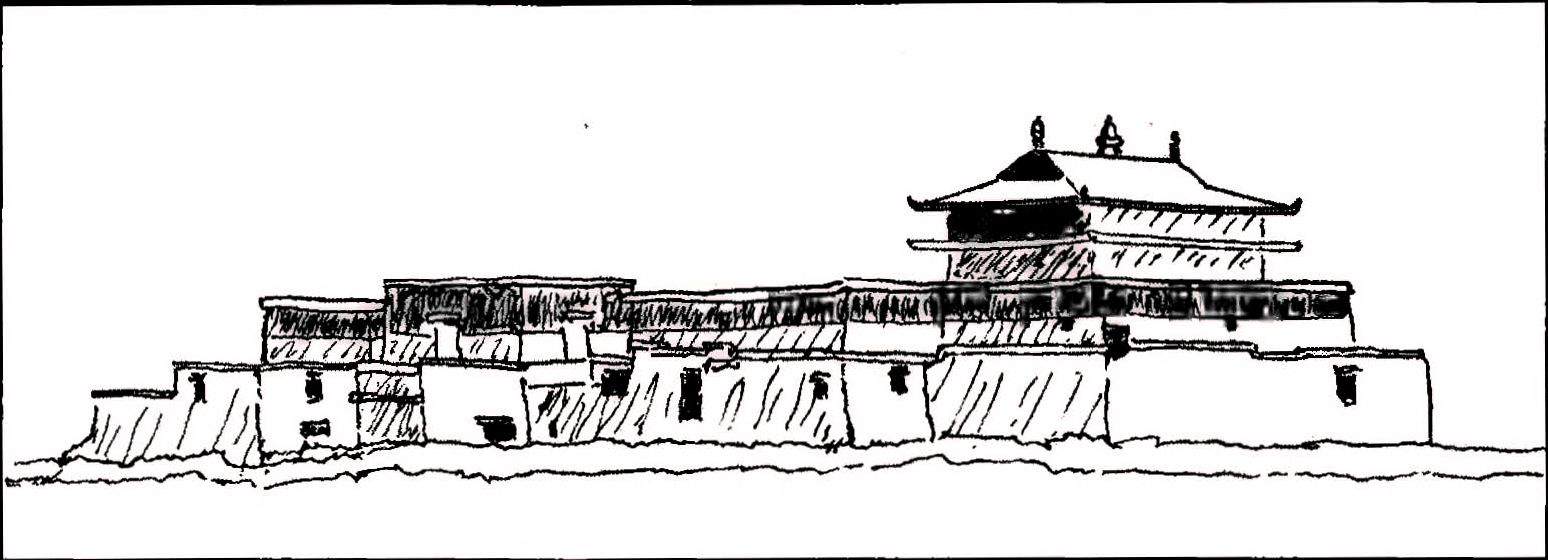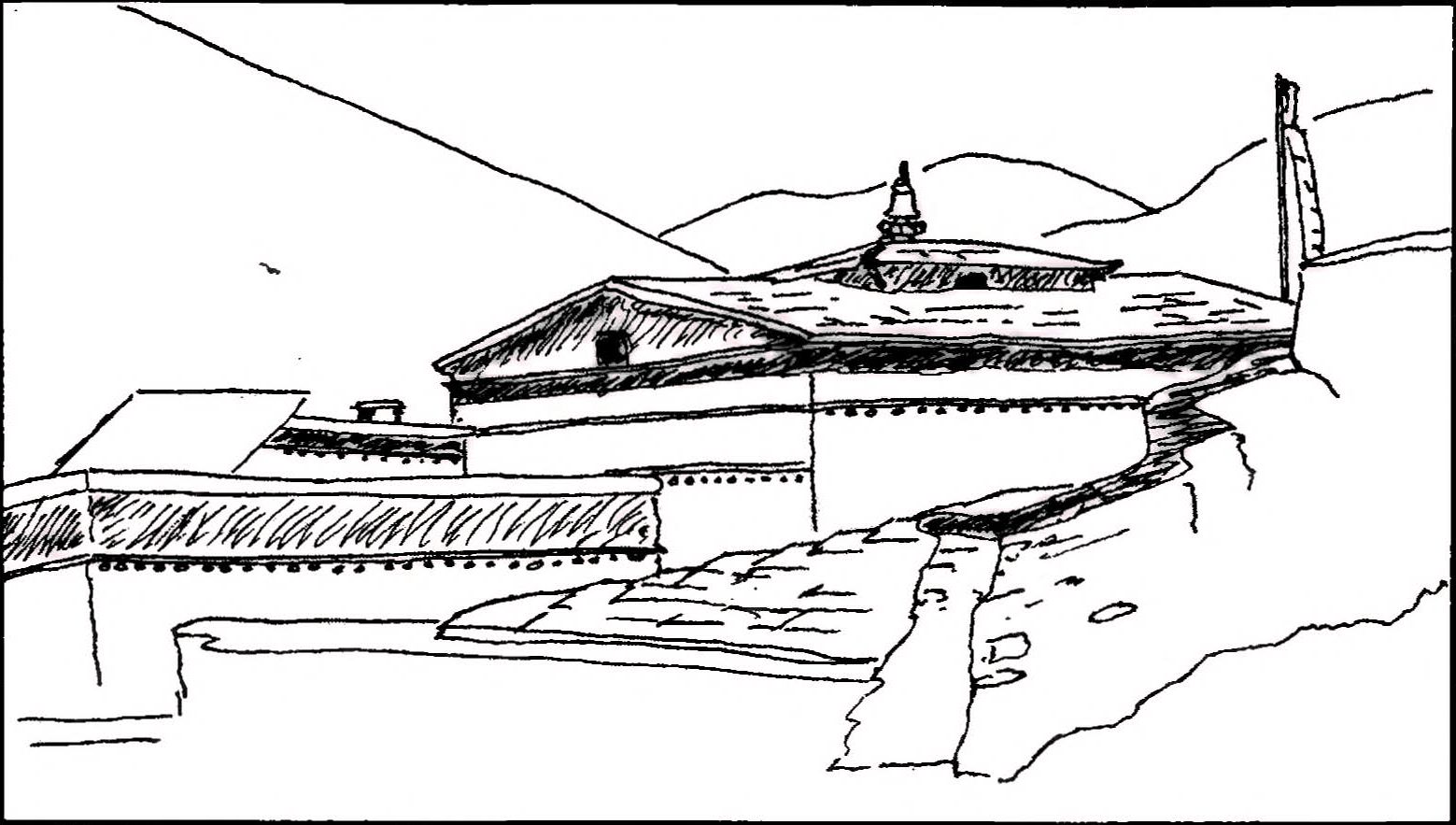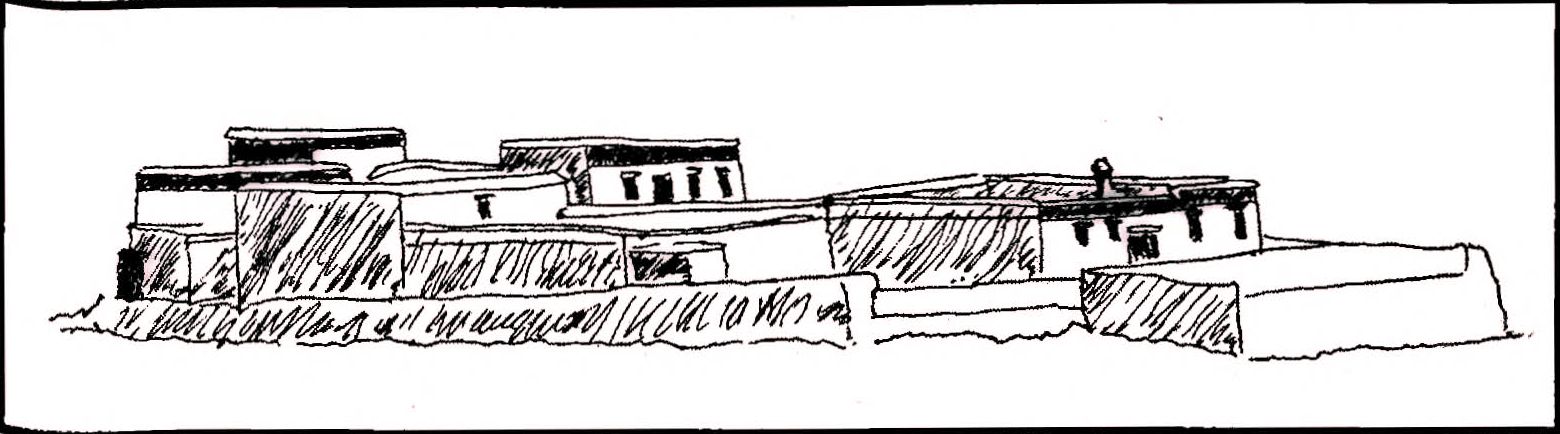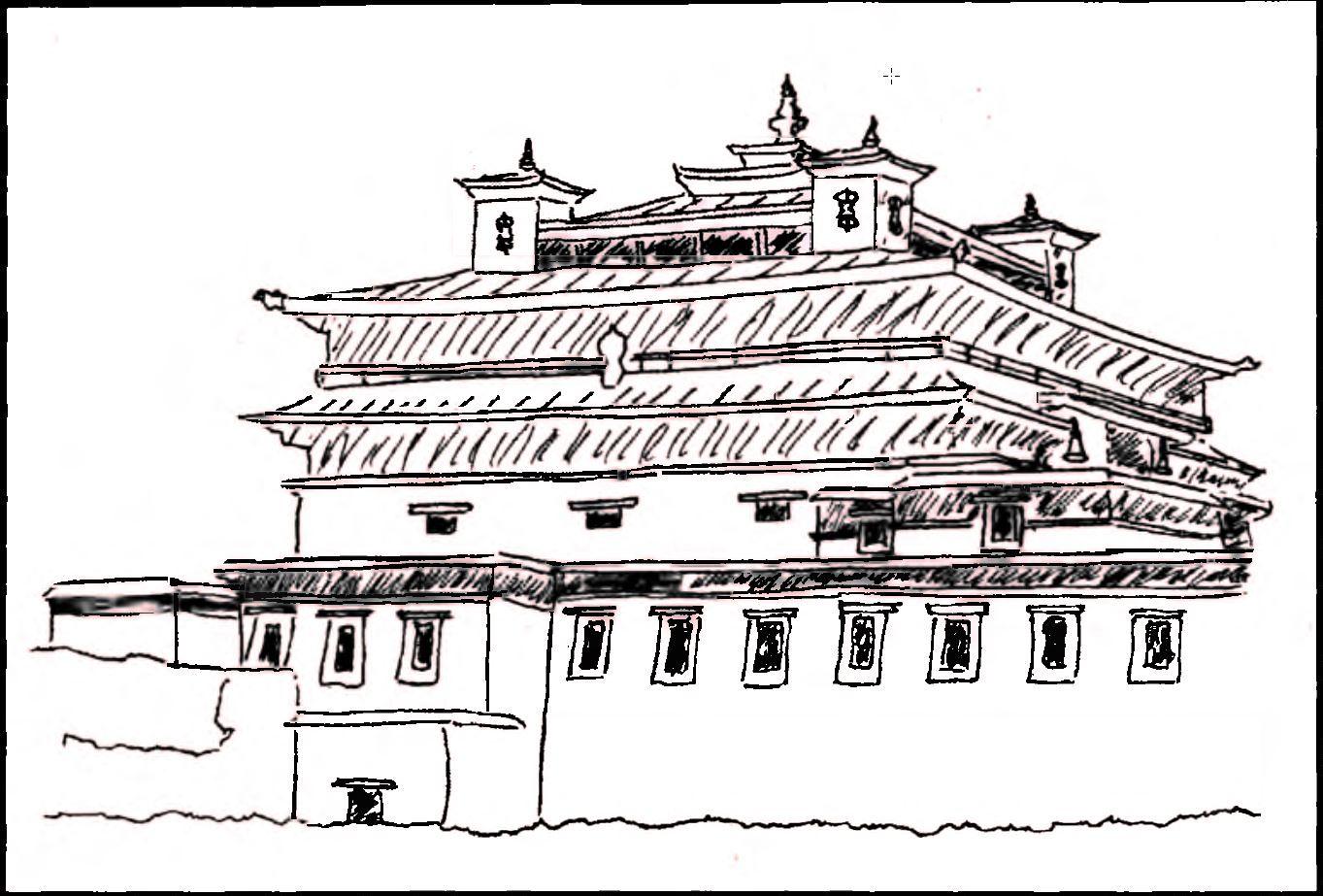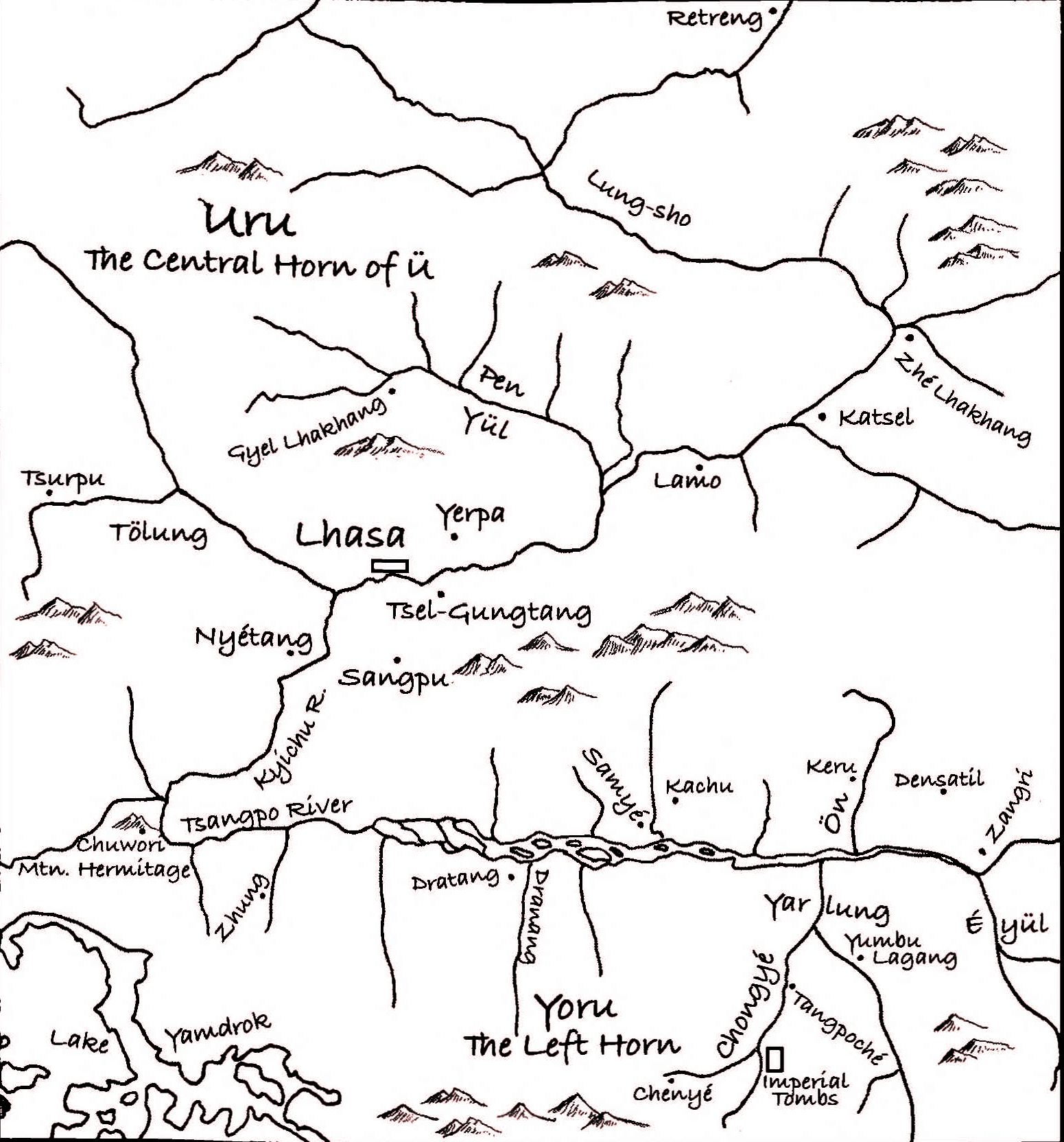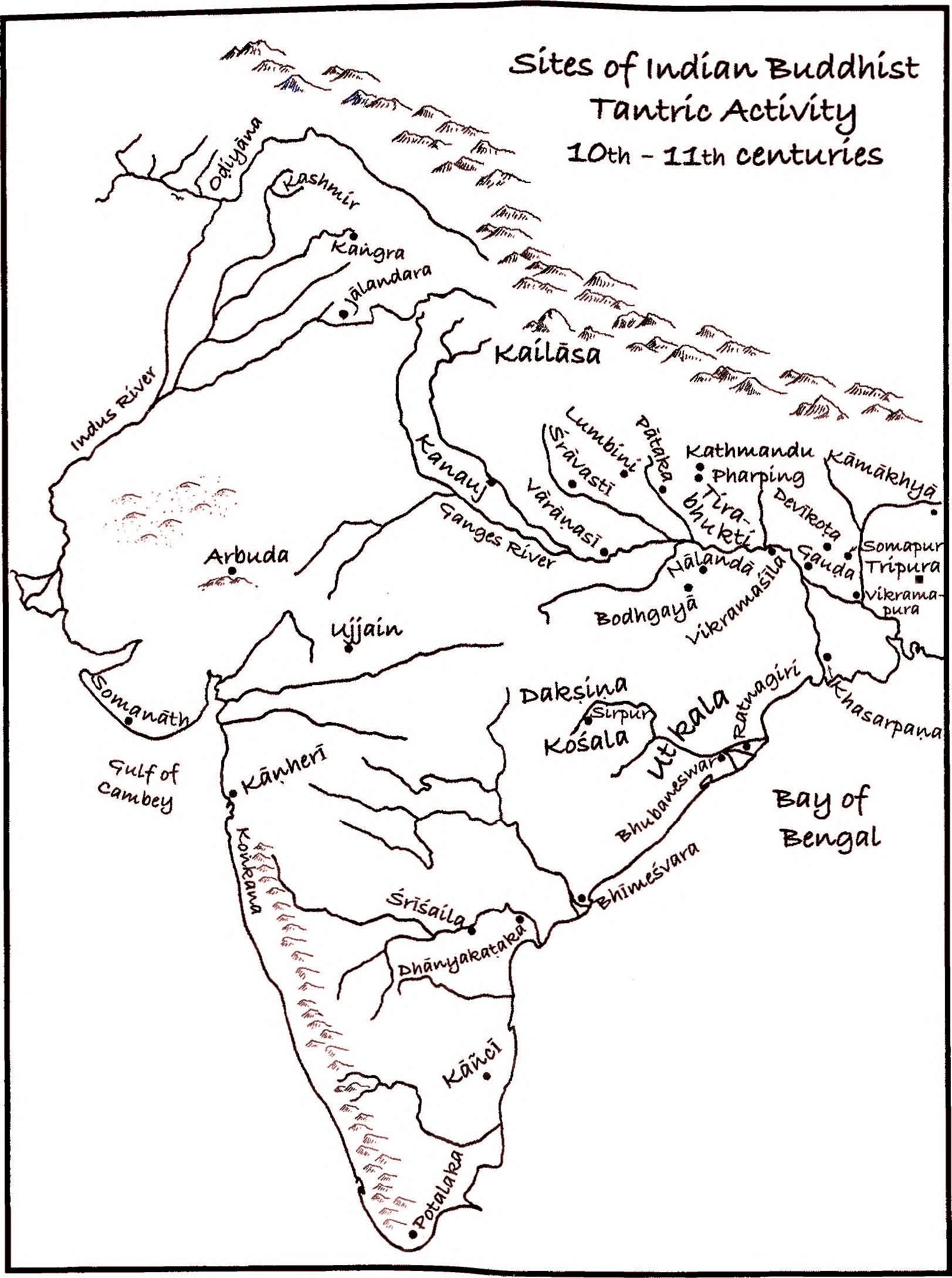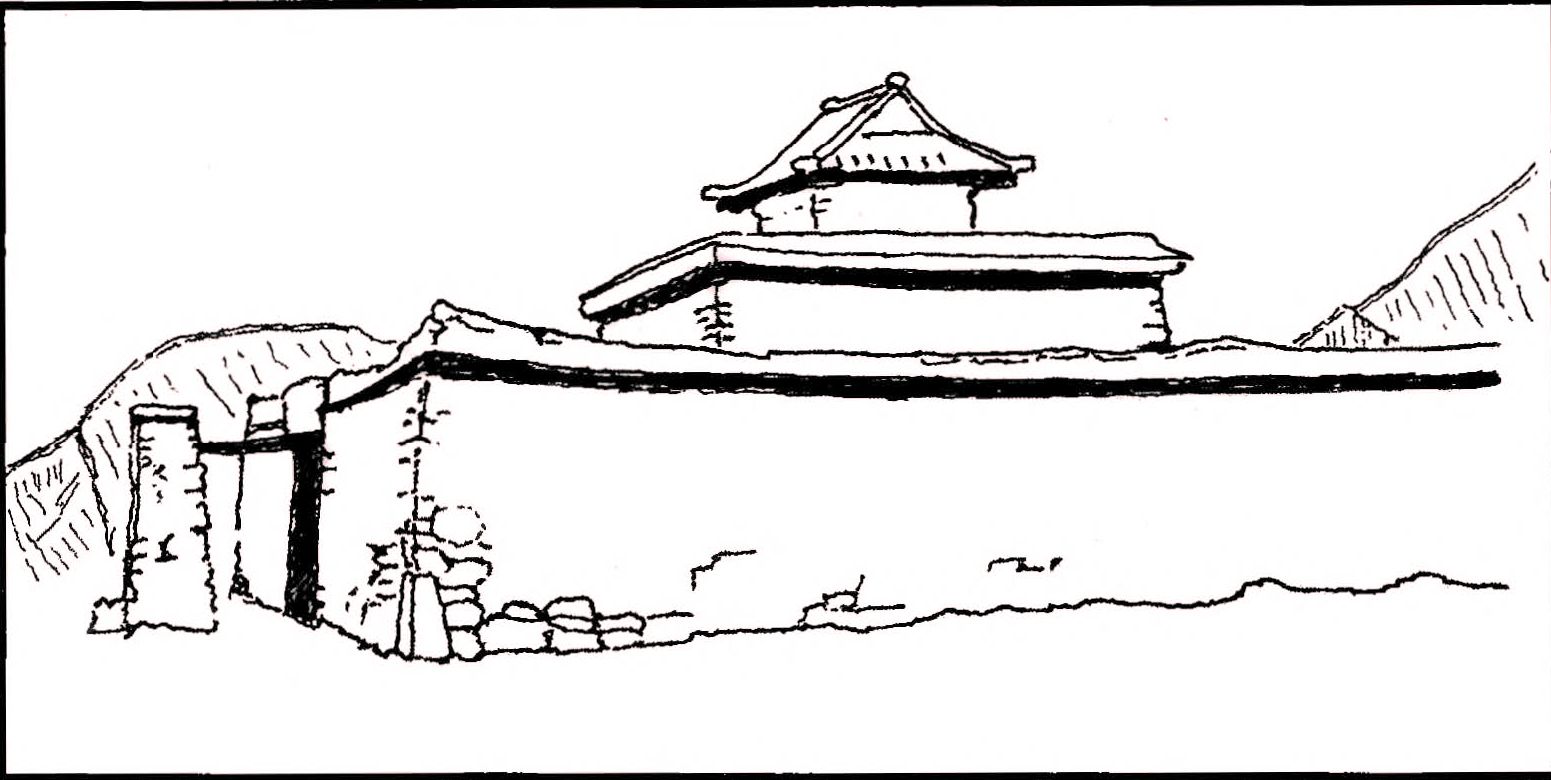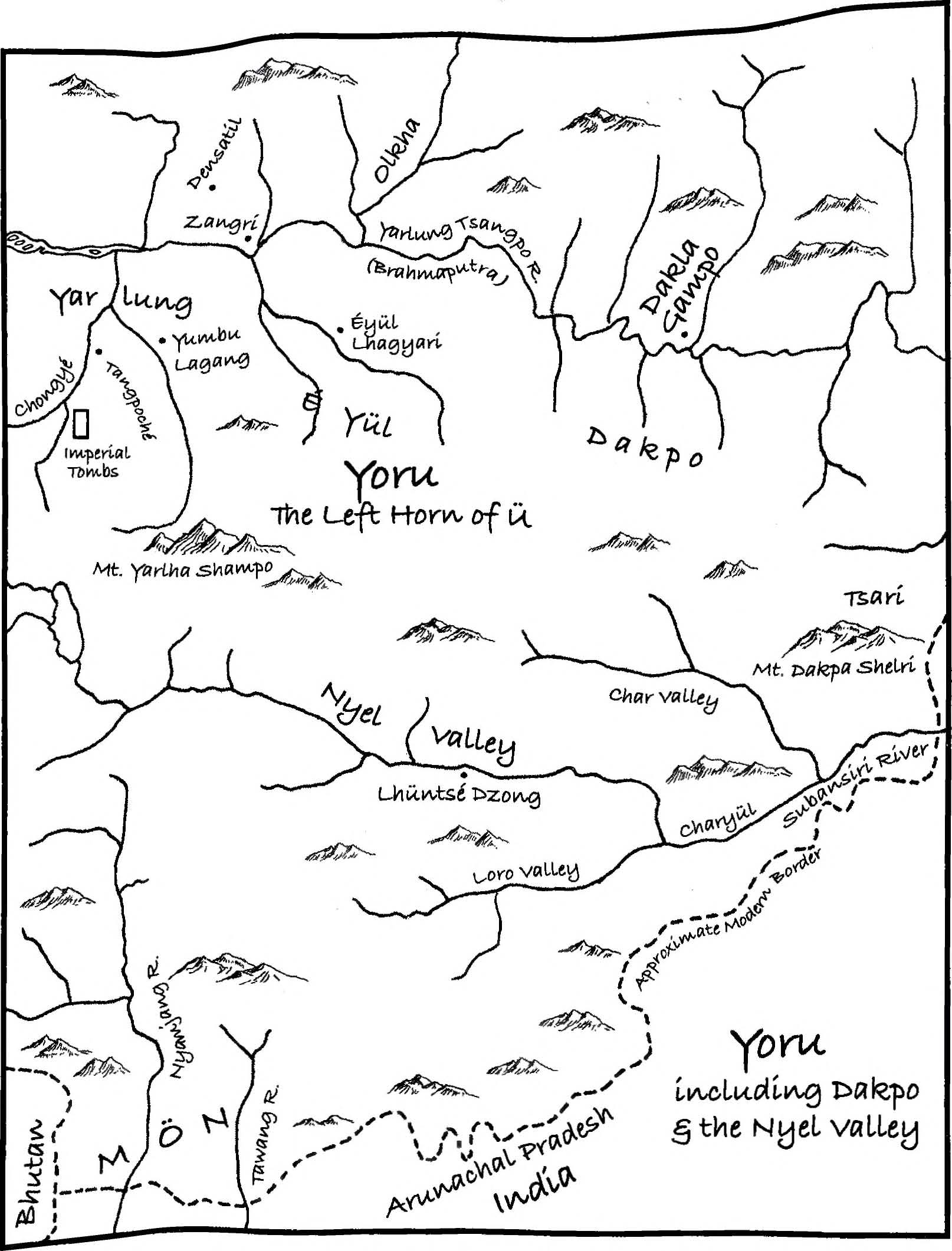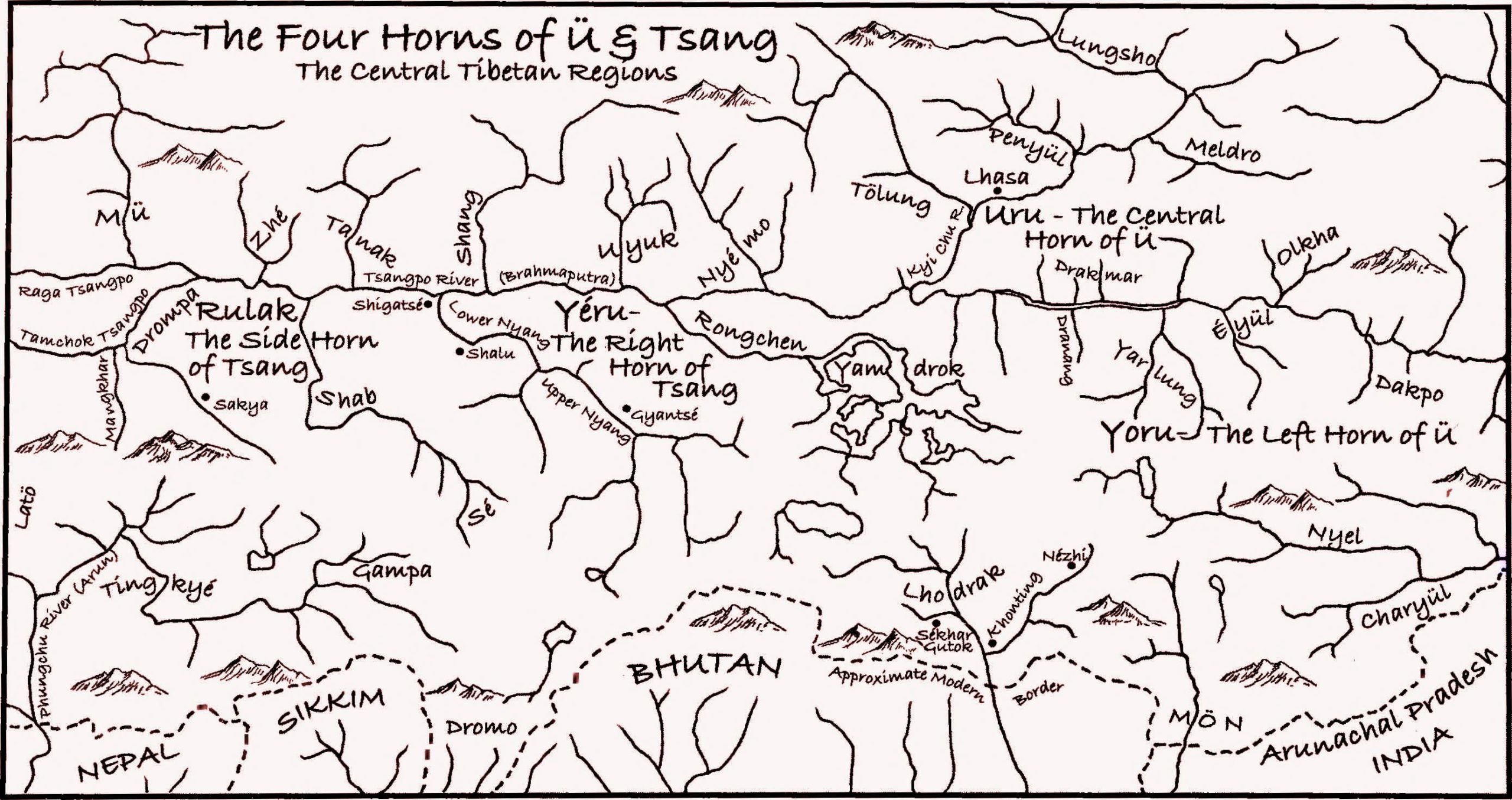····················································································································· |
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Многое из изложенного в этой книге может не соответствовать ожиданиям ее читателей. Те, кто занимается изучением Тибет, привычны к утверждению, что повторное проникновение буддистской и индийской культуры в Тибет в течение и по окончанию десятого столетия положило начало ренессансу тибетской цивилизации. Однако, в нашем случае употребление термина «ренессанс» выглядит весьма сомнительным, поскольку он пересыщен идеологическими и категориальными ассоциациями. Возможно, данная проблема проистекает из основополагающего определения Петрарки, согласно которому четырнадцатое столетие является временами зарождения новой европейской цивилизации, сбросившей с себя покрова мрака средневековья, и которое некоторое время было ключом к восприятию средневековой истории31. Похоже, что пониманию этого термина в большей мере способствует высказывание Филиппо Виллани, считавшего, что первые годы пятнадцатого столетия вдохнули новую жизнь в классическую культуру (при том, что эта тема была предвосхищена все тем же Петраркой)32. Действительно, идея возрождения эллинской учености имела настолько сильное влияние, что Теодор Беза, преемник Кальвина в Женеве, назвал приток греческих ученых в Европу после завоевания османами Константинополя в 1453 году переломным событием этого периода. Позже историки указывали, что к тому времени греческая ученость уже вошла в моду вместе с культом классиков, начало которому положил еще Боккаччо и который продолжал подпитываться изучением латыни и греческого языка в среде итальянских гуманистов. Эта научная деятельность получила особый размах в пятнадцатом столетии благодаря удивительному средству распространения знаний, изобретенному Гутенбергом.
Безусловно, Возрождение было сложным и многогранным явлением. К нему относились как социально-политические события, происходившие в процессе фрагментации государства в четырнадцатом столетии, так и рост экономики гильдий в нестоличных городах. В Западной Европе гибель населения от «черной смерти» и голода сопровождалась произволом бродячих банд, при этом общее чувство дезинтеграции усугублялось наличием двух, а иногда и трех пап, а также крахом Священной Римской империи. Ощущение децентрализации также несли в себе новая космология Коперника (несмотря на ее запрет церковью) и открытие Нового Света в 1492 году, который также был годом учреждения испанской инквизиции и изгнания евреев из Испании королевой Изабеллой и королем Фердинандом. Однако, все-таки именно Возрождение характеризует собой начало эпохи гуманизма, ведь именно в эти времена Леонардо пророчески отпечатал в европейском коллективном сознании нечто подобное проникновенному восклицанию Гамлета*, поскольку был преисполнен таких же ощущений в отношении перспектив человечества, пока что еще неосуществленных, но и напрямую не опровергнутых.
—————————————————————————–
* «Какое чудо природы человек! Как благородно рассуждает! С какими безграничными способностями!»; действие 2, сцена 2; перевод Б. Пастернака – прим. shus.
—————————————————————————–
Очевидно, что если мы хотим понять ситуацию, сложившуюся в Центральном Тибете в период со второй половины десятого столетия и до вмешательства монголов, то должны исключить всякие ошибочные сравнения с европейским Возрождением. Тибет не располагал наследием бактрийского и гандхарского эллинизма, и поэтому там не могло появиться своих Микеланджело или Салютати, которые сформулировали бы свое понимание достижений греческого изобразительного искусства. По этой же причине там не мог возникнуть и гуманизм, который бы ускорил распространение аллегорической литературы и программ обучения studia humanitatis. Печать, уже широко применявшаяся в Китае с одиннадцатого столетия, не имела распространения в Тибете до тринадцатого века. И даже тогда это достижение не использовалось для развития гуманитарных наук по изучению текстов на иностранных письменных языках, как это было в отношении греческого языка при Марсилио Фичино.
Децентрализация была частью общетибетской проблемы, порожденной обычным социально-политическим конфликтом, а не какой-то региональной спецификой Тибета. Кроме того, здесь полностью отсутствовали устремления к освоению математических расчетов или к прикладной технической виртуозности, как это было в случае с Леонардо. На самом деле, насколько мне известно, в Азии не было ничего подобного центральному образу того периода европейской истории – «человеку эпохи Возрождения», хотя агиографы отдельных святых заявляли, что последние обладают «всем знанием». Как местная культура, так и монастыри буддистской Индии невысоко ценили труд ремесленников, что позволяло относиться к ним без особого почтения. Это значительно отличается от возвышения статуса художников в Европе шестнадцатого столетия, изменившего жизнь городских живописцев времен высокого Возрождения33. Таким образом, в те времена в Центральном Тибете не было ни святых в лабораториях, ни инженеров-гуманистов, ни поэтов-математиков. И по сей день большинство тибетцев демонстрирует непонимание принципов количественной оценки и воспринимают качественные определения как на sine qua non (непременное условие) любого точного описания.
Среди множества исторических траекторий периода Возрождения довольно часто упоминается Реформация, причем чаще всего как неизбежное следствие гуманизации и децентрализации34. Когда в Центральном Тибете в конце десятого – начале одиннадцатого столетий происходило возрождение монашеского буддизма, отчасти стимулированное реформаторским движением, спонсируемым западно-тибетским государством Гуге-Пуранг, с исторической точки зрения мы могли бы рассматривать это одновременно и как новую социологию (в связи с исходным отсутствием монашеского буддизма), и как распространение потенциальных форм духовности, но ни в коем случае не как фрагментацию монолитного института «церкви». На самом деле, как это видно из работ Старка (Stark), Бэйнбриджа (Bainbridge) и других авторов, наибольшую общность данный период демонстрирует с социологией возникновения религиозных движений в других странах35. Если такое движение также предполагало создание рисованных образов великих деятелей буддизма в недавно построенных или отремонтированных монастырях, то дарственные и повествовательные изображения по большей части были тибетским развитием современного им индийского, неварского, кашмирского или среднеазиатского стилей. Такая иконография, конечно же, не была взрывным повторением утерянных классических стандартов изображения с натуры, которые художники Флоренции времен Лоренцо де Медичи быстро освоили благодаря покровительству международных финансовых кругов. Напротив, вплоть до двадцатого столетия тибетское религиозное искусство оставалось шаблонным, в высшей степени манерным и мало интересовалось проблемами перспективы, реальной анатомии человека и прямого следования натуре.
Тем не менее, если мы хотим серьезно подойти к нашему историческому исследованию, то должны обратить внимание на то, что презумпция постепенности, приводившая в отчаяние гуманитарную литературу со времен Просвещения, особенно сомнительна перед лицом стольких свидетельств обратного. Вместо этого системный анализ предлагает нам исследовать «скачки в сложности», подразумеваемые в модели прерывистого равновесия, разработанной Стивеном Джей Гулдом (Stephen Jay Gould) и Найлзом Элдреджем (Niles Eldredge) для объяснения биологических особенностей эволюции36. Перенеся эту биологическую парадигму на человеческие культуры, мы сможем увидеть, что цивилизации демонстрируют сжатие периодов выдающегося развития в невероятно короткий промежуток времени – настоящий взрыв социально-политической, экономической, художественной, интеллектуальной, литературной и духовной активности. Эти взрывы могут быть попросту беспрецедентными, как в случае с Афинами Перикла или возвышением династии Цинь. В качестве альтернативы, они могут быть сфокусированы на идеологии возрождения утраченных идеалов прошлых времен – целеполаганию, которое приводит культуру к успехам гораздо большим, чем те, которых она ранее достигла в этом утраченном рае. Оба этих примера – новые начинания и последующее возрождение – далее можно дифференцировать по степени, в которой они опирались на внешнюю систему координат для установления собственных стандартов развития. Например, с 645 по 794 годы в Японии были спроектированы и построены четыре города, имитирующих Чанъань: Нанивакё, Нагаокакё, Нара и Хэйанкё. Все эти города не имели аналогов в Японии и были выстроены по образу и подобию столицы Тан. В течение аналогичного периода, с 618 по 842 годы, тибетцы создали свою первую объединенную цивилизацию, которая импортировала культуру из Китая, Индии, Хотана, Персии, Кашмира и других стран, при этом возможность заимствования культурных моделей из нескольких источников давала им свободу в принятии решений, недоступную для японцев.
Даже если европейский Ренессанс является наиболее впечатляющим примером процесса возрождения в нашей собственной истории, мы не должны игнорировать аналогичные события времен китайской династии Сун или периода «позднего распространения» (phyi dar) в Тибете, которые происходили почти одновременно. И в китайском, и в тибетском случае было переоценено забытое литературное и культурное наследие, и возник новый нарратив о возвращении духа былой эпохи. Таким образом, период «новых переводов» можно рассматривать как возрождение социокультурной жизни Центрального Тибета, а не как «возрождение» в европейском смысле. Помимо прочего, это было возрождение тибетского общества, пытающегося возвратить динамизм утраченной империи, даже при том, что политическая реализация этого вопроса осуществлялась вне пределов Тибета.
Таким образом, если Тибет был особенным местом в этом мире, то и период его возрождения был необычным временем. Доктрины, ритуалы и практики буддизма – главным образом его позднего эзотерического варианта – сыграли важнейшую историческую роль в период с конца десятого по тринадцатое столетия, содействуя процессу болезненного выхода из состояния фрагментации и сращиванию различных культур. Катализатором этого возрождения стала близость Тибета к Индии и бассейну Тарима, и тибетские ученые, иногда ценой собственной жизни, предпринимали путешествия в Непал и Индию в поисках истинного буддизма. Там они жили как в великих монастырях, так и в маленьких обителях, основанных буддистскими наставниками, привлекая и йогинов, и монахов к своим поискам священной дхармы. Они приносили с собой в Тибет не только книги, но и образовательную культуру индийских монастырей, ретритов и учебных центров, и таким образом содействовали делу возрождения тибетской цивилизации. Великие аристократические кланы успешно интегрировали, адаптировали и институционализировали индийские йогические системы, описанные в самых возмутительных из когда-либо созданных религиозных текстах. Тем не менее, в рамках этой экстремальной версии буддизма и благородные кланы, и тибетские простолюдины смогли открыть для себя методы и средства культурной трансформации.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
Таким образом правитель из семьи самого дьявола
Истощит заслуги тибетского народа.
Учение Будды полностью придет в упадок…
Превратив в руины храм Джоканг, дурные люди начнут карать друг друга.
Порочными словами они будут бранить благочестивых
И превозносить других, предающихся греховной деятельности.
Все монастыри превратятся в убежища для оленей,
А храмы станут загонами для скота.
Учителям придется взвалить на себя ношу обслуги,
А монахи будут отправлены охотиться на животных, чтобы как-то выжить.
Увы! Обладатели порочной натуры будут распространяться вдаль и вширь.
«Колонный завет» Сонгцена Гампо1
|
Кажется естественным воспринимать Тибет как извечно буддистскую страну, не задумываясь о том, что в основе этой приятной иллюзии лежит тяжкий труд многих поколений преданных своему делу тибетских буддистов. Данный образ покажется еще более удивительным, если вспомнить, что на протяжении нескольких столетий Тибет был сильной милитаристской империей, рухнувшей в непростой период социального и политического хаоса. В тибетских документах эта катастрофа упоминается как начало периода политической раздробленности (rgyal khr ims sil bu’i dus) или действий, приведших к упадка Учения (bstan pa’i bsnubs lugs), причем последняя фраза отсылает нас к мифам о полном забвении заветов Будды. Но только после периода разрушительных социальных волнений и мог наступить период тибетского ренессанса, во время которого в процессе культурного возрождении для создания нового направления буддизма использовалось многое из сохранившегося от прежней династии. Это новое религиозное движение способствовало формированию социального порядка с опорой на принципиально иную движущую силу, в основе которой лежало противодействие политическому воссоединению. Поэтому даже когда была достигнута определенная религиозная и социальная стабильность, политическое единство по-прежнему оставалось чем-то недостижимым вплоть до монгольского периода.
В данной главе исследуется распад и крах тибетской имперской системы в середине девятого столетия, а также особый вклад буддизма в падение правящей династии. Парадокс тибетского буддизма заключается в том, что некоторые из его течений были сопричастны к распаду империи в девятом столетии, в то время как другие направления сыграли центральную роль в возрождении тибетской цивилизации уже в десятом веке. Затем в главе излагается то, что нам известно о политической ситуации времен раздробленности, включая разделение имперского дома на две ветви и три восстания, произошедшие как на северо-востоке, так и в центре Тибета. В этой главе также представлена точка зрения на этот период более поздних хроник в части упадка социального и религиозного порядков с сопутствующим ростом неортодоксальных практик. Кроме того, здесь обсуждается положение аристократических кланов в соответствии с тем, что мы о них знаем. Все эти факторы сыграли свою роль в дальнейшем слиянии буддистской культуры и цивилизации в Центральном Тибете десятого и одиннадцатого столетий, который на протяжении всей книги представляется как самая выдающаяся часть Тибета.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Тибетская литература в общем и целом довольно небрежно относится к неизбежности возникновения такого исторического явления, как возвышение в одиннадцатом и двенадцатом столетиях фигуры переводчика в качестве образа, представляющего собой совокупность индивидуальности, духовности и политической власти. Если же автор все-таки утруждает себя объяснением сущности одного из самых удивительных литературных движений в истории человечества, то он обычно описывает этот процесс как нечто необходимое для «разрешения сомнений»7. Однако, большинство не заходит в своих объяснении так далеко, и мы просто читаем, что тот или иной знатный отпрыск старой империи пожелал вернуть Дхарму в Тибет, для чего отправил молодых тибетцев в Индию за текстами для перевода. Следующим этапом стало приглашение индийцев, и процесс перевода начал институционализироваться на экономической и политической основе, впервые заложенной Луме, Лотаном и другими. В Западном Тибете мы также могли ожидать чего-то подобного, поскольку Лха-лама и его династия испытывали сильное влияние соседнего Кашмира и не имели того изобилия мест имперского периода, с которыми пришлось бы соперничать. К тому же они обладали гораздо меньшими библиотечными ресурсами и у них не было тесных контактов с Цонгкхой, находящейся далеко на востоке8. Таким образом, решение поддержать переводческую деятельность в Гуге-Пуранге может показаться в большей степени интуитивным, тогда как в Центральном Тибете все это выглядело по иному, поскольку возрождение монашества шло полным ходом еще до того, как в У-Цанге появились первые переводчики.
Возникновение «сомнений» по большей части было обусловлено конфликтом институциональных культур и связанной с этим проблемой несопоставимости их требований. При этом «Колонный завет» двенадцатого столетия (bKa’ chems ka khol ma) указывает на то, что движение «новых переводов» действительно началось из-за разногласий между старыми религиозными кругами и новым монашеством9. В этом контексте «разрешение сомнений» не может быть просто вопросом доступности информации, поскольку в данном случае мы можем быть уверены в том, что основной проблемой «четырех рогов» Тибета начала одиннадцатого столетия было не отсутствие информации, а религиозная многоголосица. Она включала в себя голоса за Винаю, за старую эзотерическую систему, за развитие философского дискурса, причем все заявлявшие свои претензии подразумевали, что именно им должно быть отведено почетное место в процессе возрождения новой культуры.
Соответственно, проблема «сомнений», ускорившая движение за обновление переводов, на самом деле возникла из-за противоречий между аристократическими и имперскими стандартами надлежащего поведения, с одной стороны, и явно неадекватным поведением отдельных лиц или групп в Тибете, с другой. Последние порой были эзотерическими ламами, использовавшими тантрические тексты, переведенные еще во времена имперской династии. В этом случае такие практики, как сексуальная йога или ритуалы с целью убийства, иногда подвергались осуждению со стороны авторитетных лиц, трактовавших их как результат «непонимание» эзотерических писаний. Они утверждали, что отдельные лица интерпретируют антиномианистские утверждения в тантрах слишком буквально, хотя до них именно так и поступали некоторые индийцы. В результате возникло всеобщее ощущение фрагментарности и неконтролируемости религиозной традиции, когда монашеская одежда и внешние атрибуты вроде бы и сохранялись, но фактическое поведение тибетских монахов постепенно адаптировалось как к тибетским деревенским обрядам кровавых жертвоприношений горным божеством, так и к общей атмосфере сексуальной распущенности, которая, как отмечалось, была характерна для тибетцев.
Данная ситуация также может указывать еще на одну причину, по которой жители Центрального Тибета в конечном счете отправились на поиски Дхармы в Индии: ощущение деградации ритуальной жизни по причине ее оторванности от буддистского мира. Исторические документы свидетельствуют о том, что эзотерическая форма буддизма считалась не только самой престижной, но и самой проблематичной. Не вызывает сомнений, что в обществе присутствовало понимание того, что многие тибетцы нарушают структуру обетов эзотерической традиции – либо по причине невежества, либо проявляя в этом вопросе самонадеянность, – и мы также видим, что в связи с этим все большую популярность приобретала идея общественной ответственности за такое поведение. Согласно нормативным текстам эзотерического посвящения, если человек будет существенно нарушать обеты, то ему придется восстанавливать их, приняв повторное посвящение10. В свете этого становится более понятным многое из того, что было написано о периоде раздробленности. Считается, что хотя эти времена наступили в результате нарушения обетов Дармой, последствия его пагубного поведения в дальнейшем усугубилось преднамеренным искажением истинной Дхармы различными людьми, поддерживавшими эзотерическую систему. По этой причине божественные защитники не встали на защиту Тибета, ставшего добычей стервятников и пережившего три восстания, вскрытие имперских гробниц и полную утрату единства. Единственным возможным выходом из данной ситуации была отправка в Индию молодых людей, где они могли бы заново получить посвящение на изучение Буддадхармы, вернуть в Тибет чистую эзотерическую традицию и возрождать храмы и монастыри с помощью индийских консультантов, а не только тибетцев с северо-востока.
Со временем стало очевидным, что не все тексты, используемые в аристократических ритуальных системах ньингмы или хранящиеся в философских библиотеках, являются аутентичными переводами какого-либо известного источника времен имперского династического буддизма. Некоторые из них, несомненно, были дополнены, перекомпонованы, скомпилированы из отдельных отрывков или же полностью созданы в Тибете, причем этот процесс, по всей видимости, ускорился в период с конца десятого по двенадцатое столетия, т.к. по мере возникновения новых религиозных сообществ, стали появляться и новые тексты с собственными тибетскими идеями. Поскольку в тибетской культуре никогда не существовало ни точного языка, ни образцовых моделей, используемых для аутентификации подлинности автохтонных тибетских доктрин и ритуалов, у авторов таких текстов не было другого выхода, кроме как попытаться придать им легитимность, завуалировав под переведенные произведения. Кроме того, в некоторых случаях тибетцы в своем творчестве просто пренебрегали стандартными индийскими рекомендациями по практике составления религиозных писаний11. Вследствие этого, стандартное буддистское заимствование местных практик иногда происходило в Тибете без надлежащего контроля за этими инициативами, который был обязательной процедурой у буддистов прошлого. Поэтому результаты творческих усилий ньингмы нередко представляли собой любопытные гибриды сутры и тантры. Однако, без сообщества компетентных экспертов – знатоков языковых систем, используемых в культурах исходных текстов (санскритских, китайских, хотанских или на апабхрамше), – было трудно, если не невозможно, определить, какие произведения являются индийскими, а какие нет. К примеру, многие апокрифические тексты были снабжены названиями на псевдоиндийских или псевдо- других языках, и в глазах грамотного тибетца, не знакомого с индийскими языками, все это с таким же успехом могло быть переводом с гомеровского греческого языка.
К сожалению, вера тибетцев в способность индийцев разрешить все их сомнения выглядела несколько наивно, поскольку индийская система успешно справлялась с хаосом гораздо более разношерстной многоголосицы, чем та, что тревожила тибетцев. А социально-экономическое положение стареющей династии Палов (возглавляемой в то время долгожителем Махипалой I (прав. ок. 992-1042)) было таковым, что ожидать от них поддержки мелких правителей «крыши мира» было совершенно не реально. Множественность притязаний и стандартов поведения была жизнеспособна только в среде сложных по своей организации и очень разноплановых сообществ, которые были характерны для крупных и густонаселенных центров Индии и их окрестностей, а также, но в меньшей степени, для соседних гималайских государств. Даже в таких промежуточных областях, как Кашмир и Непал, не говоря уже о самой Индии, тибетцы обнаружили такую какофонию возможностей, что сама идея найти здесь единственную истинную Дхарму казалась им теперь в принципе нереализуемой. В Индии они обнаружили гораздо больше направлений в практике буддизма, чем ожидали, и литература изобилует примерами того, как переводчики Центрального Тибета изумлялись новым направлениям, которые демонстрировали принимавшие их индийцы. В особенности это касалось новой йогической литературы, связанной с Гухьясамаджей, Чакрасамварой, Хеваджрой, Ваджрабхайравой и подобными им системами. Еще большее замешательство переводчики нового эзотерического материала испытали по возвращению домой, поскольку здесь они столкнулись с тем, что индийский эзотеризм достаточно сильно изменился, и это не могло не вызвать разногласий с представителями более ранних традиций, которые теперь совокупно классифицировались как ньингма. По мере увеличения объема переводов все чаще возникали проблемы, причем не только в отношениях с представителями ньингмы, но и с отдельными людьми из лагеря новых переводчиков, поскольку не все молодые люди, посещавшие Индию, возвращались оттуда проникнутые благонравными буддистскими мыслями.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Полный вариант переведенного и отредактированного «Коренного текста *маргапхалы» приводится в Приложении 2 этой книги. Однако, для лучшего понимания структуры и тематики данной работы я посчитал необходимым обрисовать в общих чертах ее состав и содержание, хотя это явно противоречит как целям этого туманного произведения, так и намерениям его создателей. «Коренной текст *маргапхалы» делится на три длинных и один короткий раздел. Хотя это разделение произошло уже в процессе комментирования, нельзя не признать правильность такого похода, хотя бы из-за значительных отличий в содержании каждой из этих частей. Три более длинных раздела в общих чертах описывают «всесторонний путь» и носят следующие названия: (I) «Учение общее как для существования, так и для освобождения»; (II) «(Мирской) путь, на котором чакры склоняются к гармонии»; и (III) «Неземной путь, который вращает чакры». За этими тремя следует короткий раздел IV, который является всеобъемлющим заключением о сути ваджраяны и включает в себя описания глубокого, промежуточного и сокращенного путей, которые между собой имеют мало общего, за исключением того, все они рассматриваются только в общих чертах.
По целому ряду причин, самым важным с исторической точки зрения является первый раздел. Он включает в себя семь групп утверждений, две из которых описывают полные последовательные этапы пути, а остальные пять содержат критерии и конкретные указания по действиям на этом пути. В начале представлена идея тройственного проявления, в основу которой положена очень старая буддийская концепция. Если вкратце, то она включает в себя три составляющие: анализ природы существования; раскрытие сущности пути; и описание формальных условий пробуждения. Согласно буддийскому учению реальность видится по-разному тому, кто находится в положении невольника, тому, кто следует практике пути, и тому, кто достиг полного пробуждения будды. Первому существование кажется омраченным пороками, горестным и наполненным эмоциональной турбулентностью. Однако, для вставшего на путь внешней вид реальности уже становится очень изменчивым: теперь она иногда кажется чистой, а иногда загрязненной. В момент пробуждения вся реальность предстает как невозникшая, бессущностная и в состоянии абсолютной чистоты, поскольку на самом деле она никогда и не существовала, а лишь казалось таковой из-за неадекватности восприятия.
Данная схематизация использовалась еще в самых ранних трудах махаяны, таких, как например, одна из базовых работ этой традиции «Ратнаготравибхага», где зародыш Татхагаты (tathagatagarbha) в зависимости от этапа продвижения по буддийскому пути описывается сходными терминами: загрязненный, загрязненный-незагрязненный и устойчивый к загрязнениям110. В действительности махаянские корни этой схемы были определяющим фактором в деле институционализации «Коренного текста», поскольку система тройственного проявления стала стандартом для разъяснения начинающим изучение ламдре основных принципов буддийской практики. Кроме того, по своей сути она была подобна системе «этапов пути» (lam rim), достаточно хорошо известной по работам Атиши, Гампопы и Цонгкхапы111. Следует отметить, что высказывания о тройственном проявлении не содержат ничего, требующего исключительно эзотерического толкования, однако, семантические ассоциации этой формулировки, по-видимому, неизбежно (и желаемо для авторов работы) приводили именно к такой трактовке.
В отличие от I.A, в следующей части I.B первого раздела обсуждается тройственная непрерывность (rgyud gsum), которая подобна тройственному проявлению в части подхода к описанию пути. Если вкратце, то тройственная непрерывность является процессом, аналогичным тройственному проявлению, но опирается на идеологию эзотерического буддизма, а не на нормативные практики махаяны. Таким образом, здесь основа пути – это воззрение, которое может привести либо к загрязнению, либо к освобождению; физическое тело – это метод; посвящения – это средства для посева семян, которые должны взойти в виде практики, защиты учения и осознания проступков; а плод – это Великая печать (mahamudra). Язык, используемый в I.B, резко контрастирует с языком I.A, поэтому эзотерическая природа описываемой в ней тройственной непрерывности не вызывает никаких сомнений. По этой причине на данной модели основывается вся эзотерическая экзегеза ламдре, в то время как стратегия тройственного проявления стала нормативной для его экзотерического учения.
Мы еще вернемся к части I.B при обсуждении деятельности Сачена, а сейчас было бы уместным сделать краткий обзор действующей структуры пути ламдре. Во-первых, конфигурация пути в ламдре напрямую зависит от вида ритуального допуска к выполнению практики, в состав которого входят четыре посвящения (abhseka). Т.е. каждое посвящение позволяет йогину практиковать только конкретный вид медитации: йогу божества, внутреннего тепла и две разновидности сексуальной йоги. Даже плоды каждой медитации сконфигурированы в соответствии с полученными посвящениями, поэтому тот, кто практикует материал, утвержденный в полученном им посвящении, всегда следует указанному в тексте разделу с описанием стадий пути (bhumis 1-6, 7-10, 11-12 1/2 и 13) и реализует только назначенное ему одно из четырех тел Будды. Такое доминирующее положение посвящения, являющегося ключевой структурой для всех аспектов пути не имеет даже близких параллелей ни в одной другой из известных мне эзотерических буддистских традиций. Поскольку в «Коренном тексте *маргапхалы» все аспекты эзотерического пути организованы с привязкой к конкретному посвящению, такой ритуальный формат позволяет заранее создать базовую матрицу для всей дальнейшей практики.
Во-вторых, в тексте полностью отсутствуют какие-либо упоминания конкретного божества или мандалы. В нем просто указывается, что должен быть выполнен процесс зарождения (utpattikrama), но не сообщается какой именно. Таким образом, в этом вопросе «Коренной текст *маргапхалы» подобен некоторым другим теоретическим работам, самые ранние из которых датируются еще восьмым столетием (такие, как например, «Джнянасиддхи»). Но поскольку данный текст довольно специфичен в том, что касается внутренней системы йоги, его было крайне необходимо ассоциировать с какой-либо традицией йогини-тантры, и поэтому было решено, что ламдре следует практиковать либо с использованием системы Хеваджры, либо с системой Чакрасамвары112. Таким допущением, по сути, признавалось отсутствие упоминаний в этом тексте внешней мандалы, поэтому в большинстве случаев толкования «Коренного текста» вынуждены были опираться на систему Хеваджры. В то же время традиция признает, что внутренняя мандала, визуализируемая внутри тела, более точно соответствует внутренней мандале практик Чакрасамвары113. Таким образом, в одних местах данный текст весьма неоднозначен, в то время как в других очень точен, при этом в чем-то он является текстом системы Хеваджры, а в чем-то – Чакрасамвары. Эта двойственность может отражать как известные нам особенности характера Гаядхары, так и его искренние эзотерические убеждения, поскольку он имел опыт перевода текстов обеих этих систем.
Подобно другим традициям йогини-тантры в ламдре предписывается выполнение практик процесса зарождения с последующим переходом к процессу завершения. В стандартных случаях процесс завершения реализуется посредством двух фундаментальных практик: визуализируемого внутреннего йогического тепла («самопосвящение»: svadhisthana-krama) и сексуальной йоги (mandalacakra). Последняя может ограничиваться только визуализацией (jnanamudra) или же выполняться с физическим партнером (karmamudra). Различия между этими двумя фундаментальными практиками достаточно значимы, хотя и довольно тонки, и обе они основываются на внутренней системе визуализации, при которой тело рассматривается как вместилище нескольких внутренних центров, или иначе чакр (cakra), количеством от одного до пяти, в которых практикующий визуализирует различные конфигурации божеств и священных символов. Эта внутренняя структура представляет собой «алмазное тело» (vajrakaya) практикующего, и во многих йогини-тантрах она считается не следствием йогической практики, а естественным состоянием психофизического континуума отдельной личности, отражающим результаты деятельности его физических и ментальных функций, которые в обычных условиях плохо контролируются.
В ламдре в качестве основных аспектов ваджракаи выступают три мандалы: 1) физического тела с его каналами (rtsa lus dkyil ‘khor); 2) «качеств» или генитальной части тела с соответствующими буквами (yi ge bha ga’i dkyil ‘khor); 3) процессов, связанных с «нектарами» тела (khams bdud rtsi’i dkyil ‘khor)114. Первые две имеют как грубую, так и тонкую форму. Органы чувств и конечности являются грубыми аспектами физического тела, а его многочисленные внутренние каналы объединены в тонкую систему, транспортирующую различные элементы. Грубая форма мандалы «качеств» включает в себя половые органы человека, в частности пенис и влагалище, а ее тонкая форма состоит из букв (в основном используется четырнадцать), расположенных определенным образом внутри каналов. И наконец, в состав мандалы «нектаров» входят семя, кровь и другие серозные субстанции. Движущей силой всех процессов, протекающих в этих трех мандалах, является жизненный ветер, который помимо этого имеет тесную взаимосвязь с умом. Сосредоточив ум на ветре, можно направить его в центральный канал и преобразовать из активного ветра (karmavayu) в ветер мистического знания (jnanavayu). В упрощенном виде все это выглядит вроде бы просто и понятно. Однако в самой традиции дискуссии по поводу тонкого тела породили множество разнообразных и порой очень сложных для понимания мнений и моделей, опиравшихся на различные медицинские теории, известные йогические практики и авторитетные текстовые источники.
Хотя учения кагьюпы также включают несколько несопоставимых между собой йогических систем, большинство индийских буддистских йогических школ в целом едины во мнении, что процесс завершения должен основываться главным образом на двух вышеупомянутых фундаментальных практиках: «самопосвящении» психического тепла и мандалачакре сексуальной йоги. Это утверждение не относится к ламдре, которое предлагает третью базовую практику процесса завершения, которая носит название «алмазная волна» (rdo rje rba rlabs), хотя этот термин и вводит в некоторое заблуждение. Данная медитативная система представляет собой модификацию сексуальной практики мандалачакры, но при этом визуализация и манипулирование составляющими выполняется несколько иными способами. Ее цель состоит в том, чтобы добиться прекращения (rengs ba) колебаний (волн: rba rlabs), являющихся опорой раздельного восприятия объекта и субъект и, соответственно, концепции двойственности. С этой целью семенная жидкость направляется сначала в правый канал, затем в левый, после чего проходит по центральному каналу и там останавливается. После чего все три потока обретают покой, называемый «алмазной волной», что соответствует состоянию блаженства и пустоты, поскольку в нем больше не существует дуалистического различия между субъектом и объектом и прочих ложных восприятий. Практикуя «алмазную волну» медитирующий и его партнерша также четырежды достигают состояния восторга, а в завершении практики – четырежды состояния врожденного блаженства, т.е. того же самого, что и при выполнении практики мандалачакры. Однако, у «алмазной волны» данные состояния возникают при движении по центральному каналу от пупка до родничка, в то время как при использовании мандалчакры все это происходит при движении в обратном направлении, т.е. от родничка до пупка115. Следует отметить, что в те времена в Индии имел место спор о том, как возникают четыре состояния восторга: при восходящем или нисходящем движении по центральному каналу. Поэтому, возможно, что добавление третьей практика являлось попыткой ламдре объединить два разных стиля сексуальной практики, поскольку они по своей сути взаимозаменяемы116. Однако, авторитеты ламдре утверждают, что в практике «алмазной волны», в отличие от мандалачакры, возможно обретение состояний гораздо более значительного уровня, которые ведут к высшим достижениям. У успешного медитатора разнообразные жизненные ветра, серозные субстанции, буквы и формы сознания трансформируются в различные тела Будды с сопутствующими им формами мистического знания.
Содержание первого раздела «Коренного текста *маргапхалы» с I.C по I.F представлено в форме группы коротких утверждений без каких-либо пояснений или обоснований, и далее о них также практически ничего не сообщается. Смысл малопонятных конструкций и терминов этих частей: четырех эпистем (I.C), четырех аудиальных потоков (I.E) и пяти форм взаимозависимого происхождения (I.F), разъясняется в комментариях Сачена. Внятно изложены в тексте только шесть указаний (I.D), хотя ясность их описания также оставляет желать лучшего. При переводе этой работы я опирался на авторитетные разъяснения традиции и стремился отыскать смысл везде, где, как казалось, он, так или иначе, может присутствовать, однако, мой перевод все равно получился довольной трудным для понимания. Отдельно следует отметить, что заключительная часть первого раздела (I.G), посвященная защите от препятствий, диссонирует с остальным его содержанием и, похоже, относится к некоторым практикам, обсуждаемым в последующих разделах этого текста. В то время как в частях с I.A по I.F представлены величественные повествования о пути и его этапах, в I.G излагаются технические подробности защиты от конкретных препятствий, которые могут возникнуть на этом пути.
Согласно комментариям, в разделе I разъясняется суть тождественности состояния неволи (samsara) и освобождения (nirvana), а раздел II посвящен мирскому пути (laukikamarga), поскольку в нем описываются различные йогические медитационные практики, которые не требуют продвижения по этапам пути бодхисатвы. Раздел III относится к сверхмирскому пути (lokottaramarga), т.к. указанные здесь практики подразумевают достижение определенных стадий пути бодхисатвы, и кроме того в нем упоминаются уровни реализации. Подобно I.G., почти весь раздел II посвящен обсуждению различных аспектов практик: препятствиям на пути реализации, устранению таких препон, а также испытываемым при их выполнении чувствам, причем, как ни странно, многое в нем изложено очень понятным языком. Если вкратце, то этот раздел структурирован вокруг трех форм «слияния семени» (khams ‘dus pa), которые отличаются друг от друга только глубиной медитативного опыта. Более поздние авторы отождествляли эти три формы с тремя практиками стадии завершения: самопосвящением и двумя формами сексуальной йоги. Однако, такая интерпретация фигурирует только как возможный вариант в самых ранних комментариях, склонных к противодействию одноранговому представлению этих практик117. В разделе III разъясняются все те же цели, но только с опорой на десять стадий пути бодхисатвы, причем здесь их количество увеличено до тринадцати, поскольку эзотерический путь, согласно этому тексту, ведет к наивысшему уровню – оплоту Ваджрадхары, что является метафорой окончательного пробуждения. Данная структура является базовой для раздела III, т.е. играет ту же роль, что и три формы слияния для раздела II. Следует отметить, что обе эти основы полностью независимы друг от друга, поскольку уровни бодхисатвы являются сверхмирскими, а три слияния – мирскими. Однако, примечательным и одновременно обескураживающим выглядит присутствие в обоих этих разделах описания дополнительной структуры буддийского нарратива, состоящей из тридцати семи составляющих пробуждения (saptatrimsad-bodhipaksika-dharmah). Причем все становится еще более запутанным из-за добавления в эту структуру различных групп, таких как шесть памятований (II.F) и сверхпознание (III.C), не входящих в стандартные списки тридцати семи. Кроме того, следует отметить, что раздел III структурирован в соответствии с четырьмя посвящениями, т.е. в нем указывается, к каким плодам пути бодхисатвы и к какому телу Будды ведет то или иное посвящение.
Таким образом, «Коренной текст» демонстрирует нам мировоззренческую головоломку: доктринальная матрица, наложенная на другую доктринальную матрицу, которая в свою очередь наложена на еще одну доктринальную матрицу, причем каждая из них по-своему не совместима с остальными двумя. Поэтому, взаимоотношения между отдельными составляющими различных категорий порой превращались в серьезную проблему, которую приходилось решать как обучающему этим практикам наставнику, так и конкретному медитирующему. Несмотря на то, что данный текст является всего лишь набором искусственно созданных схематизмов, в целом создается впечатление, что его автор просто наслаждался изысканностью эзотерической мысли позднего индийского буддизма, и что-то подобное, наверное, ощущали и авторы махаянской «Абхисамаяланкары». Общепризнанный «Коренной текст *маргапхалы» вполне очевидно является произведением некого не известного нам автора (или группы авторов), который не побоялся взяться за объединение великих категорий эзотерической и экзотерической махаяны, но при этом не смог отказаться от краткости ради большей понятности. Однако, поразительное творческое начало этого смелого предприятия становится очевидным только после того, как различные системы рассортированы и упорядочены, а затем и проанализированы с помощью экзегетического наследия. Если между этим текстом и агиографией Вирупы и есть хоть что-либо общего, то это только игривость его компоновки, представляющей собой карнавал из не вполне понятных и беспорядочно разбросанных категорий.
Note to appendix 1
1. Sources for this appendix include mKhas pa Ide’u chos ’byung, 390-94; sBa bzhedzhabs btags ma, Stein 1961, pp. 87-89; Chos ’byung me tog snyingpo sbrang rtsi’i bcud pp. 451-53; mKhaspa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 467-81; rGya bod kyi sdepai gyes mdo, pp. 297.1.3 ff.; rGya bodyig tshang, pp. 458-70; and Bu ston chos ’byung, Szerb 1990, pp. 62-80. For the sNgon gyigtam me togphreng ba, the tables in Uebach 1987, pp. 39-43, are most helpful for that important source.
Notes to appendix 2
1. The sGa theng ma (162.4) organizes the exegesis of this section as the basis for a certain kind of appearance (rten: sentient beings, yogins, and Sugatas), the appearance (snang bar. impure, experience, pure), and the cause of the appearance (rgyu: defilements, concentration). Other commentaries follow a rten, rgyu, snangba scheme, which is reflected in the sentence syntax (Bande ma 6.1; Sras don ma 30.6; gNyags ma 23.3). The commentaries emphasize that the cause of pure appearance is not specified and is the “dissolution of the four movements” (gros bzhi thims pa\ Sras don ma 43.1; gNyags ma 25.5; sGa theng ma 170.5; Bande ma 8.2;) which the text later identifies (see sections I.B.3 and III.F) as the means of entering the thirteenth stage of Vajradhara. This explanation is not entirely satisfactory, for it ignores the strong parallelism of the text here, indicating that the means might be considered the sku gsung thugs mi zadpa rgyan gyi ‘khor lo, although this is doctrinally problematic.
2. This idea is quite old, being at least evident from the time of the Mahayanabhidharmasutra’s statement, quoted, for example, in Ratnagotravibhagabhasya to I.152: anadikaliko dhatuh sarvadharmasamasrayah | tasmin sati gatih sarva nirvanadhig- amo ‘pi ca || There is a beginningless element, the basis of all phenomena. When it occurs, all avenues of being occur, as well as the realization of nirvana. See Johnston (Ratnagotravibhaga), p. 72, n.; and Takasaki 1966, p. 290, n., for some references.
3. Here the commentaries indicate that the physical body is also the articulate continuity (bshad rgyud) as well as the continuity of method. Sachen explains that it is the articulate continuity as well, because it is the means to realize the potenrials in the causal continuity of the underlying consciousness (Sras don ma 50.5-6; sGa theng ma 183.5; gNyags ma 27.2-4; these do not entirely agree with one another). The explanation is minimally incomplete and indicates the problems of the early commentaries yet reflects the text in some sense, since the term “articulate continuity” is included in I. B.2.e.
4. The three sites (gdan : pitha according to Pod nag 162.2) are those of (a) the Buddhas and bodhisattvas, (b) the vidyas and the goddesses, and (c) the masculine and feminine angry guardians (krodha). These are recognized in four mandalas\ the colored dust mandala (rdul mtshon gyi dkyil ’khor), the gnostic beings’ mandala (ye shes kyi dkyil ’khor), the commitment beings’ mandala (dam tshiggi dkyil ’khor), and the mantric mandala. Alternatively, the sGa theng ma (177.3) lists five: the colored dust mandala, the physical mandala (lus dkyil), the qualities’ mandala (bhaga i dkyil ’khor), the bodhicitta mandala, and the absolute awakening mandala (don dam pa byang chub). Each of these mandalas is also employed during the causal consecration, that is, the fourfold initiatory events that occur: the vase, secret, insight-gnosis, and fourth initiations. Both the sGa theng ma (183.6) and Sras don ma (51.2,55.3) state that the first “etc.” indicates the vase consecration, while the second indicates the three higher consecrations. Other explanations are, for example, found in Bande ma 14.1-5. gNyags ma 28 is unclear on the text at this point.
5. Each of the four consecrations – vase, secret, insight-gnosis, and fourth – is divided into five further topics (a quinary for each), although at least one source adds a sixth topic before the five. See chapter 8, table 7, page 310.
6. For each of the consecrations there are five samaya, a term that includes both vows and sacramental behavior: contemplative, performative, consumptive, shielded, and inseparable samayas, according to the following chart (sGa theng ma 260.3262.5; Bande ma 63.2-64.3):
|
Samaya
|
Vase consecration
|
Secret consecration
|
Insight- gnosis
|
Fourth consecration
|
|
Contemplative
|
Utpattikrama
|
Svadhisthana- krama
|
Mandala cakra
|
Three vajra waves
|
|
Performative
|
Three realities
|
Four self-born
|
Four ascending joys
|
Four descending joys
|
|
Consumptive
|
Five nectars and meats
|
Emptiness and clarity
|
Bliss
|
Bliss and emptiness
|
|
Shielded from
|
Twenty-two breaches of commitments
|
All problems within the veins or wind
|
Six forms of semen release
|
Obscurations from ignorance
|
|
Inseparable
|
Never apart from the vajra and ghanta
|
Soft and harsh breath as appropriate
|
Physical or imaginary consort
|
Padmini consort, physical or imaginary
|
Notice that the samaya are, in part, a restatement of the twenty categories in the “four quinaries of the path” given in the previous section (chapter 8, table 7), especially noticeable in the contemplative and performative rows, which mimic the path and perspective of the previous diagram.
7. Five daka are listed to whom reparations are to be made: (a) the Vajradaka, who is the guru; (b) the Jnanadaka, which is concurrent with the sambhogakaya; (c) the Matrikadaka, who is the nirmanakaya; (d) the *Mamsabhaksanadaka, who is the Smasanadhipati; and (e) the Samayadaka, who are the adamantine relatives and friends in the sacred community. See sGa theng ma, 265.1-3, Bande ma, 65.3.
8. Depending on the variety of fault, offerings of external goods and their appropriation, along with the internal experiences of enjoyment, may be offered to a physical consort dressed in ornaments, or she may be offered to the teacher. Alternatively, for the more important transgressions of the five samaya noted in the preceding table, the five daka may be appeased. These variations are indicated by the “etc.” of the line.
9. This idea is an extension of the doctrine that in the Vajrayana, the defilements of the individual become the nature of his path: skyon yon tan du slang bai gdams ngag (Sras don ma, 22.6-23.2). Compare Hevajra-tantra I.ix.19 and see the discussion of the epithets of the Lam-Tras in chapter 8.
10. The four fruitional consecrations are identified as the four ways of dissolution (‘gras bzhi thim), those pertaining to the channels, the syllables, the nectar, and the vital air (rtsayige mdud bdud rtsi rlunggi ’gras) made possible by the four causal consecrations. These four result in the four (or five) bodies of the Buddha. See Sras don ma, 168.5-70.4; sGa theng ma, 275.2-76.5. There is an alternative discussion in sGa theng ma, 267.3-5, which says that an idea of fruitional consecration is known in nonesoteric Buddhism as well, a recognition that the idea of abhiseka first arose to show that a bodhisattva was coronated as the successor of the Buddha(s); see Dasabhumika, chapter 10, passim.
11. Three extremely important lists are mentioned in passing but are not actually specified in this first part of the Lam ‘bras rtsa ba\ the four epistemes, the four aural streams, and the five forms of interdependent origination. The first list (sGa theng ma, 276.5-80.2; Sras don ma, 170.5-75.5) indicates the authoritative nature of knowledge gleaned from (a) the scriptures, which are the word of the Sugata (bde bar gshegs pa i bka yang dag lung gi tshad ma); (b) the instructions of the guru (rang gi bla ma rdo rje slob dpon gyi nyams kyi man ngag tshad ma); (c) the experience gained in yoga (rnal ‘byorpa bdag nyid nyams myong rjes su dranpai tshad ma); and (d) the interdependent continuity as sequential (dngos po’i mtha’ rten cing ‘brel bar ‘byung ba lo rgyus kyi tshad mao). The final one needs some comment. It is interpreted in Sa-chen’s commentaries simply as pratityasamutpada defined in a time-space continuum, that is, not the interrelation of events in the horizon of present experience but through time as well, definitely in keeping with normative Indie descriptions of the doctrine. This definition is explicitly encountered in section I.F.5. In the exegesis for that section, Sa-chen specifies that lo rgyus tshad ma indicates the gradations of realization, from the mundane path through the absolute awakening of the Buddha (sGa theng ma, 301.3-5, and see the note to I.F.5). However, the later tradition almost invariably interprets this as the authoritative nature of the lineage and uses this to justify giving the lineal hagiographies (lo rgyus) pride of place in the bundled materials comprising the Lam-’bras, and the lineage intersection is broached in a single note in Sras don ma, 203.4-5: “And in one sense, this episteme indicates the realization of interdependence, so that from the Adibuddha Vajradhara until one’s own teacher, there has been the lineage of instructions from mouth to ear.” I have not seen this application of pratityasamutpada in Indie materials. While pratityasamutpada certainly does define the interrelation among elements composing the ostensible continuity of a person through the previous, present, and future fives, I have never seen it represented as the continuum of relations among lineal teachers, meant to include their hagiographical identities. Conversely, lo rgyus clearly means the chronology of events and points to a genre of literature: the annals. Perhaps the Sa-skya use indicates a greater semantic field in the tenth and eleventh century, which was excluded as the term became completely identified with the hagiographical genre. For the context of the esoteric appropriation of epistemological language, see Davidson 1999; for the tshad ma bzhi as appropriated by bKa’-brgyud-pa masters, see Martin 2001b, pp. 158-76.
12. Generally Sa-chen’s commentaries invert the order of the members of this section, dealing with perspective first (I.D.4-6) and then with meditation (I.D.i- 3). The ’A ‘u ma, 202-8, is a curious exception to this practice, for it retains the order as given in the Lam ‘bras rtsa ba. According to sGa theng ma, 287.3-4, the three on perspective apply to pacific contemplation (samatha) as the antidote to obscurations on the defiling emotions (klesavarana), whereas the three concerning meditation (bsamgtan : dhyana) apply to superior insight (vipasyana) as an antidote to obscurations about the knowable (jneydvarana).
13. The gNyags-ma, 56.3-4, fists the three as the mode without the fault of incongruity with the nonduafity in thusness (ngo bo nyid la zung jug ‘gal dus skyon med), the mode without the fault of incongruity with the emptiness and clear fight of self-originated great gnosis (rang byung ye shes chen po gsal stong ‘gal ‘dus skyon med), and the mode without the fault of incongruity with the bliss and emptiness of simultaneous joy found in the natural and the pure (lhan skyes dang shin tu mam dag la lhan cig skyes pa’i dga’ ba bde stong ‘gal dus skyon med). The poisons here are enumerated as eight; sGa theng ma, 287.5.
14. sGa theng ma, 289.4-5, says that members of each of the categories should be avoided, for example, onions, and specific members should be enjoyed, partaken of, consumed, experienced, and other forms of consumptive significance under the general aegis of “relied on” (bstenpa : *alambayitavya).
15. The four channels of existence are the two main veins on either side of the body, which separate into four below the navel, a front and a back branch for each of the two. The cakras are rather complex in the Lam-’bras system: within two the bodhicitta is nonmoving (acala : mig.yo), but within four it is mobile. Beyond them, the twelve great joints of the body (tshigs cheri) have their own cakras. The “others” reference the thirty-two subsidiary veins, and their thirty-two knots; sGa theng ma, 293.5-94.4.
16. Section I.D.3.b refers to the central or the “nirvana vein” (mya ngan las ‘das pai rtsa), whereas section I.D.3.a identifies the release of the samsara veins. The line indicates that only one knot is untied on both the first and twelfth stages of the bodhisattva. Yet each of the intermediate stages (2-11) is responsible for the release of three knots, at the beginning of each stage, in the middle of each stage, and at the conclusion of each stage. The term la dor ba found in sections I.D.3 and I.D.6 is rare. It appears connected to la zlo ba, la zla ba, and related cognate forms (e.g., la zlas pa). The Tshig mdzod chen mo defines the former as an old (rnying) term, signifying a decision (thaggcodpa) or conclusively surpassed an obstacle (la brgal zin pa). This latter is probably the metaphorical nexus, crossing over (rgal ba /zlo ba) a mountain pass (la). Its semantic field indicates the conclusion or accomplishment with finality and, in the Sa-skya usage, has a decisiveness to its cognitive value, indicating that the individual has arrived at this conclusion with intellectual as well as meditative effort, since it is applied to the environments of both contemplation and perspective. Here, for example, it indicates that when a bodhisattva stage is accomplished by untying one or three knots, then the bodhisattva does not reverse down the path; sGa theng ma 295.5; compare Sras don ma, 183.1, 191.2-197.5, and sGa theng ma, 287.2.
17. The poisons here are two: ignorance and the pursuit of conceptualizations; sGa theng ma, 281.2. The definition of jug sel lam in sGa theng ma, 283.5 – 6, involves the use and understanding of rudimentary breathing techniques.
18. This statement is the essence of the esoteric technique and is ostensibly meant to attract those entrapped in the enjoyment of the senses; sGa theng ma, 285.1-2; and rGyud sde spyi i mam par gzhagpa, SKB II.7.2.6-9.1.2.
19. For the Sa-skya tradition in general and the Lam-’bras in particular, this statement denotes the recognition of three levels of realization: the elements of reality for all beings are constituted by mind; that very mind is illusory; and the illusion is without self-nature. See sGa theng ma, 286.5-6.
20. The second of the important unarticulated lists in this section, the snyan brgyud bzhi, are regarded by nearly all Sa-skya authorities as one of the great defining strategies for the Vajrayana in general and the Lam-’bras in particular. Briefly, (a) the nondiminution of the river of consecration (dbanggi chu bo ma nub pa) indicates that the consecration has been maintained undiminished during the ritual of consecration, during the visualized consecration practiced daily, and through the receipt of the fruits of consecration at the moment crossing through the twelfth- and-a-half stage of the Buddha to the citadel of Vajradhara. (b) The nonseverance of the stream of benediction (byin rlabs kyi brgyud pa ma nyams pa, or ma chad pa) indicates that the teachers of the tradition have themselves retained the four conclusions of practice, experience, benediction, and accomplishment, (c) The nonreversal of the thrust of instruction (gdams ngaggi sarga ma log pa) would seem to indicate – and was explained to me byThar-rtse mkhan-po – as not confusing the order of instruction, but Sa-chen’s commentaries unequivocally declare this to be the capacity of the lineage to instruct the individual on how signs of impediment may be turned into ornaments of accomplishment. The problem is with the word sarga, an Indie term, normatively meaning a category in a progression, a definition that recognizes multiple hermeneutic strategies. Finally, (d) the ability to satisfy the concerns of the faith (mos gus kyi bsampa tshimpar nuspa) denotes the capacity of the teacher to provide correct instruction and motivation, so that the student comes to the conclusion that the teacher is in reality indistinguishable from the very Buddha himself. See Sras don ma, 197.5-201.3; sGa theng ma, 296.2-99.2; and Grags-pa rgyal-mtshan’s short work on (a), his (dBang dus dang lam dus dang mthar phyin gyi lam ‘bras bui dus kyi) ’Gros bzhi thimpa contained in the Pod ser, 336.539.6. For its hagiographical background, see chapter 1.
21. This section is even more peculiar than the previous allusions to important categories in that it is quite extensive yet never identifies the five pratityasamutpada, which it contextualizes without specific identification. According to the commentaries ascribed to Sa-chen, the five are the external, the internal, the secret, the reality, and the final interdependent origination (phyi, nang, gsang, de kho na nyid, mthar thuggi rten cing ’brel bar ’byung ba)\ Sras don ma, 204.5 – 205.2; sGa theng ma, 301.3- 302.6. The discussion in I.F is about seven circumstances contextualizing these forms of interdependence: (a) their basis for actualization; (b) their conclusion; (c) their self-nature; (d) among the four paths (the incomplete awakening of sravaka, pratyekabuddha, bodhisattva, or the great awakening of the Buddha), to which they apply; (e) among the four epistemes, to which they apply; (f) their object of realization; and (g) the forms of interdependent origination that are referred to here.
22. As is clear from the discussion of I.C, the term lo rgyus principally indicates a sequence of years and has come to mean a genre of literature: traditional annals. Here, the text refers to a sequence of phenomena, and in Sa-chen’s commentaries, to the sequence of realization, from the mundane path, through the stages of the bodhisattva, concluding with the final realization of Vajradhara. See sGa theng ma, 301.3- 5; Sras don ma, 203.1-5.
23. The Sras don ma, 205.4-213.5, seems to read this and the corresponding line in I.G.2 as rnal ’byorpa i lam gyi bar chad bzhi ni, indicating four obstacles for each of the two paths. This is an important interpretation, and Sa-chen states that the yogin involved in skillful means has four obstacles and eight protections (four using skillful means, three using insight, and one using interdependence), as does the yogin in I.G.2. The circumstances common to both, I.G.3, has fourteen protections for this obstacle. This means there are thirty forms of protection in all. See sGa theng ma, 303.2-3; Sras don ma, 205.4-5. Clearly, this is a topic with multiple consequences proposed for the psychological and spiritual health of the yogin, and separate treatises were written from Sa-chen onward to respond to threats to the yogin’s health and practice through the agency of these obstacles. See the materials collected in the Podser, 166-71, the Pusti dmar chung, 104-91, and the Man ngag gees pa btuspa, 268-71.
24. The two paths are the generation and completion paths (utpatti-sampanna- krama), outlined in chapter 1. For each of the four categories of consecration discussed by the Lam-’bras teachers, there are four views and four accomplishments; see section I.B.2.b and table 7 in chapter 8. The signs are the three varieties of corporeal, dexterous, and vocal, which are called for at the time of consecration or the tantric gathering (ganacakra) but which are not universally employed. The ten paths, etc., indicates the two paths of utpatti-sampannakrama, and the previously mentioned perspectives and final positions. Later, the text discusses the dedication of the “four awakenings” (sad ma bzhi, II.D) to the category of the path of insight, but the Sras don ma both acknowledges this statement and extends its application to protection applied to both paths; see Sras don ma, 213 ff.
25. The commentaries identify fourteen required forms of protection that are common to both kinds of yogins: those pertaining to the six veils, the six forms of seminal fluid loss, and the two obscurations from which protection is needed. These protections apply to both the paths of skillful means and insight; see sGa theng ma, 319.1-33.5; Sras don ma, 222.5-41.4.
26. The interpretation of ‘khor lo ‘cham pa is difficult because it is described as both a process and a result. It seems to be an earlier spelling of ’jam pa, especially as used in ‘jam khrid, “to lead by coaxing or cajoling,” or perhaps from ’chams pa, “to harmonize.” The most developed description is that found in Sras don ma, 18.1-3: “coaxing of the cakras’ indicates that leading up through the worldly path, the four – the vein/physical mandala, the letters/bhaga mandala, the fluid/bodhicitta mandala, and their pervading winds – intermittently the interdependant origination is sometimes correct and sometimes not. When it is correct and they are in harmony together (’cham), then good experiences arise. But when they are not correct, then one needs to coax along (or harmonize, reading ’cham for ’char) the collection of interdependant elements. This is similar to an unfinished water mill or an unfinished wagon wheel (which needs coaxing to move when out of kilter).” A similar description is found in sGa theng ma, 333.5-34.1. While Thar-rtse mkhan- po explained ’cham pa to me in the sense of “to dance,” it also has a subsidiary sense of bringing disparate elements into harmony or the gentle methods to lead it to that state. The commentaries are unanimous in declaring this second section to be entirely occupied with the mundane path (‘jig rten pa i lam), while the third section is supermundane (jig rten las das pa), and that is where the cakras turn easily (‘khor lo bskor ba). Whatever the precise semantic value of ’khor lo ‘cham pa, it is clear that it was understood to apply to the practice of the yogic regimen by those yet to accomplish the first stage of the bodhisattva.
27. The commentaries identify more than one list of “four fruits” here, the first being based on four of the five fruits known to the Sarvastivada Abhidharma and subsequently used in Mahayanist analysis: visamyogaphala, vipakaphala, nisyanda/sahajaphala, purusakara/vimalaphala (gNyags ma, 71.2 – 3); these are applied to the mundane path. Moreover, four fruits of the first of the accomplishments (grub mtha dang po) are listed along with fruits applied separately to each accomplishment of the four abhiseka. It is unclear which of these many lists of the four fruits were referenced in the text; see Sras don ma, 254.1-58.2; sGa theng ma, 345.4-49.4.
28. The “three means of coalescing the essence” (khanu du lugs gsum) identifies three ways in which experience is developed by those on the path: those who obtain their experience based on the maturation of practice accrued in a previous lifetime (las ’phro can ranggis khams ’du ba), those who experience based on their devotion and interest (mos gus can byin rlabs kyis khams ‘du ba), and those who experience based on their effort and exertion (brtson ’grus can ‘bad rtsol gyis khams ‘du ba). To each of these are applied the seven categories of the seven balanced modes (phyogs medpa). In each, the first of the balanced modes is that of the means of coalescing the essence itself. So gNyags ma, 73.1-2: “awakening to the balanced maturation accrued from a previous lifetime, the vital wind is turned back in a balanced mode. Accordingly, the fire of internal heat blazes in a balanced mode, the channels experience discomfort in a balanced mode, the essence is coalesced in a balanced mode, the defiled super consciousness (sasravabhijna) arises in a balance mode, and the undefiled super consciousness (andsravabhijna) arises in a balanced mode. ”The other two categories of “coalescence of the essence,” “through devotion and interest,” and “through exertion and effort,” are practiced in this way as well. The gNyags ma continues to explain that if one goes through all twenty-one of these levels, then supreme success will certainly be obtained in this lifetime. Similar explanations found in Sras don ma, 258.2-63.1; sGa theng ma, 349.4-51.6.
29. The use of normative Mahayanist categories to explain esoteric practice is a peculiar emphasis of the Sa-skya system and is seldom more curious than in this application. The gNyags ma, 69.6-70.1, explains: “If one traverses the path according to the thirty-seven elements of awakening, then at first the four bases of psychic power act as an antidote to taking the phenomenal world as an impediment [literally, an enemy]. Then the four bases of recollection act as an antidote for those taking emptiness as an impediment. Finally, the four correct renunciations operate as an antidote for those overcome by bliss. These twelve eliminate the mundane path. As for the supermundane path, up through the sixth level of the bodhisattva, there are the seven factors of awakening, on the next four levels operate the five faculties, on the next two operate the five powers, and the eight consciousnesses based in the 12 – i/2th level are the eight-fold noble path. Thus the root supermundane path is cut off by the twenty-five factors of awakening.” Yet we may note that the use of these categories are in practice redefined to describe esoteric practice, fitting the new esoteric wine into the old Mahayanist bottles.
30. According to the commentaries, this section is the middle of a fist of “three ways the mind is stabilized” (sems gnas lugs gsum)\ the mind is stabilized by reversing the vital wind (rlung log pas sems gnas), by the self-empowerment of vital wind and mind (rlung sems bdag byin gyis brlabs pas sems gnas), and by the complete intermingling of the mind and the physical basis (rten mnyam du ‘drespas sems gnas)] Sras don ma, 263.1 – 3; sGa theng ma, 351.6 – 352.5.
31. The four rddhipada are normative to Buddhism, but here they are clearly forms of internal wind; compare Gethin 1992, pp. 82-85; Dayal 1932, pp. 104-6; sGa theng ma, 353.4-5; Sras don ma, 266.2-3.
32. “Undissipated cultivation” is the translation of sgompa mi ‘chor ba (perhaps *asamharya-bhdvana, but with no attestation seen), an important term in the Lam- ’bras. The term is used as a qualifier in three other contexts: bsgompa mi ‘chor ba’i phyi i rten ‘brel in I.C, bsgompa mi ‘chor bai dranpa nye bargzhagpa bzhi in II.E, and bsgom pa mi ‘chor ba i yang dag par spong ba bzhi in II.F. The most complete definition is provided by the Sras don ma, 266.1-2: “Undissipated cultivation is the harmonization of interdependence within oneself so that it is known as the contemplation itself. Undissipated cultivation is the arising of experience without reference to other methods which have in fact no means for the harmonization of interdependence within one’s body. Because of the essential nature of the internal interdependence, and because it is known as that which is the contemplation of the path, it is called undissipated cultivation.” This is a clarification and expansion of the definition found in the sGa theng ma, 353.3-4.
33. The commentaries do not exactly agree with the evident sense of the text. The masculine, feminine, and neuter winds are treated as the activities (‘jugpa) of karmavayu, as is thod rgal ye shes me ‘bar bai rlung, making this the fourth. Indeed, the commentaries separate the rdzu ‘phrul gyi rkang pa bzhi (as a different set of rlung based on the four elements of earth, wind, water, and fire) from the subsequent set, even though it appears clear that this is the significance of the text, and attempt an integration of the various lists of vital wind; see sGa theng ma, 353.4; Sras don ma, 266.2 – 3; gNyags ma, 74.
34. Thod rgal ye shes kyi me ‘bar ba. Thod rgal became one of the grand operative terms of the sNying-thig movement within the rDzogs-chen path of the rNying-ma. Clearly, those communities wishing to define the hermeneutics of the psychophysical yogic practices employed this term, and they were evidently drawing on its use in the context of the Prajnaparamita literature. While there is a modern disinclination to see these individual applications of the word thod rgal as similar in any manner, such disinclination apparently stems from the institutional desire to harden boundaries.
35. The “implement of the winter wind” is glossed as its frigid bite; see gNyags ma, 74.1. With the middling and final “coalescence of the essence,” the discomfort will diminish, and eventually only benefit will remain. The significance of the term rtsa dral is somewhat difficult, since the normal meaning of dral ba is “to burst or render apart” and is cognate to ral ba, “to tear,” “to be slashed by a sword.” Here, though, the early use of dral ba, the perfect participle, is the action of opening channels (rtsa dral) or loosening knots (mdud dral); compare sGa theng ma, 424.5.
36. Sems gnas is glossed as sems nyams. Sras don ma, 269.2; sGa theng ma, 355.1; gNyags ma, 75.1.
37. The five primary vital winds are the prana/srog dzin, the samana/mnyam gnas, the apana/thur sel, the udana/gyen rgyu, and the vyana/khyab byed. See Guenther 1963, p. 271, for these equivalents, although reassessment seems overdue. The subsidiary vital winds are the rgyu ba, the rab tu rgyu ba, shin tu rgyu ba, the mngon par rgyu ba, and the yang dag par rgyu ba. Each of these ten is understood according to the seven determinants of its names, locus, function, discomfort encountered when constrained, meditation, fault of its stiffening, and method of preparation; gNyags ma, 7 6.4. This results in the seventy instructions (man ngag: upadesa) of the vital wind. The commentaries introduce around this area of the Lam ‘bras rtsa ba a new discussion, which is not directly reflected in the text, concerning the seven essentials of the practice of vital wind (rlung gi nyams su blang ba’i gnad bdun bstan pa)\ Sras don ma, 269.6-93.1; sGa theng ma, 355.4-68.6.
38. gNyags ma, 80.1-2, indicates that the essences open up like the unfolding of butter in curd being churned and that these nuclear essences become fused to their respective cakras (known as “citadels”) by the combination of their presence there and the activity of contemplation, in the way that the samayadakas and the jnana-dakas become fused and empowered; compare sGa theng ma, 369.5-70.1.
39. This differentiation is according to the three categories of “heat”: that preceded by conceptualization (mam rtog sngon du song ba’i drod), that relating to the coalescence of essences (khams dgu duspa’i drod), and that heat arising from the incineration of the seminal fluid and its coalescence (thig le ’bar xhing duspa i drod)\ each of these is further divided into the divisions of visions, dreams, and physical experiences; see Sras don ma, 36.5-37.6; gNyags ma, 81-84; sGa theng ma, 371.4-6. Later, II.C, “undissipated cultivation,” is equated with the external dependent origination and defined in the context of II.E with the preponderance of mental control (Sras don ma, 359.1-2): “Concerning undissipated cultivation, beyond this point the body and speech are accorded less importance and mind becomes the chief component, so we call the cultivation undissipated.”
40. According to the gNyags ma, 81.3, this section begins the first of the three ways of explaining the path (lam khrid lugs gsum): that by means of vital wind (rlung gis lam khrid), that by means of the essential nectars (khams bdud rtsis lam khrid), and that by means of the channels and letters (rtsa yi ges lam khrid). This is one of the two principal hermeneutical techniques in the path, which is begun here with the mundane path and completed later under different conditions with the supermundane path; gNyags ma, 67.6-69.2; sGa theng ma, 334.6-38.5; Sras don ma, 241.6-47.2.
41. Again, we must rely on the commentaries to make sense of the text. The gNyags ma, 81.2-83.3, explains that when one or another of the vital airs associated with one of the five elements becomes empowered and supreme, it provides the three: physical experience, dreams, and visionary experience. Not only does the empowerment of the vital air of fire cause the vision of the burning of the triple world, but one also dreams of a city of fire, and one’s bodily hair and skin feel hot and sensitive. Not only does the empowerment of the vital air of water make one feel cold, but one also dreams of a boat on the ocean and has visions of the four oceans, etc. Not only does one dream of flying, but also one feels like one is racing like a horse and dreaming that the whole universe is like a whirlwind. The commentaries also rearrange the text, by pulling up from below the phrase nam mkha dang mnyam pa dang spu Jus bde as a form of experience of vital wind to be explained with the other forms of vital wind. So not only does one have the physical sensation of pleasure in the follicles, but one also experiences a vision of predominant emptiness and dreams of unhindered appearance in all directions. All five elemental vital winds accordingly have three experiences, making the fifteen experiences. These are substantially different from another list of fifteen experiences listed in the context of the “triple appearance”; see Sras don ma, 34.3-39.5. We may note that the element of earth has been left out of the discussion in the Lam-Tras text and must be inferred; gNyags ma, 83; sGa theng ma, 375.6.
42. The term spu lu(s) is apparently unattested in our lexicons; I take it to indicate the follicles of the bodily hairs (spu) taken as a whole, encompassing the entire surface of the skin. We note again that the commentaries reorder the discussion and that this last fine is considered in conjunction with similar discussions after the element water and before considering all four great elements together, for example, sGa theng ma, 375.1.
43. gNyags ma, 84.3, has the second of the three ways of explaining the path, that through the essential nectars (khams bdud rtsi’i lam khrid) beginning in this section and completed later in the supermundane path.
44. Finally, gNyags ma, 85.2, has the third of the three ways of explaining the path, that through the channels and letters (rtsa yi ges lam khrid) beginning in this section and also completed later in the supermundane path.
45. This continues the explanation of the path, but through fourteen letters (rtsa yi ge bcu bzhi’i lam khrid). The importance of this section is not immediately evident in either the text or in such a modest title as “fourteen letters.” However, both the Sras don ma (323.6-34.4) and the sGa theng ma (386.4-400.2) use this section as a heuristic to express the fundamental subtle arrangement of the veins, the letters, and the operation of the subtle body, technically known as the “natural condition of the vajrakaya (rdo rje’i lus kyi gnas lugs).
46. gNyags ma, 89.5, says that this means the experience of all four of the levels of dhyana found in the world of form.
47. gNyags ma, 91.1-2, following the same theme of the wind, explains that the intermediate level of mundane practice brings lesser discomfort, like the cold suffered from the spring wind.
48. These visions of the intermediate coalescence of the essence (khams ‘dus pa bar pa) are real in a way that those of the first coalescence are not but do not have the transcendental valence of the final coalescence. Technically, these are given different nomenclature: sGa theng ma, 385.6-86.1: “These [visions] in the case of the first coalescence are uncertain and erroneous appearance; for the intermediate they are certain and visionary appearance; for the final they are very certain and arise as the appearance of clarity.”
49. One of the more curious titles, given that this section is so short.
50. While the Sras don ma and sGa theng ma agree that these letters are the fourteen letters of the bha ga’i dkyil ’khor, they do not precisely agree on the arrangement of the letters and even observe that there is no common opinion in the tantras about the location of the bha ga i dkyil ‘khor. See Sras don ma, 323.6-34.2; sGa theng ma, 386.1-400.2; see also the Bha ga’i yi ge bcu bzhi in Pod ser, 183-85. Generally, however, the section refers to the fourteen letters at the base of the spine where the three major veins come together in a triangle. There the veins form knots or ganglia (mdud), which appear in the shape of letters: ОМ, AH, HUM, with letters representing the six realms of existence in close proximity, and five other letters (mostly inverted) below these, one of them being KSA. The letter RA, however, is not noted, and there is no explanation why the text indicates this – although it appears clear that it relates directly to demons (srinpo : raksasa). These letters were first mentioned in the commentary to I./.c.ii, but not directly in the text itself. The demons, etc., means that all demons and demonesses are available and are also seen within these knots, as are images of tigers and snakes, corresponding to these items in the external world; Sras don ma, 344.1-5,346.4-48.6. “That which has a bell” indicates the central channel, since the lower end of the central channel is bell-like, but the sound emitting from it is like the sound of a bee buzzing around a flower, not the sound of a bell; sGa theng ma, 406.4.
51. Bhavagra is frequently taken, as it is here, as the limit of mundane existence, to be transcended with the supermundane path; see Abhidharmakosa VI.44-45, 73.
52. The five paths are those of accumulation, application, vision, cultivation, and the final path; the ten stages are those of the bodhisattva. A useful demonstration of the relationship of these two arrangements can be found in Conze 1957.
53. The ternaries are the three kinds of experiences occurring to meditators: signs, visions, and dream experiences; each of these is graded by the three levels of intensity (drod) on the path, lower, medium, and supreme; see Sras don ma, 352.2. Here undissipated cultivation is simply identified with the external dependent origination; for its definition, see note 32.
54. This explanation is consistent with other interior explanations found in esoteric commentaries; see Ratnakarasanti’s Mahamayatantratika Gunavati, 3-4. The definition of a dakini given in the Sras don ma is interesting: “Traveling and journeying to the spaces in the citadels of the precious veins, it is called dakini.”
55. Here and in II.F, the text invokes the well-known four aids to penetration (nirvedhabhagiya-dharma): heat (usmagata), zenith (murdhan), tolerance (ksanti), and highest worldly dharmas (laukikagradharma). For this material, see Sravaka-bhumi, Shukla 494.20-500.15. Our text, however, interprets these in a very idiosyncratic manner, not in a manner familiar to the Abhidharma or Prajnaparamita literature. Zenith, for example, is equivalent here to the zenith of existence (bhavagra), and tolerance is identified with the tolerance toward unarisen phenomena (anutpattikadharmaksanti). These interpretations are highly irregular, and the former specifically calls into question the Indie nature of this section of the text. We note that Sras don ma (27.3, 357.4) and sGa theng ma (414.2) read bskyang for gtang, that is, “guarding” for “accepting.”
56. Another group of items alluded to in the text but not enumerated. All the commentaries discuss this item in relation to I.G.2, since the yogin occupied with insight is first mentioned there. The four awakenings (sad pa bzhi) are those by experience (nyams kyis sad pa), by meditation (ting nge ‘dzin gyis sad pa), by mantras (sngags kyis sad pa), and by the combination of the four perspectives and the four accomplishments, as indicated in table 7, chapter 8, on the twenty aspects of the path (ltagrub gyis sad pa). See Sras don ma, 213.5-18.5; gNyags ma, 63.4-5; sGa theng ma, 311.2-15.2.
57. Devaputra Mara is the last of the standard grouping of the four Maras, including the Maras of death, the aggregates, and the defilements; see Sravakabhumi, 343-45. This last form is the Mara identified with the divinity tempting the bodhisattva immediately before awakening. See Lalitavistara, 218-34, 254-56 (esp. 22.9); Dayal 1932, pp. 306-16. The difference between yogins occupied with skillful means and yogins occupied with insight was discussed earlier in I.G.1-3.
58. Another group of four not identified in the text, although this group is far more standard, as the four bases for recollection: body, feelings, mind, and events (kayavedanacittadharmasmrtyupasthanani) of normative Buddhism that form part of the thirty-seven branches of awakening. See Dayal 1932, pp. 82-101; Pagel 1995, pp. 381-89; Gethin 1992, pp. 29-68. We may note, though, that the explanation of these in the Lam-’bras commentaries is exclusively esoteric. The four bases for recollection are thought to be the antidote suitable for a yogin experiencing emptiness as a problem; Sras don ma, 359.3.
59. During the generation stage, the yogin dissolves himself into emptiness and then must regenerate himself as a divinity out of emptiness in the form of the samayasattva while summoning the jnanasattva. The text makes a case for the equivalence of both meditation on form and emptiness – the equal divisions – and this section focuses on those for whom emptiness has become an impediment. We also may note that the “chosen divinity” (istadevata) is unspecified, indicating that the association of the text with the Hevajra system is purely adventitious, although in keeping with the principles of the yogini-tantra practices.
60. This section is somewhat chaotic and multidimensional, causing the commentaries generally to introduce the section as the fruit of the previous section, whereas at the end it is sometimes identified with the four bases of psychic power; compare Pod nag ma, 138.5, Sras don ma, 378.6, sGa theng ma, 341.6.
61. The discomfort of the practices no longer afflict the channels of the yogin, so the winds are without the bite associated with winter.
62. The six recollections are not part of the normative list of the bodhipaksika- dharmas and are not included in the twelve bodhipaksika-dharmas classified in the mundane path in the Lam-’bras. Here they are simply defined as the objects of the six senses; Sras don ma, 367.4.
63. Note that the ttvmprahana (spong ba) is interpreted here according to its literal and evidently erroneous etymology, rather than according to its normative Buddhist reading as equivalent to pradhana, primary effort. Compare Dayal 1932, pp. 101-3; Pagal 1995, pp. 397-99; Gethin 1992, pp. 69-103.
64.I thank Cy Stearns for pointing out to me that the commentaries interpret “12” as if it were “20,” apparently in the interests of social propriety, for all versions of the text agree on a twelve-year-old girl. A padmini is considered ideal, especially for the practice during the fourth consecration; she has images of a lotus (padma) on the palms of her hands and the soles of her feet and naturally exhibits the moods of happiness, joy, and the like. The yogin searches for the vein by a surprising ritual involving strapping the young lady to a saddle, tying cloth around parts of her torso, and working a greased oblong ball of felt and cotton up her rectum. This is supposed to bring the convergence of the three channels in her vaginal passage and cause a pointed “nose” to emerge from the central channel. This “dakini’s nose” is like a pointed spike and is supposed to penetrate the head of the disciple’s penis while engaged in the intercourse required for the fourth consecration in this system; sGa theng ma, 423.1-24.5; Sras don ma, 364.4-66.1.
65. Here, as elsewhere, there are insufficient grammatical markers to reveal the significance of the text without the commentaries. Sras don ma, 370.1-6; sGa theng ma, 424.3-25.3 state that the A comes from the heart area and merges with one of the A letters (phyi dbyibs A) among the fourteen just noted. The two forms of vital wind simply indicate that all the ten primary and subsidiary winds are also forced into the central channel, and the “seasoned intelligence” means that they disciple has practiced this for some time.
66. Sras don ma, 370.6-71.1; sGa theng ma, 424.6-25.3: the body (= right channel) and the speech (left channel) merge with the mind (= central channel) in a configuration reminiscent of the fully cross-legged position referred by Hathayogins as the “lotus position,” but often by esoteric Buddhist representatives as the vajra position.
67. The “A of external form” is one of the fourteen letters in the pelvic region and represents the “nose” at the end of the central channel; Sras don ma, 379.3. “Essence” indicates the experience of the emptiness of essence; Sras don ma, 379.6-80.1. “Proper nature” signifies the experience of nonduality; Sras don ma, 380.1. And “characteristics” indicate the experience of the provisional reality of skillful means, which is summarized as superimposition; Sras don ma, 380.1.
68. Each of these sections is predominantly composed of signs: the signs of reality (de kho na nyid kyi rtags : *tattvacihna), the internal signs and the external signs. The commentaries point out that these are the reverse of the natural order, as we have seen elsewhere, for example, I.D.; Sras don ma, 385.2-3. Here, the marks of reality are metaphors: the four citadels for the four cakras (navel, heart, throat, head) and the three ladies for the three principal veins; Sras don ma, 387.6-88.1. They have been equated with the seven factors of awakening (saptabodhyangani), which are normatively referred to as the penultimate of the seven categories of the thirty-seven limbs of awakening. Compare Dayal 1932, pp. 149-55; Genthin 1992, pp. 146-89.
69. sGa theng ma, 436.4-6, indicates that this is the method for eliminating the gross and moderate conceptualization that is to be eliminated.
70. Note that the Lam-’bras follows the model given in the Dasabhumika that increases the realization by powers of ten for each level of the bodhisattva, starting from the hundred of the first level. The verb sgul ba normatively indicates agitation or trembling and may render some form of the Sanskrit √kamp, “to vibrate.” The descriptive apparatus, both here and later in the text, describes the capacity to see or visit these pure lands, in accordance with the standard descriptions found in the Dasabhumika, 30.4, “and he rattles a hundred world systems” lokadhatusatam ca kampayati, p. 36, II. 22d, “they shake, illuminate, and cross over a hundred fields” kampenti ksetrasatu bhasi samdkramanti |. It is not exactly clear why the scripture has bodhisattvas engage in rattling all these worlds, except perhaps as an extension of the old Buddhist mythology about the quaking of the earth during specific events in the Buddha’s fife, like the defeat of Mara.
71. The Sras don ma, 389.1-2, says that these are the standard Mahayana contemplations, such as the suramgama-samadhi, the simhavijrmbhita-samadhi, similarly sGa theng ma, 438.1.
72. This is the perception of the letter NR among the fourteen letters in the bha ga i dkyil ‘khor, sGa theng ma, 438.6.
73. He is apprehensive that he might yet return to birth among the other realms of existence; sGa theng ma, 439.3-4, Sras don ma, 390.2-3.
74. This is the grub mtha to the vase consecration; see table 7, chapter 8.
75. gNyags ma, 106.3-4, and Sras don ma, 257.3, describe the capacity to perform the miracles, some of which are associated with Virupa in the hagiographical literature: turning back a river, holding the sun and moon in place, passing effortlessly through walls and mountains, and so forth.
76. This means that during the practice of the completion process, the yogin does not ejaculate, but in the fourth or “natural” moment (sahajaksana) with the “natural” bliss (sahajananda), the yogin’s body is filled with bliss and he is overcome.
77. The commentaries indicate that the normal inhalation is twelve inches and exhalation is the same, making a total movement of the breath of twenty-four inches. With this stage, the inhalation/exhalation cycle is reduced by one inch in either direction, making a total cycle of twenty-two inches. With succeeding stages, the breath is reduced by an inch, so that on the twelfth stage, the breath is entirely arrested and the twelve steps in dependent origination are entirely reversed, indicating that ignorance is eliminated; see Sras don ma, 393.5-94.4.
78. This indicates the consecrations received during the practice of the path (lam dus). Because of the yogin’s accomplishment, from the second to sixth stages, he gets them from the nirmanakaya, whereas we see ascending orders of the bodies of the Buddha granting consecrations further along the path.
79. The five faculties (pancendriyani) are, in addition to those found in normative articulation of the thirty-seven branches, the specifically esoteric faculties of immunity from being afraid or disturbed by various manifestations of the winds associated with the great elements (earth, air, fire, water, space) because these vital airs have been subdued. Compare Dayal 1932, pp. 141-49; Gethin 1992, pp. 104-40; Pagel 1995, pp. 399-401; Sras don ma, 399.3-5; sGa theng ma, 446.5-47.1.
80. The five abilities are forms of siddhi, like passing through earth or rendering himself invisible; Sras don ma, 399.5-6. The gazes, here classified as either four or eight, are a development of the four gazes recognized in the Hevajra-tantra I.xi.1-7. Compare Dayal 1932, pp. 141-49; Gethin 1992, pp. 1 ff.; sGa theng ma, 447-3-5
81. The six seed syllables are A (for gods), NR (for humans), SU (for demigods) PRE (for ghosts), DU (for animals), and TRI (for denizens of hell). These are part of the architecture of the bhagamandala\ for mutually incommensurate descriptions of this mandala, see Sras don ma, 324.3-34.2, and sGa theng ma, 386.1-400.2.
82. The general characteristics (samanyalaksana) of the dharmas constitute the “four seals of reality”: all compounded elements are impermanent; all defiled elements are distressing; all dharmas are nonself; and only nirvana is peace. The specific characteristics (svalaksana) of the dharmas change with each. Generally, because of the influence of the Abhidharmakosa, the later Indian Buddhists and most Tibetan Buddhists accepted the seventy-five dharma schematism of the Sarvasti- vada, and each of these bears its own characteristic. See Abhidharmakosa, 1.27, VI.14.
83. The eight source letters are A KA CA TA TA PA YA SA. The term phyi mo can denote a root (rtsa ba) or foundation (gzhi) for something. The sGa theng ma (448.4-5) states that from the short a in the navel cakra, the two syllables E WAM arise. From the E, the short A (of the eight letters) arises. From the WAM, the syllables KA CA TA TA PA YA SA arise. From the A, the sixteen vowels (ah) separate off as the external circle. From the KA (sic), the thirty-four consonants (kali) separate out. From these vowels and consonants, all letters arise; from letters come names, and from names arise words. Thus, command over the scriptures is through seeing and controlling the letters arising in the navel cakra. Compare Sras don ma, 401.1-4.
84. This is a reference to w. 28c-29d of the Manjusrinamasamgiti: “The syllable A, the foremost of all phonemes, of great meaning, the supreme syllable. Aspirated, unoriginated, without uttering a sound, [Manjusri] is the foremost cause of all expression, shining forth within all speech.” The context of the six-foot verse clearly indicates the bodhisattva Manjusri, and his capacity for expression is the cause for his sometimes identification as the lord of speech (vagisvara). For the entire text and translation of the Manjusrinamasamgiti, see Davidson 1981. Normatively, “pure sounds” (brahmasvara) indicate the quality of the Buddha’s speech and constitute one of the thirty-two marks of the Buddha. Here they refer to the three A-s: the “heart A, the navel A, and the external form A”; Sras don ma, 402.3, sGa theng ma, 449.6 – 50.4. The first and last are found in the bhagamandala in the genital area, so that the metaphor and terminology of heart may be misleading.
85. This difficult sentence has become a focus for rearrangement and rereading. The Sras don ma reads ’khor bzhi rgyal ba instead of rgya and rearranges the syntax to have this follow sa bdunyan cad, whereas the rest of the early commentaries read it as printed but interpret it differently. Perhaps the most persuasive interpretation is found in the gZhu byas ma, that the four seals are found in the four cakras: kar- mamudra in the nirmanacakra in the navel, the dharmamudra in the dharmacakra in the heart, the mahamudra in the sambhogacakra in the throat, and the samayamudra in the mahasukhacakra in the fontanel; gZhu byas ma, 162.6. The commentaries use this opportunity to develop a grand arrangement, linking the vision of pure lands with a triple continuity (rgyud gsum), triple appearance (snang gsum) system, the four mandalas of the channels, the letters, the seminal fluid, and the essential gnostic wind, and the physical container/mental contained system; Sras don ma, 403.3-406.3; sGa theng ma 450.5-53.3.
86. The sGa theng ma, 454.6-55.1, says that the ground to be purified, in this case the mind, is in the text here associated with the path, whereas in III.A and B it is associated with the consecration.
87. The bodhicittamandala is understood here as the “quintessential essence” (dwangs ma’i dwangs ma) because it has arrived at the fontanel and represents the great essence which has been repeatedly purified by the interdependence of the path of the winds, the mind, and the serus substances; Sras don ma, 408.4-5. The five powers (pancabalani) arise out of the control of each form of wind as it is brought into the central channel, and the five vital winds of the bodhicitta mean that each essential wind is mixed inseparably with one of the five nectars as a physical manifestation of the bodhicitta’, Sras don ma, 408.4. For the five powers as functions of the thirty-seven branches of awakening, see Dayal 1932, pp. 1141-49; Gethin 1992, pp. 140-45; Pagel *995> PP- 4°i“3-
88. Sras don ma, 408.6-412.6, discusses the practice of the internal stages of the mandalacakra practice and how one then obtains the consecrations of the three bodies of the Buddha, the consecrations of the five forms of gnosis, the consecrations of the five mudra, the consecrations of the eleven Herukas, the consecrations of the twenty-four realities of the divinities, and the consecrations of the four factors of reality. See similar lists with a somewhat different explanation in sGa theng ma, 456.4-463.2.
89. Yum gyi bha ga is often glossed as the dharmodaya in which the mandala is constructed by visualization, or the dharmodaya as the vaginal form. The dharmodaya is an inverted triangle or tetrahedron, inside the protective walls of vajra and within which the palace is visualized. Sras don ma, 414.3-4, however, gives four interpretations of bhaga; compare sGa theng ma, 464.4.
90. The six supercognitions are not part of the normative list of the thirty-seven bodhipaksikadharmas.
91. This means that the yogin no longer breathes at all, since he does not need external breath to survive and since the vital wind has been entirely drawn into the central channel and all the vowels have been arrested along with all the forms of conceptualization; Sras don ma, 416.5-17.1.
92. The last section of the thirty-seven branches of awakening is the eightfold noble path (asta margangani), which is so well known. Here, though, the eight are reinterpreted esoterically as the purification of the eight forms of consciousness; compare Sras don ma, 426.3-5; Dayal 1932, pp. 155-64; Gethin 1992, pp. 190-226; Pagel 1995, pp. 391-95. The two fruits are the path to liberation through signlessness (animittavimoksamukha) by means of the stiffening of the right (channel) object wave and the path to liberation through wishlessness (apranihitavimoksamukha) by means of stiffening the left (channel) subject wave; Sras don ma, 426.5-6.
93. One of the standard signs of the great acts of the Buddha, especially awakening; see the Lalitavistara, 254.12: sadvikararh ca dasasu diksu sarvalokadhatavo ’kampat prakampat samprakampat |.
94. Sras don ma, 427.4, describes a scenario in which there is a great sound because the four Maras have been defeated, resulting in the noise of a rain of meteorites, the roaring of the ocean, the shocking crash of cymbals, and so forth. The sounds mentioned at this point in the Lalitavistara seem to be primarily those of joy and acclaim, 254.17-18: dasasu diksu bodhisattvas ca devaputras canandasab- dam niscarayamasuh – utpannah sattvapanditah |, and compare 256.12.
95. Sras don ma, 427.6, says that all the phenomena of samsara and nirvana are now seen within the mustard seed-size essential essence of the consort’s vagina, without any differentiation of existence or size or quality, and so forth.
96. Ha ri ma of the text is a corruption (Prakrit hanima?) of animan, the first of a standard list of the eight forms of dominion (aisvarya or isvaratvam = dbang phyug), identified in such references as the Yogasutra-vyasabhasya to Yogasutra 3.44: the capacity to become minute (animan), buoyant (laghiman), massive (mahiman), obtaining everything (prapti), unrestrained (prakamya), controlling (vasitvam), with mastery (isitrtvam), and concluding things as he likes (kamavasayitvam); see Prasada 1912, pp. 248-50; compare Sras don ma, 429.2-30.6. Bande ma, 140.5-6, indicates that the verse containing these qualities is from a Thun mong ma yin pa’i gsang ba, which I have not been able to identify, although the fist is alluded to in various sources. See Krsnayamari-tantra, 74.20.
97. This is the final of the three realities, that of the entrance to the liberation of emptiness (sunyatavimoksamukha), the concluding member of the two fruits listed in III.D.i. It indicates the complete arrest of the wave of conceptualization; Sras don ma, 432.1-2.
98.1 have not seen this metaphor before. The commentaries explain it away by indicating the fontanel as this city and its opening up as the conclusion of the yogic practice, for example, Sras don ma, 432.3.
99. The multiple etc. indicates that the other activities mentioned above in conjunction with vibration, such as teaching (III.A), are also included.
100. Lam-’bras masters consistently define the final fruit by means of the dissolution of the four gradations or functions of the body. By means of the vase consecration, the fruit acquired is the dissolution of the various channels into the central channel, which is ultimately transformed (gnas gyur: paravrtti) into the nirmanakaya. The secret consecration causes the letter mandala to dissolve finally into the HAM in the fontanel, and the transformation of these letters brings the sambhogakaya. Likewise, the relationship between the third consecration, the nectar mandala, and the dharmakaya. Finally, the fourth consecration dissolves the vital wind into the gnostic wind in the central channel, which is transformed into the svabhavikakaya. None of these is the mind itself, and the mind is transformed into a fifth body, in which’ the suvisiuddhasvabhavikakaya is called the *anabhogakdya\ Sras don ma, 437.3-40.3; sGa theng ma, 481.3-85.3. The problems previously experienced were primarily on the mundane path, although some continued through the supermundane path; Sras don ma, 442.1-6.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
На фоне такой бурной медитативной и интеллектуальной деятельности монастырь Сакья казался чем-то вроде тихой заводи. Однако, это представление пришлось пересмотреть уже в первой половине двенадцатого столетия. Основав во второй половине одиннадцатого столетия свой новый монастырь Сакья, Кончок Гьялпо не стал следовать примеру своего старшего брата, а отказался от безбрачия и женился. В результате этого на свет появился его единственный сын Кунга Ньингпо, который задал направление развития школы сакья на все будущие времена, и чье повествование о рождении является одной из тех историй, что делают изучение тибетской агиографической литературы таким интересным54. Сын и агиограф Кунги Ньингпо Дракпа Гьелцен без каких-либо подробностей сообщает, что его отец родился на территории верхней Дромпы, расположенной в Цанге55. Обычно под этим подразумеваются окрестности монастыря Сакья, поэтому данная информация не вызывает удивления. Однако, существует поразительная история обстоятельств его рождения, датируемая семнадцатым столетием, которая уже достойна нашего внимания (вне зависимости от того, правдива она или нет) только из-за того, что представляет собой ценный артефакт тибетской самопрезентации, а также из-за своей особой литературной привлекательности. Эта история о провидческом откровении и хмельном соблазнении, о странствующем ламе и дочери феодального правителя56.
Согласно наиболее достоверным сведениям первая жена Кончока Гьелпо Дордже Чукрно не родила ему ни одного ребенка, при этом основатель сакьи, похоже, был доволен тем, что оставался бездетным57. Но проживавший в этой местности выдающийся провидец, великий Джецун Чокьи Гьелцен из монастыря Кхау-кьелхе (далее его имя для удобства сокращено до Нам-кхаупа), имел видение Авалокитешвары в форме Кхасарпаны58. Он увидел бодхисатву в радужном шатре ясного света, направляющегося в близлежащий район Каргонг-лунг. Святой праведник мгновенно понял, что бодхисатва сострадания ищет подходящие условия для нисхождения в человеческое тело посредством рождения, и что можно срежессировать соответствующую ситуацию, в результате которой Кончок Гьялпо мог бы стать отцом такого ребенка. Нам-кхаупа отправил великому ламе множество приглашений. Однако, их жилища находились довольно близко друг от друга, и лама совершал визит и возвращался обратно в один и тот же день, что не давало возможности предоставить бодхисатве доступ к подходящему вместилищу (женщине) для нисхождения в тело будущего ребенка. Наконец, Нам-кхаупа придумал как познакомить стареющего Кончока Гьелпо с Мачик Жангмо, молодой дочерью окружного правителя (того самого племенного вождя, который способствовал продаже Кончоку Гьялпо земельного участка для постройки монастыря Сакья). Когда лама однажды принял его приглашение, святой провидец Нам-кхаупа задержал его и отвел в Каргонг-лунг, где располагалось поместье правителя. Он познакомил девушку со стареющим ламой, и они угостили его крепким свежесваренным пивом. Кончок Гьелпо понял, что до ночи уже не сможет вернуться в Сакью, и спросил, нет ли поблизости постоялого двора, но вместо этого юная леди пригласила его к себе в постель. Результатом их романтической ночи стало рождение девять месяцев спустя (в 1092 году) Сачена Кунги Ньингпо.
Более поздние сакьяпинские источники буквально восторгаются историей пророчества о рождении Сачена Кунги Ньингпо59. Согласно легенде, когда по пути в Самье Атиша прибыл в Сакью, он предсказал, что в будущем здесь будет монастырь, охраняемый двумя формами Махакалы. Кроме того, в нем будут пребывать семь воплощений Манджушри, а также одно воплощение Авалокитешвары и одно воплощение Ваджрапани. Таким образом, рождение Кунги Ньингпо стало результатом не только реализации плана святого подвижника, но и божественного замысла ряда бодхисатв. Однако, поскольку в этой истории Нам-кхаупа был главным заговорщиком, он позаботился о том, чтобы Кончок Гьялпо узнал об этом рождении, и пригласил его посмотреть на своего новорожденного сына.
Можно представить себе растерянность Кончока Гьелпо, когда он узнал, что стал отцом в возрасте пятидесяти восьми лет. Он попытался сохранить существование мальчика в тайне, однако, его жена узнала об этом и выступила против такого подхода к данной проблеме. Какой бы ни была харизма ламы, этот разговор складывался для него непросто. Жена вполне определенно указала ему на то, что без этого ребенка его семейная линия прервется, так как его брат умер безбрачным мирянином. Она заявила, что сама она ни в чем не нуждается, а вот ребенку и его матери необходимы средства для обеспечения жизни и получения образования. Поэтому она настояла на том, чтобы Кончок Гьялпо привез мальчика и его мать в Сакью и предпринял все необходимые действия для обеспечения достойного существования своего наследника. Он так и поступил, выделив бо́льшую часть обрабатываемой земли Сакьи на содержание будущего ламы Сакьи и его матери. К сожалению, Кончок Гьелпо смог только начать обучение ребенка, так как скончался в здании Горума в Сакье в 1102 году, когда мальчику было десять лет60.
Поскольку перечень полученных Саченом наставлений читается как каталог доступной тибетской буддистской литературы начала двенадцатого столетия, то практическим результатом его обучения можно считать установление нового образовательного стандарта. Хотя агиографы Сачена приписывают ему знание всех мирских наук, на самом деле мало что подтверждает это заявление. Его собственные литературные труды исходят из узко религиозного интереса, и именно по этой причине было бы ошибкой считать его великим энциклопедистом. По факту обучение Сачена началось после завершения погребальных ритуалов, сопровождавших похороны его отца. При этом его мать сообщила ему, что, хотя он и является наследником главы Сакьи, он пока что не может править монастырем, поскольку было бы смешным, если бы таким учреждением, каким стал Сакья, управлял плохо подготовленный мальчик61. У Мачик Жангмо было еще одно весьма значимое соображение: поскольку своим авторитетом отец Сачена во многом был обязан обучению у переводчиков, получивших образование в Индии, то и Сачен должен последовать его примеру. Поэтому для того, чтобы ее сын мог получить хорошее образование, она пригласила уважаемого ученого и переводчика ритуальных наставлений Бари-лоцаву Чокьи Дракпу (1040-1112) занять место настоятеля Сакьи62. Бари согласился и ввел в практику базовую предпосылку средневекового буддийского образования: если требуется развитие умственных способностей, то следует умилостивить бодхисатву божественного разума (здесь речь идет о Манджушри – прим. shus). В соответствии с этим Кунга Ньингпо был отправлен практиковать великую мантру этого бодхисатвы: АРАПАЧАНАДХИХ (ARAPACANADHIH), которая представляет собой мантрическое применение эзотерического слогового письма, разработанного на основе языка, возникшего в первые века н.э. в Гандхаре, и ассоциируется с мудростью (prajna)63. Сначала мальчик столкнулся с обычными медитативными препятствиями, в т.ч. видением больших белых людей, львов и тому подобного, но благодаря применению надлежащих медитативных противоядий все они были устранены.
В конечном счете, как сообщают источники, через шесть месяцев Кунга Ньингпо обрел великое видение бодхисатвы Манджушри, который даровал ему четырехстрочное наставление, получившее называние «Отторжение четырех привязанностей» (Zhen pa bzhi bral), а также сообщил ему, что с данного момента все его наследники будут являться воплощением этого бодхисатвы64. Причем в действительности данное наставление представляет собой стандартное изложение основ буддизма:
«Если человек привязан к этой жизни, он не обладает истинной верой.
Если человек привязан к существованию, он не может отмежеваться [от него].
Если человек привязан к собственному благу, у него нет бодхичитты.
Если имеет место привязанность (к какой-либо точке зрения), то нет правильного видения» 65.
Вполне очевидно, что данный эпизод (по крайней мере, видение и словесная формула) достаточно ранний. Однако, нет уверенности в том, что он изначально включал в себя пророчество о воплощениях в наследственной линии мальчика. Более вероятно, что оно является более поздним дополнением к истории этого откровения. Оба его сына особо подчеркивали, что у Кунга Ньингпо действительно было видение Манджушри, и что «Отторжение четырех привязанностей» не содержит ничего неуместного для человека, который только начинает практиковать Дхарму. Действительно, это довольно изящное изложение тех самых проблем, которые волнуют каждого начинающего, и именно таким образом оно воспринималось сакьяпой66.
Когда Кунге Ньингпо было одиннадцать лет его после консультации отправили изучать основы метафизики (абхидхарму) в расположенный поблизости Ронг Нгурмик к старому члену клана Дрангти по имени Геше Дрангти Дарма Ньингпо67. Очевидно, в те времена метафизика была популярной темой (вероятно, благодаря обучению по «Абхидхармасамуччае»), и все жилые помещения в центре этого ламы были уже заполнены ранее прибывшими учениками. Поэтому Кунге Ньингпо пришлось довольствоваться расположенной по соседству ветхой пещерой, прикрытой черным войлочным занавесом из меха яка68. Однако, вскоре возникла гораздо более серьезная проблема: его сосед заболел, по всей видимости, оспой (‘brum bu’i nad), и ему некому было помочь, поскольку он был родом из кочевого племени. Кунга Ньингпо оказал необходимую помощь несчастному монаху, но при этом сам заразился, и это горестное обстоятельство вынудило его вернуться домой.
Несколько позже, после того как Кунга Ньингпо завершил изучение основ абхидхармы, Геше Дрангти умер. Испытывая особый интерес к буддийский доктринальной тематике, Кунга Ньингпо отправился в храм Ньянгто Джангче. Здесь он обучался у Дрангти Зурчопи Геше Кхьюнги Ринчена Дракпы, постигая «Бодхисаттвабхуми» Асанги и изучая описанные в ней комплексы обетов69. Затем с этим же учителем, а также Зурчопой Пел-мидикпой он вступил на путь освоения эпистемологических материалов и занялся изучением «Праманавинишчаи» и «Ньяябинду» Дхармакирти. В этот момент он получил очень трогательное письмо от управляющих землями Сакьи (gzhis-pa) с призывом к честолюбивому ученому вернуться в родной монастырь70. «Лама Бари пожилой человек, и может статься так, что у Вас не будет возможности учиться у него позже». На самом деле этот призыв содержал в себе напоминание как о преемственности в управлении монастырем, так о том, что молодой Кунга Ньингпо должен продолжить свое образование в той области, что сплачивает такого рода сообщества, т.е. в ритуалистике. Ведь ритуал не только объединяет религиозную общину в единое целое, но и устанавливает основополагающие отношения между монашеским учреждением и окружающей его долиной, в пределах которой Сакья и подобные ему монастыри осуществляли властные и правовые полномочия. Для того, чтобы в сакье продолжал сохраняться непрерывный поток ритуальной жизни, молодой наставник должен был изучить эзотерические ритуальные системы, в которых специализировались его отец и Бари-лоцава. Т.е. действующие руководители сакьи, прекрасно понимали, что эпистемологические знания в принципе не способны консолидировать социальную структуру этой школы.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
На фоне все этой кипучей деятельности монастырь Сакья выглядел на удивление стабильным, и даже несколько степенным. Сачен Кунга Ньингпо скончался в Сакье в 1158 году в возрасте шестидесяти шести лет, пробыв на посту главы монастыря сорок восемь лет31. Телесные реликвии Сачена (Илл. 21) как чудотворный объект со временем были помещены в ступу «Пантеона победоносных» (sKu ‘bum rnam rgyal) для почитания всеми теми, кто совершал паломничество в Сакью32. Погребальный обряд Сачена, включавший в себя грандиозную церемонию под названием «Завершение трех времен» (dus gsum khegs so), представлял собой большое религиозное собрание, на котором присутствовало множество известных религиозных деятелей из самой Сакьи и других мест. Подношения, которые затем были сделаны собравшимся монахам, по меркам того времени выглядели грандиозными. Сакья Пандита уверяет, что присутствовавшим на погребальной церемонии священнослужителям было роздано около пятидесяти копий священного писания «Совершенство мудрости в 10 000 строфах», более тридцати копий «Совершенства мудрости из 25 000 строфах» и более восьмидесяти копий «Ратнакута-сутры»33. Эти подношения были столь великолепны, что стали стандартом для посмертных обрядов последующих годов.
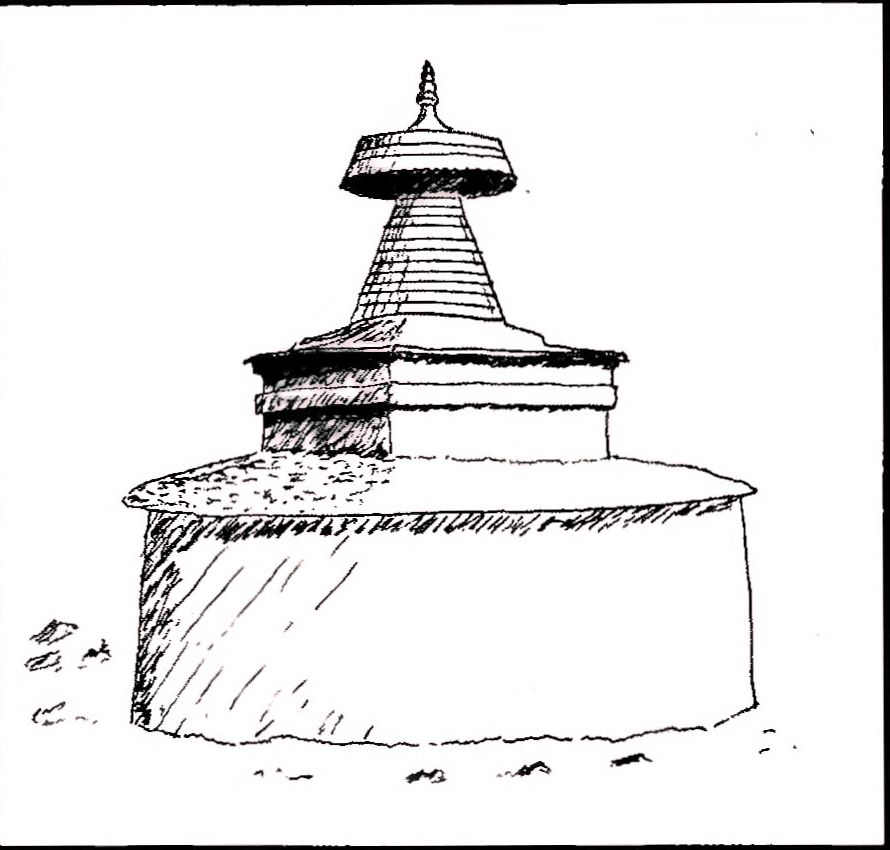 |
|
Илл. 21. Внешний реликварий Сачена. Прорисовка по фотографии Сайруса Стимса
|
Это были времена экспансии Сакьи, которой во многом способствовала активная деятельность как Бари-лоцавы, так и самого Сачена. Помимо двух храмов, возведенных Бари, и ступы своего отца, Сачен построил храм Уце Ньингма и реликварий для своей матери34. Благодаря этим действиям Сакья стала общепризнанным местом паломничества, при этом в Сакье также были достойно представлены и популярные практики, связанные с буддистским культом реликвий. Здесь паломники могли обрести благодать, исходящую от накидки Будды Кашьяпы, летающей маски Ринчена Зангпо, чудотворных статуй, находящихся в ее храмах, телесных реликвий святых праведников клана Кхон, а также живых лам эзотерической традиции35. Так же необходимо отметить, что выдающиеся способности, ученость, энергия и духовность Сачена автоматически проецировалась и на его учеников и юных сыновей.
Ученики Сачена были очень влиятельны и хорошо известны своим современникам. Источники всегда акцентируют свое внимание на группы учеников и на их связь с двумя ранее упомянутыми видениями их учителя. Одним из них был сон Сачена во время подготовительного периода к посвящению, проводимого Гьичувой, в котором фигурировали три моста, перекинутые через огромную реку, окрашенную в мутно-красный цвет. На ближнем мосту находилось множество людей, на среднем – всего семеро, а на последнем – только трое. Все это указывало на то, что у него будет три великих ученика36. Кроме того Жанг Гонпава сказал, что если Сачен займется обучением, то у него будет бескрайнее количество учеников, и среди них будут трое, кто достигнет высшего завершения Великой печати, семи земных бодхисатв и т.д. Следуя этому примеру, хроники ламдре также ранжировали его учеников, традиционно опираясь на всеобщую склонность тибетцев верить в любые слухи о чудесах37. Подобные истории занимают центральное место в восприятии тибетцами своей религиозной жизни, и их достаточно сложно разделить на народное и элитарное мировоззрения. Рассказы о чудесах считались подтверждением (rtags) обладания сиддхи (siddhi), и поэтому агиографы усердно исследовали их, чтобы доказать обладание Саченом дара наделять своих учеников способностью к чудодейственным достижениям.
Таким образом, считалось, что высшего завершения достигли три ученика Сачена: некий йогин из Шри Ланки, Гомпа Кьибарва из Мангхара и Джангчуб Семпах-Так из Лато. Среди других учеников особняком стоит Гатон Дордже-драк из Кхама, и Кхьенце Вангчук (1524-68) считал письмо Дракпы Гьелцена к этому ученику одним из важнейших наставлений в ламдре38. Однако, описывая эту иерархию достижений более поздние авторы по каким-то причинам игнорировали нескольких весьма значимых учеников Сачена. К примеру, геше Ньен Пул-джунгва был одним из самых примечательных последователей Сачена, так как он взял на себя ряд важных обязанностей после смерти своего учителя, а также помогал обучать сыновей Сачена. По всей видимости, он руководил монастырем Сакья в течение трех лет, пока Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен продолжали свое образование. Кроме того, он свел в единый текст несколько разделов самого длинного комментария Сачена к «Коренному тексту *маргапхалы». В Главе 8 геше Ньен Пул-джунгва уже описывался как тот, кто якобы сообщил Дракпе Гьелцену о видениях Вирупы, составивших «короткую передачу», что является признанием высокого авторитета Ньен Пул-джунгвы, даже если данная история кажется апокрифической. Однако, во всех известных списках учеников Сачена этот добродетельный геше упоминается лишь вскользь.
Также практически игнорируется и Пагмо Друпа, который должен упоминаться, как наставник, стоявший у истоков отдельной традиции ламдре и обучавшей ей как дополнению к своей собственной традиции пагмо друпа кагьюпа39. В какой-то момент, когда ему было уже за тридцать, Пагмо Друпа получил от Сачена ламдре и связанные с ним передачи40. Позже Пагмо Друпа вернулся в Сакью (вероятно, в 1154 или 1155 году) и встретился там с Саченом, чтобы подарить ему написанную золотыми буквами копию обширного текста «Совершенства мудрости», а также другие книги и предметы, изготовленные во времена совершения поминальных обрядов по Гампопе41. Ранний источник сообщает, что Сачен и Пагмо Друпа обменялись подарками, при этом Сачен признал драматические перемены в сознании своего ученика, которому, по его мнению, суждено было стать «владыкой Дхармы»42. Известно, что Пагмо Друпа продолжал обучать ламдре в разные периоды своей жизни, вероятно, используя комментарий «Гатенгма» и другие тексты, которые даровал ему Сачен43.
Однако самыми выдающимися последователями Сачена были два его средних сына: Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен, традиционно считающиеся вторым и третьим в ряду пяти великих наставников сакьяпы, который начинается с Сачена и заканчивается Пакпой. Однако в исторических рейтингах этим двум сыновьям также не уделяется должного внимания. Более поздним ученым, таким как Пенчен Миньяк Дракдор, казалось очень странным отсутствие в ранних списках чудодейственных учеников второго сына Сачена Сонама Цемо, и они решили поместить его в совершенно новую категорию, позиционируемую выше всех остальных44. Точно так же Кхьенце Вангчук почувствовал себя просто обязанным улучшить довольно низкое положение Дракпы Гьелцена в традиционном списке (там он фигурировал как бодхисатва, все еще находящийся на мирском пути), поскольку великий ученый считался эманацией бодхисатвы Манджушри, известного в традиции как «учитель пяти будд» и бодхисатва десятого уровня45.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В мире религиозных князей и аристократических переводчиков молодой монах Пакпа успел побывать в роли и рядовой пешки, и проводника интересов монгольской династии в Центральном Тибете. Последний его статус знаменует собой возвышение эзотерического буддизма и школы сакья до уровня имперской идеологической силы на евразийском континенте. Иногда подобострастные, иногда формальные отношения Пакпы с жестоким имперским завоевателем Хубилай-ханом представляют собой одну из интереснейших загадок в истории Средней Азии. Около 1246 г. н.э., сопровождая своего дядю Сакья Пандиту, Пакпа прибыл со своим младшим братом в лагерь Коден-хана (Koden/Godan Khan) в качестве заложников. Тогда Пакпе было чуть более десяти лет, и он вполне осознавал, что находится в заключении как представитель своего дяди и тибетского народа в целом. В связи с постоянной угрозой вторжения Сакья Пандита был вынужден провести свои последние дни в свите монгольских князей, которые боролись друг с другом за наследие своего деда Чингисхана. Сакья Пандита и Пакпа совместно сумели обуздать разрушительный потенциал величайшей военной машины из всех, которые когда-либо видел мир, так что по крайней мере Центральный Тибет избежал разрушительных воздействий, от которых пострадали другие цивилизации, иногда вплоть до их полного уничтожения. Вслед за успехом Сакья Пандиты в предотвращении полномасштабного монгольского вторжения в Тибет, Пакпе пришлось стать свидетелем того, как его дядя умирает, оставаясь при этом в статусе еще одного заложника Коден-хана2. После этого Пакпа занял его место и как священное движимое имущество переходил от одного безжалостного военачальника среднеазиатской степи к другому, пока наконец не попал в поле зрения Хубилая. Однако, пребывание Пакпы в руках монголов оказалось одной из самых впечатляющих историй успеха. Он не только завоевал относительную свободу, но и будучи буддистским монахом, преемником Сакья Пандиты и духовным доверенным лицом Хубилая, в конечном счете привел к политической власти над Тибетом своей клану и свою школу. Попав к монголам в качестве политического заключенного в 1246 году, он был возведен на престол как национальный наставник Хубилая 9 января 1261 года и как императорский наставник в 1269/70 году3.
Касательно Пакпы (Pakpa) большинство историков задает один из двух следующих вопросов: 1) в чем заключалась его деятельность, и какое он имел влияние при дворе Хубилая; 2) каковым было его наследие после ста лет монгольского владычества над Тибетским плато? Оба эти вопроса важны, и на оба из них в большей или меньшей степени даны ответы. По мнению некоторых, Пакпа узаконил Хубилая в качестве «вселенского монарха» (cakravartin) или божественного бодхисатвы и создал религиозно-политическую теорию мирового господства монголов4. Другое объяснение опирается на прецедент, созданный тангутскими правителями в их отношениях с тибетцами. Кроме того, Пакпа помогал Хубилаю, проводя магические ритуалы для улучшения его личного здоровья и достижения военных успехов5, участвовал в грандиозных публичных празднованиях и успешно дискутировал с китайскими даосами в интересах Хубилая6. Наконец, он ввел в Тибете административные порядки монголов: их обязательную перепись, системы налогообложения и территориально-административное деление на тумены, причем это лишь некоторые из его реформ7.
Однако, есть еще один, гораздо реже задаваемый вопрос, который отражает более широкий взгляд на успех тибетского буддизма в паназиатском социальном мире: что такого особенного было в Сакья Пандите и Пакпе, что в первую очередь заставило монголов постоянно удерживать их при своей ставке? Большинство из тех немногих ученых, кто задается этим вопросом, являются политическими и военными историками, и, соответственно, их ответы имеют политическую или военную направленность с упором на межличностные или социальные аспекты. По их мнению, Коден-хан нуждался в представителе тибетского народа, который мог бы донести до него их требования о капитуляции и вслед за этим выполнять обязанности правящего ставленника монголов (хотя остатки старой тибетской имперской семьи, наверное, больше подходили для этой роли8). Также некоторые из них полагают, что вовлеченность в светскую жизнь и политическая ловкость тибетских буддистов были главными факторами как в том, что они сохранили свои территории на Тибете, так и в их способности улаживать внутримонгольские споры9. В свою очередь, мы с уверенностью можем утверждать, что Пакпа представлял цивилизацию с аналогичным монголам наследием кочевничества и что его школа в принципе могла адаптировать тантру к местному шаманизму, так что монголы спонсировали тибетских буддистов в том числе и по причинам их этнического и социального сходства10. Также отмечается, что традиция сакья была семейной, т.е. поддерживала систему династийной преемственности, поэтому монголы выбрали ее в качестве своих ставленников вместо обычного для них порабощения нации путем подчинения ее феодальных семей11. Наконец, некоторые авторы указывают на то, что Пакпа снискал расположение Чаби (Chabi), супруги императора Хубилая, и она оказывала влияние на своего мужа в интересах Пакпы12.
Каждое из этих объяснений помогает нам понять социальную ориентацию и систему ценностей, ассоциируемые с монголами в целом и с Хубилаем в частности. Однако, до этого момента практически полностью превалировали исключительно функционалистские объяснения, которые в большей, чем что-либо еще, степени демонстрируют нам то, как Пакпа (Pakpa) стал полезным винтиком в монгольской администрации и был вознагражден за это дарованием ему Тибета13. Тем не менее, возникает уместный вопрос: а насколько точно эта оценка отражает роль тибетцев в окружении внуков Чингисхана? Ведь, вполне возможно, что на самом деле результат данного анализа является следствием предрасположенности авторов оценивать эту роль главным образом через фильтры китайских политических документов и концепций социальных наук и политической истории. В действительности, одна из проблем с указанными объяснениями состоит в том, что многие религии, присутствующие или доступные монгольскому двору – несторианское и католическое христианство, даосизм, манихейство, китайский буддизм, конфуцианский ритуализм, монгольский шаманизм и суфийский ислам – могли бы выполнять эти задачи почти точно с таким же успехом. Также не следует забывать, что сам Чингис имел серьезную мотивацию покровительствовать своей собственной шаманской традиции, в особенности в лице Теба Тенгри (Teb Tnggri, имя при рождении Kokochu) – автора пророчества, согласно которому Чингис завоюет весь мир. По этой причине Чингису было необходимо поддерживать его статус на самом высоком уровне, поскольку это было обоснованием его прав на мировое господство, даже несмотря на то, что в борьбе за власть со временем они стали смертельными врагами14. На самом деле, пророчество Теба Тенгри было настолько важно для монгольских преемников Великого хана, что брат Хубилая Хулагу – иранский ильхан – начинает свое письмо королю Франции Людовику IX с латинского перевода высказывания этого шамана15. Похоже, что как минимум политические и социальные функции, приписываемые Пакпе, точно с таким же успехом могли выполнять приближенные к Чингису шаманы, потребность которого в этих услугах были ничуть не меньше, чем у Хубилая. Кроме того, когда мы понимаем, что неоконсервативная форма эзотерического буддизма Пакпы, пожалуй, менее всего подходила для выполнения реальных шаманских практик, монгольское покровительство Пакпе вызывает еще большее любопытство.
Мы также можем подвергнуть сомнению чисто функционалистскую оценку того, что Коден, Мункэ и Хубилай были не единственными внуками Чингиса, покровительствовавшими эзотерическим буддистским наставникам из Тибета и Индии. Будучи ильханом Ирана, Хулагу был приверженцем линии передачи Пагмо Друпы школы кагьюпа. Начальный период правления ильханов был примечателен буддистской миссионерской деятельностью и начавшимся в 1258 году строительством буддистских храмов и монастырей на севере Ирана. Это продолжалось вплоть до обращения ильхана Газана в шиизм в 1295 году, после чего все существовавшие на тот момент буддистские сооружения были уничтожены16. На этот счет мы имеем небольшое подтверждение от иранологов, ссылающихся на наличие социальных причин, которые заставляли монголов умиротворять свое население и разрешать внутренние споры такими способами.
Поэтому довольно затруднительно следовать предположению, что в данном случае именно буддизм узаконил правление монголов, поскольку ни одно мусульманское население никогда не воспринимало буддистскую религию как законную. Скорее, покровительство, оказываемое ильханами буддизму в тот период, является свидетельством неустойчивости их власти, хотя в течение сорока лет они все-таки продолжали привлекать наставников из Тибета, Индии и Кашмира. Тот факт, что их поддержка длилась всего несколько десятилетий, можно рассматривать как подтверждение исключительно политической природы буддистского патронажа, ведь участие Юаней в делах тибетской религии было почти столь же непродолжительным. Буддизм не получил широкого распространения и среди монголов до тех пор, пока он не был повторно привнесен им третьим Далай-ламой Сонамом Гьяцо (1543-88)17.
Кроме того, поскольку любое обсуждение природы религиозных конверсионных движений должно в первую очередь обращать внимание на их социально-политические функции, характер и движущие силы системы, которую предлагал Пакпа, несомненно, должны были повлиять на способ ее восприятия. Несмотря на это, у большинства историков попросту отсутствует описание отличительных черт эзотерического буддизма сакьи и кагьюпы этого периода18. На самом деле, большая часть этой тантрической литературы, включая некоторые из самых ранних материалов, была ими в целом проигнорирована, поэтому мы можем задаться вопросом: не слишком ли пренебрежительным было отношение некоторых ученых к тибетскому и монгольскому религиозным ландшафтам19.
Не вызывает сомнений, что в деле распространения, пожалуй, самой успешной из всех зародившихся в Индии форм буддизма одним из важнейших факторов было покровительство монголов, оказываемое ими тибетским и индийским буддистским наставникам20. Также, как и Кумараджива (344–411), (и в отличие от Пакпы) монахи нередко становились трофеями военных кампаний21. И, подобно отношениям Фотудэна (Fotudeng) с военоначальником Шилэ (Shile) в четвертом веке н.э., многие буддистские наставники устанавливали тесные отношения со своими полководцами, в основе которых лежала вера последних в сверхъестественные способности этих монахов22. Однако следует напомнить, что все монахи и йогины, которым оказывал внимание Хубилай и его братья, представляли особый вид буддизма – его позднюю тантрическую форму, основанную на махайоге и йогини-тантрах23. Получив свое развитие в период социальной и политической раздробленности Индии, данный вид буддизма был доведен до совершенства в залах великих индийских монастырей, небольших ретритных центрах и городских храмах. Появившись в Тибете в конце восьмого столетия н.э., эта поздняя тантрическая форма буддизма не только оказывала обществу политические, художественные, лингвистические, культурные, экономические и правовые услуги, но и беспрецедентным образом способствовала объединению и возрождению тибетской культуры. Его наставники использовали свое буддийское образование в исключительно широком диапазоне применений, так что поздний индийский эзотерический буддизм не только удовлетворял потребности множества отдельных людей или групп, но и развивал сложную динамику отношений внутри этих новых слоев населения.
Беря свое начало в раздробленном мире религиозной жизни раннесредневековой Индии, эзотерический буддизм был склонен акцентировать внимание на социальной повестке дня, что вступало в противоречие с целями долгосрочного политического единства. Монгольские внуки Чингиса были лишь одними из множества людей, кого привела в восторг и облагородила эта буддийская система, хотя при этом она ослабила их способность успешно управлять государством. К концу династии Юань (1368 г.) практика эзотерических ритуалов при монгольском дворе превратилась в карикатуру на их истинное назначение, что во многом способствовало упадку этой династии24. Но даже после этого эзотерическая система продолжала процветать во внутреннем Тибете, в сообществе, чья миссионерская деятельность была направлена на широкое распространение «самых секретных» из всех буддийских практик и чьи монастыри и храмы раскинулись на всем протяжении от тихоокеанского побережья Китая до государств Восточной Европы.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В ответ на это буддистский монах-отшельник Лхалунг Пелгьи Дордже из Йерпы, глубоко проникшись махаянской идеологией лишения жизни тирана ради его спасения, убил Дарму, когда император читал надпись на монолите Неутанг (Neutang)20. С помощью хитроумного обмана Пелгьи Дордже покинул дворец и скрылся21. Однако, это убийство произошло в самый неудачный в истории империи момент: аристократия была поляризована религиозными гонениями, казна испытывала огромные трудности, а вопрос преемственности Дармы выглядел очень туманно. По всей видимости, незадолго до убийства Дармы его младшая супруга Цепонгза родила имперского наследника Намде Осунга в старой крепости Юмбу Лхаганг, хотя есть и другие версии, одна из которых утверждает, что Намде Осунг родился после того, как Дарма уже умер. Позже где-то в районе Уру, недалеко от Лхасы, старшая супруга Белпен Зама произвела на свет другого сына, Триде Юмтена 22.
В связи с наличием двух претендентов, Юмтена и Осунга, поддерживаемых разными клановыми фракциями, в вопросе преемственности возникла неясность, в частности еще и потому, что в тибетском имперском доме правило первородства не носило обязательный характер, а легитимность Юмтена ставилась под сомнение. Более того, судя по всему, некоторые источники указывают на то, что юные князья оказались в центре соперничества кланов Дро и Ба/Ва, причем Дро поддерживали Осунга, а Ба – Юмтена23. На фоне всего этого распространилась история, согласно которой Юмтен не был законным потомком Дармы, а появился в результате заговора семьи Бел, имитировавшей появление ребенка у своей бесплодной дочери. В подтверждение этого в ней говорилось, что Юмтен впервые был показан как якобы новорожденный, хотя при этом у него уже были зубы. Тем не менее, он все же был признан в качестве имперского наследника на основании «твердой настойчивости матери» (yum kyi bka ‘brtan). Эта история была принята на веру некоторыми деятелями тринадцатого и четырнадцатого столетий, такими как, например, Деу Джосе (Deu Jose), но была отвергнута Цуглаком Тренгва и другими, а в самых ранних тибетских источниках она вообще не упоминается24. Петеч (Petech) обращает внимание на то, что в китайских отчетах о Тибетской империи утверждается, что у Дармы не было проблем и что мальчик (которого Петеч считает Юмтеном) был посажен на трон кланом его супруги. Но эти китайские источники не во всем надежны и, похоже, их авторы ничего не знали, например, об убийстве Дармы25.
Наши хроники утверждают, что вопрос престолонаследия была тем самым камнем преткновения, из-за которого империя разделилась на части. При этом первоначальное решение заключалось в том, что Юмтэн должен вступить во владение частью Тибета, известной как Уру (Центральный рог: на карте 1 примерно восточная часть Центрального Тибета выше реки Цангпо), а Осунг будет контролировать Йору (Левый рог: примерно восточная часть Центрального Тибета ниже реки Цангпо). Эти территории были неравнозначны по ресурсам, населению и плодородной земле, поэтому между братьями продолжался вялотекущий конфликт из-за расширения сфер влияния и суверенных прав. Мы знаем, что два наследника действовали независимо друг от друга, поскольку документы из Дуньхуана указывают на то, что государство Осунга было достаточно могущественным, чтобы возобновить покровительство буддистского духовенства уже в 844 г., а вот Юмтэн, похоже, пришел в себя только спустя десятилетия после убийства Дармы26. В обнаруженном в Дуньхуане письме от Юмтэна особо осуждаются злонамеренные члены кланов Дро и Чог, что не удивительно, поскольку у правителей тех времен всегда было достаточно оснований сомневаться в преданности отдельных лиц. Это видно даже по тому, что Тибет был вовлечен в череду восстаний примерно с 845 по 910 год, которые обозначаются в сохранившихся документах как «три народных восстания» (kheng log gsum), хотя их участники, безусловно, происходили из самых разных слоев населения, а длились они почти семьдесят лет27.
Первое из восстаний на самом деле было сепаратистскими устремлениями аристократа Лон Гунгжера, который был членом клана Ва/Ве (~ Ба) и управлял северо-восточной тибетской территорией, расположенной вокруг Дуньхуана28, утраченного китайским военачальником Чжан Ичао в 848 году (возможно, что отчасти в результате деятельности Лон Гунгжера). Некоторые факты указывают нам на то, что сепаратистские движения стали набирать силу почти сразу после ослабления центра империи. Причем империя начала сокращаться вследствие отпадения от нее именно тех территорий (подобных Дуньхуану), которые находились под тибетским владычеством всего несколько десятилетий. Кроме того следует отметить слабость в этом регионе китайской империи конца династии Тан, поскольку тибетский язык продолжал использоваться в гражданских документах в течение нескольких десятилетий даже после того, как от прямого управления из Лхасы остались лишь смутные воспоминания.
Лон Гунгжер был втянут в череду разногласий с членом семейства Дро губернатором города Шаньчжоу (совр. Хайдун (Haidong) в Цинхае – прим. shus), имя которого по-тибетски звучит как Чжанг Биби и который представлял прокитайскую фракцию колониальных губернаторов29. Лон Гунгжер пришел в ярость от убийства Дармы, и к тому же он обнаружил причастность к этому ненавистного ему клана Дро. После долгого конфликта Лон Гунгжер победил, при этом он олицетворял собой полную деградацию существовавших ранее порядков, убив всех мужчин в районе Шаньчжоу/Амдо и разграбив префектуры Куо, Гуа, Су, Хами и Кочо. Лон Гунгжер был усмирен Чжаном Ичао только в 851 году, но, не отказавшись от своих намерений, позже предпринял попытку восстания против китайцев. В последний раз он отметился в китайской политике уже в 866 году в виде отрубленной головы в мешке по пути в китайскую столицу Чанъань.
Поскольку китайцы отмечали в своих хрониках главным образом те беспорядки, что случались в пределах их территориальных интересов в регионе Амдо, мы гораздо меньше знаем о восстаниях тибетцев на территориях, непосредственно не примыкавших к Китаю. Тем не менее, сохранившиеся фрагменты «Великой хроники» (Lo rgyus chen mo) Кхутона Цондру Юнгдрунга (1011–1075 гг.) указывают на напряженность в отношениях между монаршими домами Юмтена и Осунга с одной стороны, и великими кланами Дро и Ба/Ве с другой. Второе восстание, возможно, произошло в 904 г., т.к. именно в это время известный автор текстов школы ньингма Нубчен Сангье Еше потерял четырех из шести своих сыновей и в конце концов был вынужден искать убежище в Непале, который он ранее посещал шесть раз30. Похоже, что еще большие проблемы возникли после смерти Осунга и Юмтена, причем Осунг, возможно, лишился жизни во время третьего восстания – как говорят, он был убит неким Церодуком31.
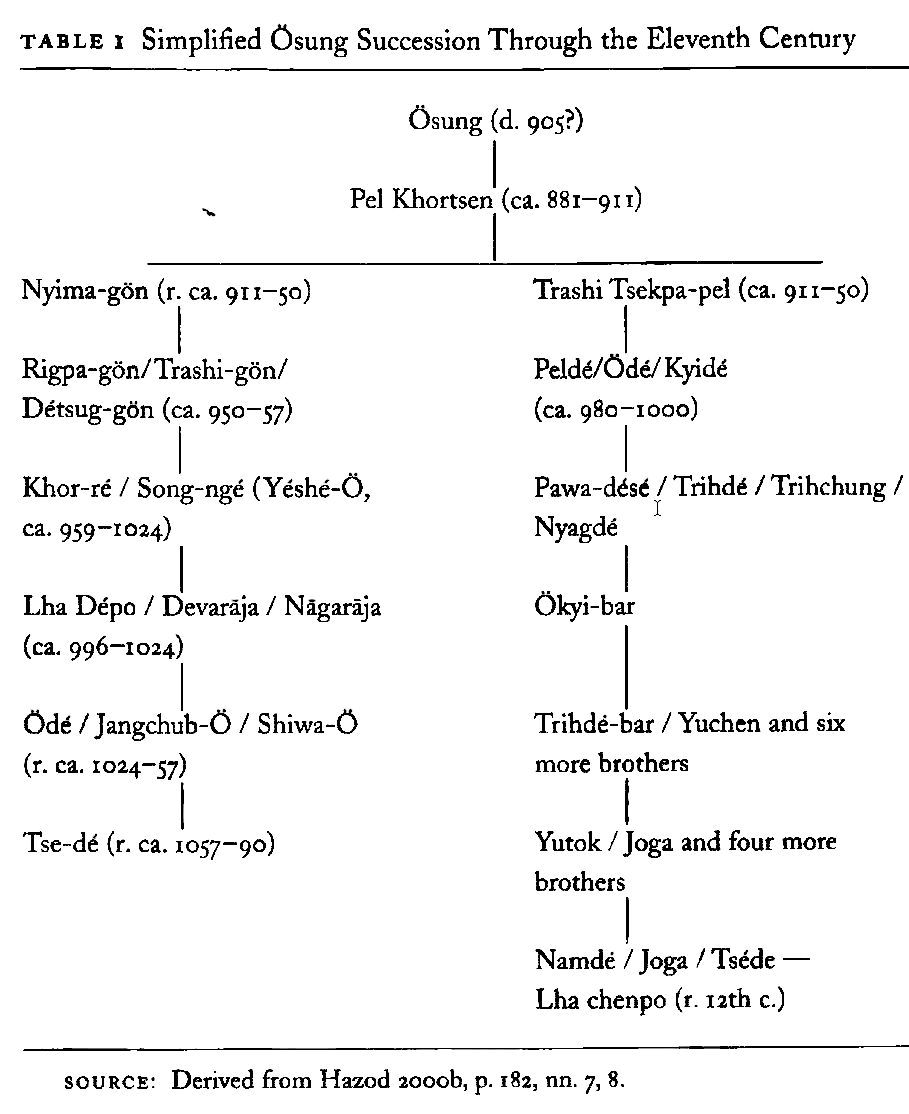 |
Осунг был последним членом тибетского императорского семейства, похороненным в имперском некрополе в Чонгье, и (несмотря на некоторую хронологическую неопределенность) Витали (Vitali) предполагает, что датой его смерти был 905 год32. Сын Осунга Пел Кхорцен являлся не самым привлекательным персонажем. Он был вынужден стать номинальным правителем в подростковом возрасте, при этом все решения за него, по-видимому, принимали два влиятельных советника33. Историк Деу Джосе подчеркивает его вспыльчивость (zhe gnag pa) и врожденную глупость (glen pa), которые проявились в виде скверного отношения к совершению погребальных обрядов в честь его отца34. Народное изречение тех времен резюмирует отношение людей к этой неприятной личности: «Повелитель – это “Колесо славы” (dPal’-khor); его супруга — это “Колесо счастья” (sKyid-‘khor); а их супружеские отношения — это Колесо беды (lan-‘khor)»35. В конце концов, постоянные угрозы со стороны различных врагов оборвали жизнь и Пела Кхорцена – он погиб в результате смуты, убитый Такце-ньяком около 910 года36.
Его сыновьям пришлось спасаться бегством. Старший сын Три Кьиде Ньимагон бежал в Пуранг, где основал правящий дом будущих монархов Гуге и Пуранга37. Трое сыновей Три Кьиде Ньимагона, которых называли тремя «Ганами» Западного Тибета, заложили основу возможности повторного проникновения буддизма в этот регион под руководством Лха-ламы Еше-О и его преемников (см. Таблицу 1). Младший сын Пела Кхорцена Траши Цекпел остался в Центральном Тибете и также имел трех сыновей, называемых тремя «Де» Восточной части (т.к. Центральный Тибет находился к востоку от Гуге). Эти трое: Пелде, Оде и Кьиде, а также их разногласия и соперничество с потомками Юмтена сыграли важную роль в возрождении буддистского учения в некоторых районах Центрального Тибета.
Воспоминания тибетцев о хаосе этого периода нам доступны благодаря прежде всего «Великой хронике», и фрагменты из этой работы Кхутона дают пугающий урок того, как слабые институции и религиозные слухи в сочетании с личными амбициями способствовали распаду Тибета.
«Предзнаменованием [восстания] был взлет птицы. Только что это произошло в Кхаме и предводителем был Лон Гунгжер. Но еще до этого было восстание в Уру (в Центральном Тибете) во главе с Лопо Лоджунг-бе. Затем в Цанге произошло восстание, зачинщиком которого был Ог-ам Кхудол Сумдрук. Причиной был ответ на замкнутость знати, а в целом это было результатом чрезмерного неравенства между властью знати и их подчиненных. Восстание в Уру было ответом на конфликт между кланами Дро и Бе. В Юме бунт поднял Жангдже Сене, который убил Юне, только недавно ставшего вождем. У этого правителя [Юне] было две жены, одна из которых была взята в супруги [Жангдже Сене], а другая – по имени Бепса Вамо-шунг – стала ревновать. В то время Жангдже Сене приказал своим подданным построить канал у подножия холма (букв. «у шеи холма»). Эта сильная женщина [Вамо-шунг] сказала всем рабочим: «Легче побороть (т.е. устранить) шею человека, чем шею холма». Когда она это сказала, все почувствовали себя побежденными»38.
Как и все остальное в тибетской жизни, многое в этих восстаниях было обусловлено знамениями и предсказаниями, а «Великая хроника» называет божественным архитектором (phya mkhan) и вдохновляющей силой этих событий Дранку Пелгьи Йонтена – монаха-министра, который был несправедливо убит во время или вскоре после правления Релпачена39. В воображении восставших он едет верхом на железном волке, демонстрируя при этом символ восстания: распускающиеся на рассвете цветы тарка, которые они должны были тайно собирать40. Птица интерпретировалась как демон в обличии ночной птицы (srin bya) – деструктивный образ, являющийся воплощением демонической фигуры, известной как Кхолпо Семонг, направляемый Дранкой Пелгьи Йонтеном, который с его помощью мстил кланам своих убийц.
Все это привело не только к развалу централизованного управления, но и к краху гражданских и социальных институтов. Ранние писатели не стеснялись в выражениях, осуждая потерю идентичности и утрату добродетели вследствие нарастающего насилия. Говорили, что некий знатный человек «в один день, постарев от горя, умер. Ибо и господин, и слуги истощили свастику (символическая диаграмма вечного благоденствия) счастья и пали в матрицу несчастья»41. Таким образом, гражданская жизнь Тибета отныне не управлялась космической диаграммой, обеспечивающей его жителям здоровье и благополучие, и теперь сочетание всего самого пагубного должно было наложить свой отпечаток на развитие и характер этих событий. Самим же тибетцам оставалась только страдать в этот неблагоприятный период, который еще только начинался. Слова Деу Джосе звучат еще более душераздирающе:
«Накопив в себе зло этих смутных времен, один возвышенный человек совершал преступления против другого возвышенного человека. Владения знати были отрезаны друг от друга из-за восстания вассалов Обара. Мать не могла довериться своему сыну; между советником и министром, между отцом и дядей не было согласия. Королевский министр Ньяк Токпо был ограблен и убит, и мертвые тела, казалось, восстают из-под снегов бесплодных пустошей»42.
Мистик двенадцатого столетия Ньянг-рел, сам принадлежавший к знати, так описывал полную эрозию всех социальных форм: «Сын не слушал отца, слуга не признавал своего господина, а вассал не слушал дворянина»43. В высказываниях историков данной эпохи всегда присутствует акцент на особую значимость для этого стратифицированного общества устоявшейся общественной иерархии, и они единодушно описывают наступившие времена как крах социальных порядков, прочно скреплявшихся ритуальным и языковым формализмом, который теперь перестал соблюдаться.
Таким образом, эти авторы подтверждают, что все вдруг перестали признавать верховенство закона и религиозного долга, известные как «золотое ярмо» (rgyal khrims, указ правителя) и «защитный шелковый шнур» (chos khrims, предписания Дхармы), причем без использования какой-либо общепризнанной системы опротестования или обращения в суд последней инстанции44. Не вызывает сомнений, что апофеозом оскорбительных действий в отношении старой системы стало ограбление членами аристократических родов царских гробниц. Хотя хронология Цуглака Тренгвы несколько сомнительна по отношению к историческим датировкам, свидетельства этого автора позволяет оценить масштабы ограбления могил:
«Через девять лет после мятежей в год огня-птицы Шупу, Такце и другие вчетвером сговорились и решили вскрыть гробницы, так что по большей части они их раскопали. Ньяк разрыл Тон-кхарду, Шупу разграбил гробницу, на которой был лев, а Дренг Чокху раскопал гробницу Трулгьела [из Тусонга]. Затем Нгожер Ньива захватил ее и на этом остановился. Дро и Чог вместе завладели гробницей Сонгцена и после этого прекратили»45.
В другом месте тот же автор отмечает, что когда Самье и храмы Лхасы пришли в упадок, гробницы были вскрыты, а императорская казна во дворце Трандрук разграблена46.
В целом отсутствие какого-либо порядка, последовавшее за падением тибетской имперской династией, длилось примерно сто лет, а иногда, следуя традиции, говорят, что на самом деле все это продолжалось девять циклов двенадцатилетней эры, т.е. 108 лет47. Точность такого утверждения опровергается отсутствием в Тибете тех времен хоть какой-то согласованности в исторических записях, что, вероятно, является лучшим показателем недееспособности этой расколотой на отдельные части культуры. В той среде, где записи постоянно велись до тех пор, пока хоть как-то существовали институты архивной поддержки, тибетцы, похоже, предпринимали лишь слабые попытки отслеживать хронику своих невзгод. Это привело к возникновению двух совершенно разных макрохронологий того периода, называемых «длинной» и «короткой» хронологиями48. Даже лучшие из наших последующих исторических исследований не добились каких-либо заметных успехов в расчетах хронологий раннего периода раздробленности, и мы можем собрать воедино данные об этих временах только с привлечением широкого спектра разнообразных источников и средств. Частично проблема заключается в отсутствии подтверждающих свидетельств из китайских источников, которые могли бы нам помочь в лучшем понимании того периода, однако, на сегодняшний день большинство дискуссий игнорирует эти геополитические реалии49.
На самом деле, невозможно объяснить только случайным совпадением тот факт, что китайская и тибетская империи, а также другие центральноазиатские государства, пережили череду бедствий почти одинакового характера, почти в одно и то же время и вышли из них практически в один и тот же момент. Тибетские и китайские гонения на буддизм происходили в 840-х годах. Их империи распались в 840–870-х годах, как раз тогда, когда в 840 году рухнуло уйгурское государство, что привело к распаду его колоний во внутренней Азии. Повсюду вдоль границ обеих империй вслед за крушением гражданских институтов и заменой их самоуправством военных диктаторов нормой стало военно-феодальное правление, и мы уже видели, что главным противником тибетского военачальника Лона Гунгжера был Чжанг Биби, тибетский губернатор китайского город Шаньчжоу.
В Китае за официальной хронологией, указывающей на распад империи Тан в 907 г., скрывается реальность того, что танское правительство перестало быть жизнеспособным национальным образованием уже после 875 г., будучи ослабленным мятежом Пансюня (868-69 гг.) и восстанием Хуанчао в 875-84 гг50. Мы не можем рассматривать в качестве источников дестабилизирующих воздействий девятого столетия области, лежащие к западу и к югу от Тибета, поскольку это был период относительной институциональной стабильности данных регионов. В те времена Аббасиды уже распространили свой контроль на Среднюю Азию, а Палы и Гуджара-Пратихары по-прежнему были полны энергии в Северной Индии. Все наши документы указывают на то, что главными очагами нестабильности являлись район Хэси вокруг озера Цинхай, коридор Ганьсу и стык территорий западного Китая и восточного Тибета. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в этот период социальные институты и экономики Центрального Тибета, Китая и уйгурских государств испытывали сильное взаимовлияние, и во времена упадка, продолжавшегося чуть более одного столетия, им только и оставалось находить слабое утешение в понимании всеобщности постигших их несчастий.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Уже сам процесс перевода священного текста вызывал у переводчиков ошеломительное ощущение обретения ими нового социального статуса. А в глазах тибетцев эти люди представали этакими дворянами, коронованными в качестве Владык дхармы, причем только по причине того, что они получили образование в Южной Азии. Ряд тибетских писателей были склонны считать концом периода «раннего распространения» не времена гонений на буддизм Дармы 841/42 годов, а дату передачи и перевода материалов Ямантаки Чандракирти и Одреном Лотро Вангчуком12. Подобным же образом некоторые просто приравнивали период «позднего распространения» (phyi dar) к периоду «поздних переводов» (phyi gyur), теряя из виду времена «ввысь из тлеющих углей» и создания храмовых структур Луме и Лотоном13. Возможно, что самую высшую степень обаяния деятельностью переводчиков демонстрировали те авторы, кто считал, что «позднее распространение» было инициировано Смрити Джнянакирти14.
В истории, поведанной Ньянг-релом, непальскому переводчику по имени Перна Маруце нужно было подобрать знатока Дхармы для Лха-ламы в Гуге, за чем он и отправился в Индию. Там он нашел Смрити и Ачарью Пхраларингбу (неварца?), но на обратном пути в Тибет Перна Маруце умер. Неустрашимые Смрити и Пхраларингба продолжили свой путь, но были схвачены бандитами и проданы в рабство мятежному правителю по имени Шак-цен из Танака, расположенного к северо-западу от Шигаце15. В Танаке двое буддистских ученых долгое время пасли овец, вероятно, размышляя при этом о сущности кармы и ироничности мироздания. В конце концов, они были освобождены Леном Цултримом Ньингпо, признавшим в них монахов, после чего два сверхквалифицированных пастуха направились в Кхам16. Там Смрити приступил к переводам различных эзотерических работ и изучению тибетского языка, в результате чего им была создана тибетская грамматика17. Вполне очевидно, что эти двое пропавших индийских ученых, пасших овец в Цанге, были освобождены последователями монахов Восточной винаи из Цонгкхи. Поэтому трудно объяснить их выдвижение на роль инициаторов «позднего распространения» Дхармы чем-либо иным, кроме как слепым преклонением перед переводческой деятельностью, свойственным средневековой тибетской историографии.
Довольно парадоксальным выглядит тот факт, что мы располагаем весьма скудной информацией о подавляющем большинстве молодых тибетцев, выдержавших тяготы экстраординарного путешествия на субконтинент. Даже если в Тибете им удавалось обрести покровительство того или иного властителя из потомков великих императоров, ожидавшие их трудности выглядели просто пугающими. Сначала им нужно было отправиться в какой-либо промежуточный пункт, обычно в Непале или Кашмире, где они могли найти группу торговцев, владеющих как тибетским языком, так и наречиями Северной Индии: средневековой апабхрамшей или протохиндустани. Там они учились общаться на языке, на котором впоследствии им предстояло изучать санскрит. Многие терпели неудачу уже на этом этапе, поскольку не каждый, каким бы усердным и стойким он ни был, может понять другой язык, когда в его собственной культуре отсутствуют даже самые начальные педагогические методы. На самом деле, мы можем привести примеры людей, вернувшихся в Тибет после многих лет, проведенных в Южной Азии, которые так и не смогли постичь даже основ какого-либо индийского языка.
Другие, возможно, потерпели неудачу из-за плохого отношения к ним индийцев, которое было не редким в отношении визитеров, вторгавшихся в их кастовую среду. Однако, не вызывает сомнений, что некоторые из местных жителей все же проявляли благосклонность к путешественникам, не отвечавшим их социальным нормам. Но все же большинство индийцев получало особое удовольствие от насмешек над иностранцами. Сюаньцзан рассказывает о том, что большой монастырь Махабодхьярама в Бодхгае был основан по приказу сингальского принца, имевшего печальный опыт поездок в места буддистского паломничества в Индии18. Куда бы он ни пошел, везде его встречали с презрением и пытались унизить, и все потому, что он был «из приграничной страны» – терминология, которую индийцы использовали в отношении тех, кто обитал за пределами территорий, населенных кастовыми индийцами. По этой причине и был основан монастырь Махабодхьярама, служивший прибежищем для странствующих монахов из Шри Ланки.
В сочинении Аль-Бируни, написанном примерно в те же самые времена, когда Дрокми и Марпа находились в Индии, утверждается, что у индийцев «весь их фанатизм направлен против тех, кто к ним не относится, т.е. против всех чужеземцев»19. Хотя оценка Аль-Бируни, безусловно, не может быть беспристрастной, т.к. он сопровождал вторжения Газневидов, тем не менее, его утверждения перекликаются с другими наблюдениями. Таким образом, тибетцы тоже считались выходцами из «приграничной страны», и по сей день многие индийцы порицают их за отличия в восприятии таких понятий как чистота, пристойность и социальное происхождение. Соответственно, редкие упоминания о том, что тибетцам в Индии оказывался теплый прием, могли быть отдельными случаями, в основе которых лежала идеология буддистского монашества. С другой стороны, это также могло быть попыткой самооправдания тибетцев, поскольку кто же захочет рассказывать местному тирану в Цанге, что к его религиозному представителю относились как к внекастовому аборигену (кем, несомненно, в Индии и были все тибетцы).
Начинающих тибетских переводчиков в Индии также подстерегали трудности физиологического характера. Большинство из тех, кто отправился в Индию, скорее всего, умерло вдали от дома от той или иной непривычной для них индийской болезни: малярии, гепатита, холеры, гастроэнтерита, различных форм дерматита, приводящих к заражению крови, энцефалита и т.п. Согласно запискам Ицзина, посвященным китайским паломникам седьмого столетия, опасность болезней для них были сопоставима с проблемами бандитизма, лишением свободы местными военачальниками, наводнениями, пожарами и голодом20. Те тибетцы, которые несмотря ни на что выживали, также должны были акклиматизироваться к влажной погоде летом – единственному времени, когда в У-Цанге действительно комфортно, – и к жаркому сезону с конца марта по июнь. Изменение диеты, нехватка мяса, отсутствие привычных питательных веществ, а также проблемы, связанные с усвоением новых источников белка, безусловно, способствовали чрезвычайно высокой смертности честолюбивых переводчиков. К этому добавлялся стресс, связанный с приспособлением к другой высоте, поскольку как сильные, так и слабые стороны физиологии тибетцев были напрямую связаны с особенностями их генетики, формировавшейся в течение многих поколений в условиях высокогорья.
Те из тибетцев, кто смогли физически и культурно адаптироваться к Индии, сразу же уходили с головой в изучение доктринальных и ритуальных основ буддистской культуры. Нет сомнений, что кому-то из них это давалось намного легче, чем другим, и, возможно, что некоторые переводчики одиннадцатого столетия проходили подготовку у своих предшественников, хотя неясно, насколько тщательно они готовились перед отбытием в Кашмир, Непал или Индию. Те, кто оставил после себя записки, указывают на минимальное обучение: Марпа выучил буквы; с Го-лоцавой Кхукпой Лхеце делились впечатлениями; но большинство, похоже, было очень слабо подготовлено к серьезной буддистской учебе.
Попадая в большой монастырь, тибетец становился ничтожным существом и оставался таковым, пока не достигал интеллектуальной зрелости. Но даже после этого он не мог претендовать на равенство с индийскими монахами при отборе на руководящие должности. Хотя отдельные индийские наставники могли относиться с уважением к отдельным тибетцам, я не знаю ни одного случая, чтобы тибетский монах был поставлен во главе индийского буддистского монастыря, какими бы блестящими ни были его лингвистические, медитативные или интеллектуальные способности. При этом в Китае, Монголии или России выдающихся тибетцев довольно часто встречали аплодисментами, подарками и назначениями на важные должности. Как бы ни вели себя индийцы за пределами своей страны, но внутри Индии для того, чтобы относиться к иностранцам как к равным, им, похоже, приходилось прилагать значительные усилия. Хотя выходцы из Центральной Азии, тибетцы и китайцы регулярно возводили индийцев на руководящие посты, весьма сомнительно, чтобы этот процесс когда-либо мог приобрести взаимный характер, несмотря на антикастовую риторику и интернационалистские настроения индийского буддизма.
Мы также мало что знаем об организации педагогической деятельности в индийских монастырях одиннадцатого и двенадцатого столетий, и в частности о том, оказывалась ли финансовая поддержка иностранным студентам. Мало кто из переводчиков приводит какие-либо подробности учебных программ индийских монастырей помимо списка заглавий работ и сообщений о том, что экзамены были проведены и сертификаты были выданы. Студент мог начать с грамматики, и, похоже, что самыми популярными были системы Чандравьякараны и Калапы21. Однако, для тибетцев этот предмет выглядел совершенно новым, поскольку ранние тибетские работы по грамматике санскрита выглядят довольно убого, а дошедшие до нас переводы индийских грамматик на тибетский язык относятся только к тринадцатому столетию22.
После начального этапа обучения языку студенты приступали к изучению краеугольных разделов буддистского учения: Абхидхармы и Винаи. В этом случае основными источниками для них, как правило, были «Абхидхармакоша» Васубандху и «Винаясутра» Гунапрабхи. Т.е. от них не требовалось осваивать старые тексты сарвастивады («Джнянапрастхану» и т.п.) или изучать огромную по объему «Муласарвастивада-винаю» (за исключением тех, кто специализировался в таких областях). Что касается писаний махаяны, то особо следует отметить появление в учебной программе такой экзегезы, как «Абхисамаяланкара», которой не было там при Сюаньцзане в седьмом столетии, а также постоянное изучение повествований из джатак и авадан. Также вполне очевидно, что трактаты «только сознания», по которым в Наланде обучался Сюаньцзан, больше не являлись основой учебной программы крупных монастырей. К тому времени, когда тибетцы прибыли в Наланду (Викрамашилу, Сомапури или Одантапури), в этих ведущих монастырях основной упор делался на эпистемологические и схоластические руководства с акцентом на идеи Дхармакирти, Чандракирти и Бхававивеки: «Праманавинишчаю», комментарии к «Праманавартике» и «Муламадхьямака-карике». В программе также были независимые работы мадхьямаки, подобные «Сатьядваявибханге», и всеобъемлющий труд Шантидевы. Кроме того, продвинутые студенты могли заняться изучением произведений других эпистемологов, придерживающихся комплексного подхода, таких как, например, Шантаракшита, или же попытаться разобраться в предмете одной из полемик того времени: к примеру, можно ли считать, что всеведение Будды распространяется на реальные объекты познания (sakaravada) или же нет (nirakaravada).
Возможно, что те из тибетцев, кто собирался заняться изучением тантризма, сразу же закреплялись за опытными преподавателями эзотеризма, уверенно обосновавшимися в этих огромных бихарских и бенгальских монастырях. Многие тибетцы начинали свое обучение именно в таких буддистских учреждениях, однако, были и другие, для которых гораздо более благодатной почвой стали небольшие монастыри и региональные храмы Кашмира, Бенгалии и Непала. Поскольку основными практиками в этих учреждениях были продвинутые йогические системы процесса завершения, развитие эзотеризма здесь происходило особенно успешно, причем с опорой на региональные особенности, местные традиции, собственных учителей и очень своеобразных йогинов. Хотя в великих центрах обучения уже располагались храмы, посвященные тантрическим божествам (к примеру, в Наланде тех времен был храм Чакрасамвары), и обретались специалисты по ваджраяне, такие как последователи сиддхской традиции Ратнакарашанти, все же основные центры духовности сиддхов по-прежнему находились на дальней периферии. К примеру, чтобы почтить Наропу нужно было посетить его восточно-индийскую обитель Пхуллахари, а его ученикам Пхамтхингпе Вагишваракирти и его брату Бодхибхадре отдавали почести в их удаленном убежище, расположенном в Пхарпинге на юге долины Катманду. Кроме того, в литературе описано множество случаев, как тибетец обретал своего наставника в результате случайной встречи или даже посреди джунглей, хотя этими «джунглями» в данном случае могла быть обычная деревня, расположенная поодаль от основных путей сообщения.
Как в больших и богатых монастырях, так и в скромных лесных обителях, многие переводчики сразу же начинали переводить только что изученные ими тексты, порой даже не прерывая процесса обучения. Колофоны к таким переводам иногда позволяют нам бегло взглянуть на эту частичку их жизни: «Мы, Пандита Парахитапрабха и тибетский лоцава Зуга Дордже, нашли старую рукопись в *Амритодбхава-вихаре в Кашмире и перевели ее»23. Примерно то же самое мы иногда читаем о переводах, сделанных в Непале в тех местах, которые теперь уже не так широко известны: «В очень знаменитом великом месте (mahapitha) Ньеве Тунгчопа (?) в городе Катманду, в Непале, ученый Джайтакарна и тибетский переводчик Шакьябхику Ньима Гьелцен Пел-зангпо перевели эту работу»24. Однако некоторые переводы явно были завершены в крупных монастырях Индии и, возможно, там же подвергались редактированию:
«Пандит из Магадхи Анандабхадра и тибетский переводчик Сеца Сонам Гьелцен перевели это, выверили и придали окончательную форму в соответствии с магадхским текстом перед самовозникшей Висуддха-ступой к югу от великого города Тирахати. Позже Тарпа-лоцава, он же Стхавира Ньима Гьелцен, правильно перевел его в соответствии с наставлениями, которые он услышал от сиддхи Карнашри в Шри Наланда-махавихаре»25.
После того, как Атиша либо основал монастырь Стхам Бихар, либо дал ему новое название Викрамашила в знак официальной связи с его собственным бихарским учреждением, тибетцы иногда стали представляться переводчиками, работающими в Викрамашиле. При этом по-прежнему остается неясным, посещал ли когда-нибудь тот же Мел-гьо этот великий монастырь в Бихаре: «Индиец Упадхьяя Манджушри и тибетский переводчик Мел-гьо Лотро Дракпа перевели это, выверили и придали окончательную форму этому переводу в Махавихаре Викрамашила»26. Мы не имеем представления о фактическом соотношении количества переводов, сделанных в Кашмире, Индии или Непале, в сравнении с Тибетом, однако, вполне очевидно, что большинство переводов приобрело свою окончательную форму уже не в самой Индии. Причиной этого было ухудшение условий деятельности тамошних монахов на протяжении всего одиннадцатого столетия, а одним из следствий, судя по всему, стали все более частые визиты индийцев в приграничные государства в течение двенадцатого и тринадцатого веков.
По возвращению в родные края у этих новых переводчиков чаще всего не было богатых покровителей, и поэтому они жили довольно скромно, чем отличались их от тех, кто занимался переводами в период тибетских династий, или же от китайских монахов, работавших в имперских переводческих бюро. Однако, они могли выбирать тексты для перевода без каких-либо ограничений, характерных для работы придворных переводчиков. Многим из них посчастливилось обеспечить начальное финансирование своей деятельности за счет доли в наследстве дворянского дома, которая могла включать в себя жилье вкупе с определенным правовым статусом. Если им к тому же удавалось заручиться помощью пересекавшего их местность индийского пандита, то это был самый идеальный вариант, поскольку собственные возможности большинства тибетцев в лучшем случае ограничивались минимальным запасом чернил и бумаги да рукописной копией «Махавьюттпати». Совсем немногие могли иметь копию грамматики Смрити Джнянакирти, и, кроме того, иногда упоминают работы Ронгзомы по грамматике, которые он написал специально для Марпы Чокьи Лотро – знаменитого основателя кагьюпы27. Большинство тибетцев проявляли добросовестное отношение к работе над переводами, но некоторые переводчики, в особенности тринадцатого и четырнадцатого столетий, всецело полагались на механистический метод дословного перевода, что, по всей видимости, было следствием упадка индийских буддистских институтов и уменьшения числа пандитов28. Эта процедура часто превращала их тексты в то, что с небольшой оговоркой можно назвать тарабарщиной, и мы можем только посочувствовать их ученикам, вынужденным пытаться понять смысл этой словесной мешанины.
При работе с текстами переводчикам приходилось преодолевать множество разнообразных трудностей, и исследователям поздних буддистские манускриптов остается только изумляться тому, каких успехов добивались эти тибетские ученые вопреки хаосу, творившемуся в мире индийских рукописей. Работая над ними, тибетцы столкнулись с двумя серьезными проблемами. Первой был переход на новую систему письма индийскими писцами примерно в девятом веке н.э. или около того (т.н. «переход к нагари»). В процессе него старые шрифты, основанные на сиддхаматрике, ведущем свое происхождение от старого гуптовского брахми, были постепенно упразднены и заменены рядом новых рукописных шрифтов, коренным образом отличавшихся от старых, особенно в Восточной Индии и Непале. По этой причине индийцы часто с трудом понимали, что написано в ранних манускриптах с их сложными лигатурами. Только письмо шарада, использовавшееся в Кашмире начиная с девятого столетия, обладало некоторыми чертами сиддхаматрики, полностью утраченными во многих шрифтах нагари, разработанных в Бенгалии, Бихаре и других местах29. Таким образом, в кашмирских рукописях еще сохранялась преемственность со старой системой письма, но это мало что значило для тибетцев У-Цанга, в особенности для тех, кто обучался в монастырях с использованием новой письменности.
Таким образом, одной из самых серьезных проблем были сложности с прочтением и пониманием старинных манускриптов, записанных ранними шрифтами. Ведь переводчики часто пытались работать с рукописями, принадлежащими перу их более ранних коллег, а также с манускриптами из старинных библиотек, впервые собранных еще во времена имперской династии. Поэтому не удивительно, что такие тексты в большинстве случаев были недоступны для понимания нашедших их ученых, причем как индийских, так и тибетских. На эту проблему указывали представители ньингмы одиннадцатого столетия при обсуждении вопросов их собственной легитимности, осуждая неспособность индийских пандитов читать старые рукописи. Так что вопрос аутентичности текстов ньингмы выглядел не столь однозначно, как его представляли их оппоненты.
Другой проблемой, связанной с индийскими рукописями того периода, была простая небрежность и низкая квалификация многих индийских писцов, копировавших эти тексты. Примерно в 1030 г. Аль-Бируни так прокомментировал этот факт:
«Индийские писцы небрежны и не прилагают усилий для изготовления правильных и хорошо сверенных копий. Вследствие этого возвышенные результаты интеллектуального творчества автора теряются по их небрежности, и его книга уже на первом или втором экземпляре настолько наполнена изъянами, что текст предстает как нечто совершенно новое, которое уже [никто] не смог бы понять»30.
Мало того, что индийские писцы были небрежны в копировании, они часто использовали весьма сомнительный прием, создающий будущим читателям дополнительные трудности: просили ученого продекламировать санскритский текст, чтобы переписчик мог на слух сделать его фонетическую обработку в соответствии с бенгальским или неварским произношением автора. Другие индийцы были печально известны тем, что «стряпали» рукописи, т.е. копии неполной или поврежденной рукописи вместо сопоставления ее с другой копией заполнялись материалом, созданным самими учеными. Эти и другие приемы иногда приводили к тому, что усердный и компетентный переводчик порой получал малопонятный набор текстов на пальмовых листьях или бересте. Несколько позднее Кьобпа Пел-зангпо умолял: «Я не смог найти пандита или получить вторую рукопись, поэтому пусть ученые проявят снисходительность к тем частям, которые содержат ошибки; этот текст подлежит редактированию, а ошибочные разделы – исправлению!»31. Переводчики одиннадцатого столетия иногда обходили эти трудности, используя в качестве основы для редактирования старые переводы имперского периода. Этот подход культивировался Атишой и его последователями как в Гуге, так и в Центральном Тибете. Однако, такая практика только закрепляла неуверенность в достоверности некоторых священных писаний, поскольку различия в редакциях, разделенных тремя-четырьмя столетиями, были таковы, что новый индийский текст слишком явно отличался от версии, на которой был основан предыдущий перевод.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
1. Suparigrahamandalavidhi-sadhana, fol. 154a6-7.
2. For example, Deb ther sngon po, vol. 1, p. 484; Blue Annals, vol. 1, p. 399; see also Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi ‘i bcud, pp. 474-75.
3. Given the attention that macrons have received in the spelling of Atisa’s name precipitated by Eimer’s observation that Atisa is never spelled Atisa in Tibetan I must inform the reader that Gayadhara is always spelled Gayadhara/Ghayadhara in Tibetan literature, the latter being very common, albeit the least probable. So why the change? Because I have never seen the name spelled Gayadhara in inscriptions, only Gayadhara. For example, Banerji 1919-20, 1. 27; Kielhorn 1886, v. Sr. Having worked with medieval Bengali and Newar manuscripts, I must conclude that the concern for vowel length has perhaps received more attention than is warranted.
4. bsTan rtsis gsal ba’i nyin byed, pp. 81-83.
5. gNas chen muk gu lung gi khyad par bshad pa, in Bod kyi gnas yig bdams bsgrigs, p. 299, indicates that Mu-gu-lung was founded 436 years before 1479.
6. Chos ‘byungdpag bsam I.Jon bzang, p. 834, with the birthdate inferred from the assumption that ‘Brog-mi was to have been 84 when he died; compare bsTan rtsis gsal ba’i nyin byed, p. 83.
7. bL a ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba 13-20; compare Tucci 1947 for the various lineages in Central Tibet, and Richardson 1998, pp. 106-13, for the question of the reliability of these lists.
8. Aris 1979, pp. 3-34; Gyatso 1987.
9. Ferrari 1958, pp. 66, 154.
10. Ekvall 1968 provides a good introduction to traditional nomad life.
11. sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, pp. 19-24, and p. 53; Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi i bcud apparently has one place where ‘brog mi is used as a collective noun, p. 461.6-7-
12. Nebesky-Wojkowit z 1956, pp. 269-73-
13. ‘Brog-mi dPal ye-shes is found in mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 613; Lo-tsaba ‘Brog-mi Phrag gi ral-pa-can in Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 490. The mTshams-brag manuscript of the rNying ma rgyud ‘bum, vol. tsha, fols. 26a67, represents the shorter text of the Sarvabuddhasamdyoga to be the translation of Pandita [?Buddha-] Guhya and ‘Brogmi dPal gyi ye-shes; equally, Kaneko 1982, no. 207, for the gTing-skyes manuscript.
14. bsTan rtsis gsal ba’i nyin byed, p. 82, Lam ‘bras khog phub , p. 121.r.
15. bLa ma brgyud pa bod kyi lo rgyus, SKB III.173.r.674.1.6.
16. The SKB edition reads snga dro’i tshur nye ba rnam thang dkar po na, but the place name sPa-gro was evidently overwritten by the editor into sNga-dro (morning), and the correct name and alternative spe lling is retained in other editions of the text; see LL Xl.595.5 : spa gro’i tshur nye ba gnam thang dkar po na; compare Pod-nag, LL XVI.17.6-18.1.
17. The story as related by Grags-pa rgyal-mtshan is far too elliptical to be translated directly, so I have supplied the sense from the Pod-nag, LL XVI. 18.1-23.3.
18. Again the text makes little sense. The editing of the LL XI.597.2, compared with bLa ma brgyud pa”i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba LL XVI.22.2, has been accepted: der bla chen gyi slob ma sgom chen se rog gnyis can du bzhugs nas |
19. gNag-smad, evidently a kind of wild black yak. An expanded version of the story of these yak and the position they played in the family of Se-mkhar chungba is found in the bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, LL XVI.32.6-33.1, in which Se, while a boy, is sent to graze them on a mountain, a fairly common experience among ‘brag-pa, even those from a quasi-aristocratic lineage.
20. The problems surrounding Rin-chen bzang-po’s chronology is examined in Vitali 1996, pp. 186-89 and n. 263. An edition and translation of the earliest Rinchen bzang-po hagiography are provided in Snellgrove and Skorupski 1977-80, vol. 2, pp. 83-116. Please note that this hagiography sets Naropa in Kashmir; thus it is subject to all the problems besetting the Naropa hagiography.
21. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 257; Blue Annals, vol. 1, p. 205; bsTan rtsis gsal ba’i nyin byed, p. 81.
22. Lam ‘bras snyan brgyud, p. 436.
23. Stearns 2001, p. 207, n. 15.
24. For an attempt to demonstrate the need for a reassessment of Ratnakarasanti’s work, see Davidson 1999. Fortunately, other scholars like Isaacson 2001, have begun to edit and reassess his material.
25. For example, for the inferiority of Ratnakarasanti’s view, see rNam thar yong grags, pp. 49, 71, 75-76, 86.
26. rNam thar yong grags, p. 114.
27. rNam thar yong grags, pp. 114-26.
28. Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 85-87; compare bLa ma brgyud pa i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, pp. 15-16.
29. In the sDe-dge bsTan ‘gyur are collected his treatise on cheating death (Mrtyuvancanopadesa, To. 1748), four instructions on the Guhyasamaja-tantra (To. 188790), a ritual for image consecration (To. 3131), and short sadhanas to Vajrapani (To. 2887) and Tara (3682)
30. The following is from Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 85-89; compare bLa ma brgyud pa i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 16.
31. Compare Lam ‘bras snyan brgyud, p. 437; Bhir ba pai lo rgyus, p. 395.
32. This work is also given three other titles, the Instruction of Santipa, the Autolocomotion of the Essential Meaning, and the Instruction on blessing the Awareness of Appearance; the work is in the Pusti dmar chung LL XIII.394-398.
33. Pusti dmar chung LL XIII.398-4ro contains these various instructions; the importance of these is emphasized in the Lam ‘bras khog phub, pp. 124-25.
34. rNam thar rgyas pa, Eimer 1979, §§ 231-32.
35. Pusti dmar chung LL XIII .398.3: na lendra’i mkhas pa sgo drug las.
36. Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 86-87; bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 16.
37. Lam ‘bras snyan brgyud, p. 437, and Bhir ba pa’i lo rgyus, p. 395, give nine years; Crags-pa rgyal-mtshan has twelve; Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 88-89, has thirteen for both Nepal and India; Lam ‘bras khogphub, p. 124, gives eighteen years.
38. For the sources of this nomenclature, see chap. 1, nn. 41 and 42.
39.Lam ‘bras snyan brgyud, p. 437; Bhir ba pa’i lo rgyus, p. 395.
40. Aris 1979, pp. 3-34; Gyatso 1987.
41. sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 52; mKhas pa i dga’ ston, vol.1, p. 187.1920; the importance of Ru-lag was noted by Everding 2000, vol. 2, pp.279-89.
42. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 187.4-5, 188.15-16.
43. mKhas pa’i dga·’ ston, vol. 1, p. 187.6; Chas ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 492; Vitali 1990, pp. 89-96.
44. Chas la ‘jug pa’i sgo, p. 345.1.5; the date is interpreted following Vitali 1996, P· 547, n. 934.
45. mKhyen-brtse’i dbang-po maintained that the trip could be done in a day; Ferrari 1958, p. 64.
46. Tshar chen rnam thar, p. 500; Ferrari 1958, p. 65.
47. Tshar chen rnam thar, p. 500; the cave was called Cha-lung rdo-rje-brag rdzong.
48. Ferrari 1958, p. 23; similarly, the visit by Si-tu Chas kyi rgya-mtsho, who visited Mu-gu-lung in 1919, devotes only a couple of lines to ‘Brog-mi; Kap tog si tu’i dbus gtsang gnas yig, pp. 328-29.
49. The text is not really given a title in the work outside the title provided by the editor-gNas chen muk gu lung gi khyad par bshad pa-but it is included in a collection of “sacred site letters” (gnas yig) entitled Bod kyi gnas yig bdams bsgrigs, pp. 29599.
50. We see mang-gar, mang-kar, mang-gar, mang-dkar, etc.; see Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 90-107, 117,180,226,229,235; sNgongyigtam me togphreng ba, Uebach 1987, p. 52; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 187.19-20.
51. The Ratnajvalasadhana, To. 1251, ascribed to Prajfiedraruci.
52. The earliest instance with which I am familiar is that of a Kayastha Bhattipriya from Mathura. See the inscription edited and translated in Sharma 1989, p. 312, dated to the first century c.e.; compare Russell 1916, vol. 3, pp. 404-22; Gupta 1996, pp. 8-49. There are many more inscriptions, however, than Gupta notes, and the history of the medieval Kayasthas has yet to be written.
53. For a succinct account of the caste, see Leonard 1978, pp. 12-15.
54. bLa ma rgya gar ba’i lo rgyus, SKB III.173-1.1-6, and note the Apabhramsa forms found in Gayadhara’s own Jnanodayopadesa, fols. 363b7-368a2.
55. Gupta 1996, pp. 50 ff.; Russell 1916, vol. 3, pp. 416-18.
56. This is disputed by Gupta 1996, pp. 61-62, although his reasoning is questionable, given the overwhelming specificity of the term Gauc;la; compare Russell 1916, vol. 3, p. 418.
57. Russell 1916, vol. 3, p. 421.
58. Boyer, Rapson, and Senart 1920-29, nos. 330, 338, are by divira Budharachi, who in 419 is identified as an important monk. Lin 1990, p. 285, was written by the monk Samghamitra; compare the remarks of Salomon 1999, p. 54, in which the monks are scribes (here Kayastha) who were permitted to retain their equipment and, evidently, exercise their skills on behalf of the Dharma.
59. There are too many inscriptions to note, compare Rajguru 1955-76, vol. 4, pp. 97, 103, 109, 155, etc.; compare Gupta 1996, pp. 94-99, for some others.
60. Gupta 1996, pp. 156-62.
61. Gupta 1996, pp. 156,158.
62. Mrcchakatika, pp. 182-83, 324-25 (act 5, v. 7, prose, act 9, v. 14); compare Rqjataraizgi1J.i 5-180-84, 8.131.
63. Kemendra’s Kalavilasa, discussed in Gupta 1996, pp. 160-61; for Kemendra’s criticism of tantrikas in general, see Baldissera 2001.
64. bLa ma brgyud pa·i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 117-
65. Tshar chen rnam thar, pp. 413-14.
66. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 43; Lam ‘bras byung tshul, p. 111.1.5-6.
67. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 43.
68. Tshar chen rnam thar, p. 414.
69. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, pp. 43-44.
70. bsTan rtsis gsal ba’i nyin byed, pp. 92-93.
71. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 145; Blue Annals, vol. 1, p. n2; Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 90-93.
72. Lam ‘bras snyan brgyud, p. 438; Bhir ba pa’i lo rgyus, p. 396.
73. Lam ‘bras byung tshul, p. n4.3; Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 96-97-
74. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 49.
75. For example, ‘Brug pa’i chos ‘byung, p. 221.
76. Lho rong chos ‘byung, p. 47.
77. The colophon to the Sri-Jnanajvala-tantraraja identifies her as such; To. 394, fol. 223a6: sing gha la’i gling gi rnal ‘byor ma tsandra ma la. ‘Brog-mi may have been party to the revision of the Abhidhonottara-tantra which is found in the Phug-brag canon, Samten 1992, no. 446, in which case he would have worked with Prabhakara as well; see Samten 1992, p. 163, which lists the revisers as Prabhakara and Shakya Yes-shes, but the chronology is difficult and it is possible this is another Shakya Yes-shes or an error in the name.
78. Samputa, fol. 158b6.
79. rNam thar yong grags, p. 159; mKhas pa i dga ston, vol. 1, p. 683; bsTan rtsis gsal ba’i nyin byed, p. 103.
80. Stearns 2001, pp. 91, 213, n. 39; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, pp. 77-99. mKhyen-brtse portrays Lha-btsun Ka-li as the son of mNga-bdag dPal-lde, indicating that ‘Brog-mi ‘s wife was a princess of the royal house. None of our lists for dPal-sde ‘s progeny support this claim; compare, for example, Bod rje htsan po’i gdung rah tshig nyung don gsal, p. 71, in which dPal-lde is given two sons: the elder, ‘Od-dpal-lde, and the younger, Dharma Tsakra. Stearns 2001, p. 213, n. 39, seems to accept the marriage of a princess and a nomad, even though he acknowledges on p. 232, n. 114, that no non-Lam-‘bras documentation supports this position. It would be unlikely indeed if a commoner like ‘Brog-mi were capable of marrying a princess. It is possible that the aristocratic house into which he married postured as one of the pretenders that arose during the period of fragmentation.
81. The annotation to the Zhih mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 90-91, indicates this about his sons, followed by bLa-ma Dam-pa, bLa ma hrgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 17; compare the names for the sons listed in bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 35.6. Nyang-ral’s Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi’i bcud, however, mentions a ‘brog mi sras po lo tsa ba, p. 480.15; Stearns 2001, p. 213, n. 39, discusses legends of the sons. The Phag mo gru pa’i rnam thar rin po che’i phreng ba, p. 13.2, mentions a bLa-ma Mang-dkar-ba, who may have been a descendant of ‘Brog-mi.
82. Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 96-97; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 49.
83. Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 100-101.
84. For a list of the participants, both Indian and Tibetan, see Shastri 1997, pp. 877-78.
85. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 100; Blue Annals, vol. 1, p. 72.
86. mKhas grub khyung po rnal ‘byor gyi rnam thar, p. 33; the claim is unclear as to which trip of Gayadhara’s is meant, and we are not certain that Khyung-po rnal’byor’s hagiographer knew that the Bengali scholar had made multiple trips.
87. Lam ‘bras snyan hrgyud, pp. 439-40; Kha rag gnyos kyi rgyud pa hyon tshul mdor hsdus, pp. 12.4-13.2.
88. While it is clear that the Rog here is sGom-pa Rog or gShen-sgom Rogpo, it is not clear that this Se is Se-ston Kun-rig; bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 22; compare gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 49 ; Lam ‘bras khog phub, pp. 138-39; Stearns 2001, p. 233, n. 120, discusses the problem.
89. Bhir ba pa’i lo rgyus, p. 398; bLa ma brgyud pa i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, pp. 21-22; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 49; Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, p. 97.
90. Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, p. 99; bLa-ma Dam-pa maintains that they were offered to Sa-chen by Nags-ston lo-tsa-ba at the time of his receiving the Lam’bras from Sa-chen; bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 22.
91. Lam ‘bras byung tshul, 114.1.25.
92. Lam ‘bras byung tshul, 114.1.34; Ngor-chen lists the following texts: a translation of the [Lam ‘bras] rTsa ha rdo 1je’i tshig rkang, the annals of the lineage of the Gyi-jo’i slob-brgyud, both a lengthy commentary on and a summary of the Lam ‘bras rtsa ha, and an unspecified number of texts on topics like the letters in the bha ga dkyil ‘khor. The lineage is Gyi-jo zla-ba’ i ‘od-zer, Zhu ‘khor-lo, Zhu dar-ma rgyalmtshan, Zhu-ston Hor-mo, ‘Od-pa don-ne, mChims Tshul-khrims shes-rab.
93. Lam ‘bras byung tshul, 110.3.5-11.2.5.
94. Zab don gnad kyi sgron me of Go-rams bSod-nams seng-ge, p. 2.
95. Raktayamantakasadhana, To. 2017; Raktayamarisadhana, To. 2018; Uddiyanasriyogayoginisvabhuta-sambhoga-smasanakalpa, To. 1744 (fol. 11361 of this work associates it with the Mahamaya-tantra, or the Khasamatantra), Chinnamundasadhana, To. 1555; a variant version of this last work was edited and examined by Nihom 1992.
96. gShin rje gshed kyi yid bzhin gyi nor bu’i phreng ba zhe bya ba’i sgrub thabs, To. 2083, fol. 159a7.
97. Schaeffer 2002 introduces this literature but glosses over ( p. 523) the fact that the literature principally describes a substance, ambrosia (amrta), rather than immortality per se.
98. Raktayamantakasadhana, To. 2017, fol. 78a2; there is little surprising about this, but the confirmation is satisfying. The nectar texts are Amrtasiddhimula, To. 2285, and Amrtadhisthana, To. 2044.
99.Yamririyantrrivali, To. 2022.
100. These are, respectively, the ‘Od gsal ‘char ba’i rim pa,To. 2019, and the Karmacandalika-dohakosa-giti , To. 2344. Despite the doha form of this latter, it is really an instructional text.
101. Dohakosa, To. 2280; Viruaptidacaurasi, To. 2283; Sunisprapancatattvopadesa, To. 2020.
102. bsKyed rim gnad kyi zla zer, p. 178.3.
103. There are three specific works like this in the Pod ser: Lung ‘di nyid dang mdor bsdus su sbyar, Lung ‘di nyid dang zhib tu sbyar ba, Lam ‘bras dang bcas pa’i don rnams lung ci rigs pa dang sbyar. Collectively, they occupy Pod ser, pp. 481-581.
104. Differences of opinion by various teachers, Indian and Tibetan, are especially noted in the sGa theng ma, pp. 175, 180, 186-87, 192-93, 195-96, 203, 223, 267, 280, 282, 319-20, and 331-32.
105. lDan bu ma, p. 298.1.
106. It is possible that this work is related to the recently published Jnanodayatantra.
107. Yoginisancarya LI, and chaps. 2 and 3, are largely dedicated to this idea; Yoginisancarya, ed. Pandey 2002, pp. 8-13, 19-41.
108. For example, Sras don ma, pp. I 1.2, 21.I, 22.4, 27. 5, etc.
109. We might note the continuity of use from the Ratnagotravibhriga forward, for that Mahayanist work starts with seven “adamantine words” (vajrapada); Ratnagotravibhaga, LI; Takasaki 1966, pp. 141-42. Compare the discussion in the Pancakrama, LII 12.
110. Ratnagotravibhaga,1.23-26; Takasaki 1966, pp. 18695.
111. For example, Jackson 1996; Levinson 1996.
112. For example, Sras don ma, pp. 5152, which allows for both Samvara and Hevajra visualization systems, even though evidently preferring the former.
113. Sras don ma 24.1-2.
114. This material is taken from the rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i ljon shing 30.3.535-1.5, and supplemented by sGa theng ma 386.4-400.2, Sras don ma 323.6-34.4.
115. One of the curiosities of Sachen’s descriptions are that the four joys of the mandalacakra practice are called in “ascending” order, despite the descent of the fluid from the fontanel to the navel, and the four joys of the adamantine wave are in the “descending order,” despite their ascent from the navel to the fontanel. I have not encountered an explanation of this variance in terminology. Both go through the sequence of ananda-paramananda-viramananda-sahajananda. For a discussion of these and the controversy on their order, see S nellgrove’s introduction to Hevajra-tantra, p. 38; see also Kvrerne 1975; Davidson 2002d.
116. On this controversy and the lore of sahaja, see Davidson 2002d.
117. For example, all three ‘khams ‘dus pa are applied to the rdo rje rba labs in kLog skya ma, pp. 254-55. However, Sa-chen in the Gang zag gzhungji !ta ba bzhin du dkri ba’i gzhung shing, Pod ser, pp. 312-13, equates the two lists of three items.
118. I have pointed out that alternative Tibetan translations of the Maiijusrinamasamgiti, for example, were the most frequently encountered in monastic liturgical syllabi (chos spyod), and these did not conform to its late canonical translation (To. 360) by Shong bLo-gros brtan-pa; Davidson 1981, p. 13; cf. Wedemeyer, forthcoming .
119. LL Xl.347-479; we note a different order observed by Ngor-chen in his Lam ‘bras byung tshul 109.3.2-10.1.6.
120. The received Sanskrit is edited by Samdhong Rinpoche and Dvivedi, Guhyadi-Astasiddhi-Sangraha, pp. 195-208; ‘Brog-mis translation is found in Pod ser LL Xl.347-62, and at that time the text apparently had the title Acintyakramopadesa; these eight subsidiary cycles are presented briefly in Stearns 2001, p. 210, n. 30.
121. See the bibliography; it is worth noting that Crags-pa rgyal-mtshans gLegs bam gyi dkar chags makes no mention of the eight subsidiary texts, so their inclusion is apparently a later addition to the Pod ser LL XI.1-8.
122. LL Xl .36287-
123. Acintyadvayakramopadesa vv. 87-89; LL XI.358.4-5; To. 2228, fol. 103a7-b1.
124. The text is found Pod ser LL XI.387-95.
125. Shendge 1967 (Sahajasiddhi); Samdhong Rinpoche and Dvivedi, Guhyadi-Astasiddhi-Sangraha, pp. 181-91; compare Pod ser LL XI.387-95.
126. Hevajra-tantra I.x.41; compare Pod ser LL XI.387-4.
127. These are reviewed by Shendge 1967, p. 128.
128. Pod ser LL XI.395.5: ‘di la rtsa ba med pa’i lam ‘bras bya ba’ang ming ‘dogs te l-
129.Lam ‘bras byung tshul, p. 109.4.3; compare his discussion of l) ombiheruka ‘s position in the “exegetical system,” (bshad brgyud), Kye rdo 1je’i byung tshul, p. 282.1.12.5; for Ngorchen’s consideration of this lineage, see Davidson 1991 and 1992.
130. The text is found in Pod ser LL Xl.400-406.
131. Pod ser LL Xl.405.5-6.
132. Guhyasamaja-tantra, p. 10, has both verses, even if the verse attributed to Vairocanavajra is not identified with a number by Matsunaga; the obhyavajra verse is ll.4. The former verse is found right at the beginning of the Bodhicittavivarana, To. 1800, fol. 38a7. Namai 1997 has begun to explore the complexity of the bodhicitta texts and their relationship to the Guhyasamaja.
133. Sarahapadasya dohakosa, Bachi 1935, pp. 52-120.
134. Lam ‘bras byung tshul, p. 109.4.2.
135. Pod ser LL Xl.401.4, 406.1.
136. The text is found in Pod ser LL Xl.406-419.
137. Pod ser LL Xl.406.3-4; note that Ngor Chen, Lam ‘bras byung tshul, p. 110.1.2-3, indicates that rather than Pombiheruka’s Nairdtmyayoginisddha na, Vagisvarakirti used his own De kho na nyid rin po che’i phreng ba as a source text. We seem to have no surviving text by that name attributed to Vagisvarakirti, however, and I wonder whether Ngor-chen was confusing Vagisvarakirti with Advayavajra, who did write a Tattvaratnavali, found in the Advayavajrasamgraha, pp. 14-22.
138. Saptanga (To. 1888), esp. fol. 19oa-b; Tattvaratnavaloka, ed. Janardan Pandey (To. 1889).
139. Pod ser LL Xl.406.5, 418.6.
140. The text is found in Pod ser LL Xl.419-441.
141. Pod ser LL Xl.419.4-5; we note that Ngor-chen makes this work based on both the Sri-Hevajrasadhana and the Sri-Hevajrapradipasulopamavavadaka; Lam ‘bras byung tshul, p. 109.3.6-4.1.
142. Pod ser LL Xl.420.2-3.
143. Pod ser LL Xl.441-445; compare To. 1220, which is the same translation.
144. Pod ser LL Xl.445.3.
145. The text occurs in Pod ser LL Xl.445-57.
146. The identity of the Samvara as a nondual tantra is anomalous; see bSodnams rtse-mo’s rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, p. 18.1.2.
147. Pod ser LL Xl.445.4-46.1.
148. The Vasantatilaka has been edited by Samdhong Rinpoche and Dvivedi; the Guhyatattvaprakasa is found as the gSang ba’i de kho na nyid rab tu gsal ba (To. 1450), and the Samvaravyakhya is found as the sDom pa bshad pa (To. 1460); the Olapati is discussed later.
149. The commentary’s title is imperfectly Sanskritized to Olacastustayavibhanga : Rim pa bzhi’i rnam par ‘byed pa; fol. 358b7.
150. Sa-chen’s works on Kanha’s tradition are found in SKB I.216-4-2-256.3.6, which mention the “six texts” (gzhung drug) of Kanha and especially attend to the Olapati and the Vasantatilaka. Grags-pa rgyal-mtshan’s materials are primarily on the consecration ritual and lineage, although the “six texts” topics are covered in some detail; Nag po dkyil chog gi bshad sbyar and bDe mchog nag po pa’i dkyil chog lag tu blang ba’i rim pa.
151. The text gives U-tsita-‘chiba-med-pa, and it appears that acyuta >ucyata >ucita in a series of copying errors, as acyuta exactly translates ‘chi ha med pa, deathless. The text is in Pod ser LL Xl.457-61.
152. Pod ser LL Xl.461.1.
153. Lam ‘bras byung tshul, p. 110.1.4-5.
154. Caryagitikosa, nos. 10, 1r, and 18.
155. Pod ser Ll Xl.458.5.
156. Lam ‘bras byung tshul, p. no.1.5.
157. The text occurs in Pod ser LL Xl.461-79.
158. Sras don ma, pp. 364.4-66.1.
159. Pod ser LL Xl.461.2-3.
160. Pod ser LL Xl.479.3-4; compare Blue Annals (1949), vol. 2, p. 697, Prajnagupta is attributed the position of the Indian informant in Mahamudratilaka (To. 420), and other tantras (To. 421-22). Ruegg 1981, pp. 220-21, discusses his career and incorrectly reconstructs his name, while the colophon to the Jnanatilakayoginitantraraja-paramamahadbhuta,To. 422, fol. 136b4, provides the correct Prajniagupta. See also Karmay 1998, pp. 30-35; Stearns 2001, pp. 52-53; Vitali 1996, p. 238, n. 336.
161. Lam ‘bras byung tshul, pp. 124.4.6-25.1.2; I am presuming this section belongs to the part completed by Gung-ru Shes-rah bzang-po; Gung-ru Shes-rah bzang-po refers to a line in the Pod ser LL Xl.6.4.
162. Samputatilaka, To. 382, fol. 194a6-7; de Jong 1972, pp. 26-27, notes and translates this colophon but does not interpret it satisfactorily. Interestingly, a manuscript of ‘Brog-mi’s initial translation of the tantra before his final revision exists in the Phug-brag canon no. 461; Samten 19921 p. 168.
163. rGyud kyi rgyal po chen po sam pu (a zhes bya ba dpal ldan sa skya pa1_uji ta’i mchan dang bcas pa, fol. 3ooa3 ( p. 667.3);the date is provided fol. 300b4 ( p. 668.4).
164. This enumeration is taken from the Tohoku catalog, ed. Ui et al. 1934. Respectively, this indicates numbers To. 381-4u, 413-14; 41718 (one work, the Hevajra-tantra), 418191 426-27, 1185, 1195, 120 78, 1210-13, 1220, 1225-26, 1236, 1241, 1251, 1263, 1305-6 (note the incorrect numbering, 1306 given twice, but 1304 missing so that the numbers once again coincide by 1306), 1310, 1416, 1514, 1705. We may also note that To. 429, listed in the catalog as by Gayadhara and (‘Brogmi) Shakya ye-shes, is an incorrect reading of the colophon, which gives the translators as Gayadhara and ‘Gos khug-pa lhas-btsas. Similarly, To. 1209 and To. 1240 are not clearly by ‘Brog-mi, according to the printed text, which provides no translator, although the designation of ‘Brogmi to To. 1210 and To. 1241 may indicate that these were considered concluding sections of their immediately preceding works. Phug-brag 446 [Samten 1992, p. 163] is a revision ascribed to Prabhakara and Shakya Ye-shes, but it is possible that this is not ‘Brog-mi.
165. This work describes a mandala of ten divinities and features a Gold Tara with four heads and eight arms. It is not clear why ‘Brogmi should have translated this work, although he did it alone and it may have been done toward the end of his life; Arya-Taramandalavidhi-sadhana, To. 1705.
166. Respectively, To. 381, 382, 417-418, and 419; To. 417 is in fact only the first half (kalpa) of the two parts of the work, so that the translators’ colophon indicates their agency in the entire translation, and the Tohoku catalog needs emendation. For observations on the importance of different renditions of the Hevajra, see van der Kuijp 1985, whose errors in Sanskrit have been noted by Nihom 1995, p. 325, n. 29. Samten 1992, pp. xiv, 167, notes that the Vajraparijara found in Phug-brag no. 458, while ascribed to this team, is in fact quite different from the edition found in the other canons.
167. In his bsKyed rim gnad kyi zla zer, p. 175.2.2, Ngor-chen identifies Ratnasrijnana with Gayadhara, although this identification appears to be another of Ngor-chen’s idiosyncratic readings of history.
Примечания распределены по соответствующим главам.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Бари-лоцава был одним из самых выдающихся ритуалистов своего времени, специализировавшимся на переводе наставлений по эзотерической медитации (sadhana). Он родился в расположенной в Кхаме области Лингкха, и о его родителях ничего неизвестно, хотя вполне очевидно, что его отец принадлежал к сравнительно малоизвестному клану Бари71. Бари был склонен к религиозности и мечтал учиться в Центральном Тибете. Он собрал средства на свое путешествие и в возрасте восемнадцати лет (1058 г.) – обычный возраст, в котором кхампы того времени направлялись в Центральный Тибет, – отправился на запад. В западном Уру он получил начальное посвящение от Кусулупы Жанга Йонтена Ринчена и Лобпона Тенчикпы Цондрe-драка, и эти же наставники дали ему имя Ринчен-драк. Так же, как и в будущем с Саченом, эти учителя начали свой курс с преподавания Бари основ буддийского учения, причем, как и многие другие кхампы того периода, он изучал кадампинские наставления по ступенчатому буддийскому обучению. Помимо этого существует впечатляющая апокрифическая история, согласно которой Бари учился у самого Атиши, что в принципе противоречит общей хронологии72. Под руководством Геше Нья-равы Дондрупа Бари завершил изучение литературы кадампы и ознакомился с основными произведениями йогачары, в том числе с «Абхидхармасамуччаей» и некоторыми текстами, приписываемыми Майтрее.
В этот же период Бари отправился засвидетельствовать свое почтение статуе Джово, находящейся в великом храме в Лхасе. Здесь в ослепительном сне ему явился одиннадцатиголовый Авалокитешвара и предсказал ему великие свершения. Реакцией Бари на данный сон стало его решение отправиться на обучение в страну Будды. Бари прожил в Центральном Тибете пятнадцать лет, а затем в возрасте тридцати трех лет он присоединился к группе благочестивых буддистских деятелей, состоявшей из тринадцати паломников и включавшей в себя Кадампу Геше Дарму (который направлялся в Ваджрасану), ассамского йогина по имени Шри Пхаламати, их последователей и других искателей истины. Вероятно, осенью 1073 года они отправились вниз из Кьиронга и должны были пройти через Навако и Катманду, чтобы в конечном счете достичь буддистских центров Лалитапаттаны. Бари, столь хорошо изучивший буддийскую доктрину и основополагающие работы, посвященные нравственности, вот-вот должен был столкнуться с тем, что основной упор в буддийских центрах Южной Азии делается на ритуал.
Первым учителем Бари был непалец Пандита Ананда, о происхождении которого нам ничего неизвестно. У него Бари обучался по тогдашней очень объемной ритуальной программе, включавшей в себя изучение практик посвящения, медитации, ритуальных наставлений, уровней тантрических полномочий, комментариев к работам, относящимся к циклам «Чакрасамвары» и «Ваджрайогини», а также материалов «Чатухпитхи». Кроме того, в Непале он прошел стандартный курс обучения грамматике санскрита и был отмечен как человек, достигший совершенства в этом языке. Затем он отправился в Индию, и первым, кого он встретил на своем пути, был гуру Махайогин. С этим малоизвестным наставником Бари продолжил изучение ритуалов, в особенности связанных с Ваджраварахи. Однако, самый важный период своего обучения в Индии Бари провел у известного тантрического наставника Ваджрасаны, второго в линии носителей этого имени73.
У Ваджрасаны Бари углубился в изучение эзотерических текстов и священных писаний махаяны, в том числе таких сутр как «Аватамсака», «Ратнакута» и «Самадхираджа». Ваджрасана также обучил Бари специальным ритуалам, направленным на уничтожение врагов и отвращение вреда, причиняемого небуддистами, что является одним из множества подтверждений роста религиозной напряженности в Южной Азии, начало которого относится как раз к этим временам74. Ваджрасана вместе с Амогхаваджрой внимательно изучили собрание текстов, включающее в себя 1008 садхан и отобрали 108 из них для перевода на тибетский язык. В результате этого на свет появился великий сборник ритуалов Бари под названием «Сто эзотерических ритуалов» (sGrub thabs brgya rtsa). После девяти лет обучения ритуалистике в Непале и Индии Бари вернулся домой в 1082 году в возрасте сорока двух лет. В Тибете он добился заметного успеха, став знаменитым странствующим переводчиком, только недавно прибывшим из Индии с самыми последними эзотерическими учениями, и его приглашали в различные места для проведения посвящений и наставления в новых материалах. Одним из таких мест был Сакья, где его принимал сам Кончок Гьялпо, и именно это впоследствии стало причиной того, что сакьяпинские авторитеты пригласили Бари стать настоятелем монастыря после смерти основателя Сакьи.
Создается впечатление, что перечень текстуальных и ритуальных тем, которые изучал Сачен во время своего обучения у Бари, составлен на основе списка наиболее значимых буддистских работ двенадцатого столетия75. В очевидном стремлении обеспечить Сачену тот уровень подготовки, который вызывает почтение даже в Индии, Бари бросил молодого ученого в такое же хаотическое море писаний махаяны и ваджраяны в каком плавал и он сам, включая особо значимые для ритуала своды текстов крия- и чарья-тантры, а также высший уровень йога-тантры и в особенности материалы йогини-тантр. А завершалось это ритуальное пиршество собственным переводом Бари «Сто эзотерических ритуалов»76.
Будучи полностью подготовленным к жизни в качестве наставника ритуалов, Сачен провел грандиозную церемонию освящения ступы, в ходе которой старательно собранные Бари великие реликвии святых праведников прошлого были помещены в новую «Ступу всех победоносных» (rNamrgyal mchod-rten)77. Ее название ведет свое происхождение от ее содержимого: множества глиняных отпечатков с текстом «Виджаядхарани» (Заклинание Победоносного). Кроме того, внутрь ступы были помещены земля из индийских священных мест, кусок дерева бодхи, реликвии Будды и святых праведников (включая телесные останки), а так же величайшая среди них всех реликвия: накидка (samghati) из состава одеяния Будды Кашьяпы, одного из предшествующих мифических будд78. Согласно источнику в конце церемонии ступа окуталась светом, похожим на кипящее золото, а в небе раздался звон колокольчиков и громкое бесплотное «Отлично!», прозвучавшее четыре раза. При таких благоприятных знамениях Бари-лоцаве оставалось только передать руководство Сакьей и ее поместьями Кунге Ньингпо после восьми лет своего умелого управления. Также сообщается, что для защиты переводчик даровал Кунге Ньингпо говорящую каменную статую Махакалы. Бари вернулся в свой храм Ю-кхармо и скончался через два года после этого, находясь в уединении в своей пещере79. Если хронология источников верна, Бари завершил свое управление в 1110 г., а умер в 1112 г.80.
После перерыва в своих философских изысканиях Кунга Ньингпо вернулся к изучению трудов Дхармакирти под руководством проживавшего поблизости Геше Ме-лханг-цера, а затем взялся за освоение мадхьямаки, используя при этом три работы наставников восточной сватантрики81. Затем уже с известным нам святым подвижником Нам-кханпой Кунга Ньингпо приступил к более систематической проработке эзотерического канона, не обойдя своим вниманием работы практически каждого его раздела. Наконец, он занялся дальнейшим освоением философских материалов, тщательно изучив пять работ, приписываемых Майтрее, труды Шантидевы, а также различные версии Праджняпарамиты с сопутствующими комментариями.
Видя такую ненасытность знаниями, старейшины семейства Кунги Ньингпо отправили его в храм Гьичу, где обитал Гьичува Драплха-бар, член клана Кхон и выдающийся переводчик. Под руководством Гьичувы Кунга Ньингпо изучил три тантры, относящиеся к циклу «Хеваджры», а также такие комментарии к «Хеваджра-тантре», как «Каумуди-панджика» Дурджаячандры и «Йогаратнамала» Канхапады. Здесь он также занимался изучением как махаянских философских, так и тантрических работ, в число которых входили две группы текстов, которые Гьичува получил от ученика Майтрипы Ваджрапани82. В подготовительную ночь, непосредственно перед тем, как получить одно из посвящений от Гьичувы, Кунга Ньингпо увидел во сне три моста, пересекающих огромную реку, окрашенную в красный цвет, как будто бы она была наполнена кровью. Он сразу же понял, что эта река символизирует собой океан существования83. В реке было много живых существ, и все они кричали: «Пожалуйста, спаси меня! Пожалуйста, разве ты не спасешь меня!» Он спас их всех и тут увидел, что на ближнем мосту находится много людей, на среднем – только семеро, а на последнем мосту – лишь трое. Ему приснилось, что он спасает и их, но тут он проснулся и забыл этот сон, и только позже вспомнил о нем. Когда Кунга Ньингпо спросил что все это значит Гьичуву, его учитель только поддразнил его: «С твоими нынешними способностями как бы ты мог спасти более трех?»
Во время учебы у Гьичувы Кунга Ньингпо узнал, что Сетон Кунрик будет проводить занятия в Догто, являвшимся родовой территорией Сетона84. Хотя знамения были не особо благоприятными, некоторые из младших учеников Гьичувы собрались посетить эти занятия, поэтому Сачен тоже решил отправиться туда. Ученики ламы Се начали расспрашивать наставника о его жизненном пути, и, когда речь зашла о Сакье, лама Сетон заметил, что там жил один из его учителей, Кхон Кончок Гьелпо, но он уже умер. Но когда Кунга Ньингпо сообщил, что он является сыном Кончока Гьелпо, Сетон обвинил его во лжи. Однако, друзья Кунги Ньингпо сразу же рассказали учителю о второй жене Кончока Гьелпо, после чего он стал проявлять должное внимание к сыну своего учителя. Он заявил: «Этот дряхлый старик обладает Дхармой, и я передам ее тебе, но ты должен явиться ко мне как можно быстрее. Если ты думаешь, что можешь не торопиться, пожалуйста, пойми, что я умру в следующем году». Затем Сетон потратил день на обучение Кунги Ньингпо короткой версии ламдре.
Гьичува не был впечатлен Сетоном и не позволил Кунге Ньингпо вернуться к нему. «Ваша оценка этого человека неверна. Это “Селче-па-ре” (Selce-pa-re; Се, который хочет быть проповедником), у которого полностью отсутствует какое-либо медитативное обучение. Он просто учит фрагментам, вырванным из Дхармы моего учителя Нгарипы». В такой ситуации Кунга Ньингпо мало что мог поделать, поскольку был связан с Гьичувой не только стандартами отношений между учителем и учеником, но и семейными узами. Тем не менее, пророчество Сетона сбылось, и в следующем году он умер. Гьичуве тоже оставалось недолго жить, и перед смертью он высказал пожелание, чтобы Кунга Ньингпо стал монахом и взял на себя управление монастырем Гьичу, который таким образом остался бы в руках члена его клана. Кунга Ньингпо сначала отправился в Сакью, чтобы собрать материалы для своего посвящения в монахи. Однако, Нам-кхаупа воспротивился этому, утверждая, что Кунга Ньингпо принесет гораздо больше пользы живым существам, оставаясь в мирском сословии85. И снова Кунга Ньингпо оказался вовлеченным в борьбу между двумя учителями, преследующими противоположные цели, причем в этом не было ничего необычного, ведь подобные разногласия являются обыденностью в тибетской жизни.
Не имея возможности противиться такому решению, Кунга Ньингпо решил продолжить свою учебу в качестве мирянина. Взяв с собой тексты и заметки Гьичувы, он отправился в расположенный в Гунгтанге Не-сар на обучение к одному из учителей Гьичувы, прославленному Мелгьо-лоцаве Лотро Дракпе, который был учеником двух (или, по другим данным, четырех) непальских братьев Памтхингпа, являвшихся самыми выдающимися учениками Наропы. Здесь ученый переводчик сосредоточился на божественных циклах «Чакрасамвары», к которым он с тех пор проявлял неизменный интерес86. Помимо основных писаний, Кунга Ньингпо также изучал системы медитации, ассоциируемые с линиями передачи «Чакрасамвары» таких индийских наставников, как Лухипа, Гхантапа, Канхапа и пр. Кроме того, он занимался изучением «ваджрных» песен Наропы, а также многих других эзотерических произведений, которые он уже освоил в других линиях передачи. Однако, некоторые из учеников переводчика стали завидовать Сачену, высказывая сомнения в его способностях, и несколько связанных с этим неприятных инцидентов омрачили его пребывание в Гунгтанге87. Близость Гунгтанга к Непалу позволила Сачену встретиться с тремя нетибетцами. Два непальских ученых, Падмашри и Джнянаваджра, посетили южный Тибет и привезли с собой недавно разработанную экзегезу «Калачакры» под названием «Манджушринамасамгити», а также другие эзотерические учения. Индийский ученый Бхадрарахула также дал ему некоторые наставления.
 |
|
Илл. 19. Линия ламдре после Дрокми. По часовой стрелке, начиная сверху слева: Секхар Чунгва, Жанг Гонпава, Сонам Цемо и Сачен Кунга Ньингпо. Монахи Сакьяпы, около 1500 г. Центральный Тибет, сакьяпинский монастырь. Музей искусств округа Лос-Анджелес, дар Фонда Ахмансона. Фото © 2004 Museum Associates/LACMA
|
Однако, Сачен так и не получил всего ламдре, поэтому он стал наводить справки об учениках Сетона. На этот счет мнение было единодушным: лучшими среди учеников Сетона считались братья Жанг. Старшим из них был Жанг Гонпава, которого также звали Жанг Чобар (см. илл. 19)88. Он и его младший брат Жанг Зиджи работали на Сетона во время строительства его монастыря89. В то время как младший брат решил вернуться в свою деревню Сактанг-дин, расположенную в восточной части Цанга, Жанг Чобар не принял плату за свою работу, а вместо этого попросил дать ему наставление. Ему сказали, что этого недостаточно и необходимы более весомые дары, поэтому немногим позже он вернулся с тремя сотнями вьюков ячменя и множеством товаров, включая кольчугу. Очевидно, его брат также получил определенные наставления, поскольку они оба были объявлены Сетоном в текстах линии преемственности как понимающие его Дхарму. К временам Сачена младший брат уже умер, однако, Гонпава был еще жив. В источниках сообщается, что Нам-кхаупа довольно язвительно критиковал Жанга Гонпаву, но в конце концов позволил Сачену отправиться на обучение к этому наставнику.
Что касается Жанга Гонпавы, то наиболее интересным является то, что он представлял себя последователем «метода брахмана» (bram ze lugs) и «метода ца-мундри» системы Великого совершенства. О последнем из них мало что известно, а вот с вариантом первого мы уже встречались ранее, поскольку он включает в себя одну из традиций «текстов-сокровищ», в которой утверждается, что она исходит от Вималамитры и представляет собой передачу, близкую к той, что описана в колофоне «Основополагающей сущности» (sNying tig), переведенном в Главе 6. В качестве альтернативы можно предположить, что история, которая связывает тексты «метода брахмана» с ментальным проявлением Авалокитешвары, впервые была представлена Ньянг-релом90. В колофонах к двум общепризнанным тантрам Великого совершенства упоминается «система брахмана», и в одном из них указывается, что она является методом в группе из шести тантр91. В описании буддизма долины Ньянг также упоминается группа из шести тантр, но вслед за этим подробно анализируется перечень двенадцати позиций, которые, как утверждает текст, в совокупности составляют один из шести циклов Великого совершенства92. Родственные линии передачи Великого совершенства, которые фигурируют в дополнении к «Истории» Ньянг-рела и одна из которых включает Падампу, брата и сестру Жамов, а также Жанга Гонпаву, достаточно близки к другим линиям передачи и связывают между собой все эти фигуры93. Каким бы ни было точное значение таких списков, в совокупности все эти сообщения позволяют предположить, что Жанг в отличие от Дрокми не представлял себя распространителем эзотерических таинств, недавно прибывших из Индии, а вместо этого предпочитал опираться на широкое сочетание разных традиций. Аналогичное совмещение старого и нового проявлялось и в деятельности других известных личностей того же периода. В качестве примера можно отметить сохранение Кхоном Кончоком Гьялпо систем Ваджракилы и Янгдака Херуки, относящихся к линиям передачи еще имперских времен, хотя сам он уже специализировался на более новых тантрических традициях.
Агиографы любили описывать, как Сачен нашел ламу Жанга в деревенской обстановке, одетого в грубую одежду и говорящего в сбивчивой манере, т.е. выглядевшим как совершенный тибетский сиддха. Но Жанг Гонпава не был впечатлен устремлениями Сачена, заявляя при этом, что сам он постиг только Великое совершенство. Однако, уже прогнав его, Жанг узнал, что Сачен является сыном Кончока Гьелпо, и, как утверждают агиографы, осознал, что совершил большую ошибку, проявив неуважение к члену наследственной линии ламдре. Поэтому он призвал Сачена обратно и после ритуального искупления своей ошибки даровал ему полное ламдре вместе со всеми вспомогательными учениями и восемью дополнительными практиками. Следует отметить, что данный эпизод наглядно демонстрирует особую значимость клановой идентичности, причем пренебрежительное отношение к сыну трактовалось как нарушение обетов, данных его отцу. Также заметим, что эта идея, конечно же, не имеет никакого отношения к индийским тантрическим обетам.
Большинство источников сходятся во мнении, что обучение у Жанга в общей сложности длилось четыре года. Вполне вероятно, что Сачен получил от Жанга Гонпавы имя, которое иногда появляется в списках линии преемственности ламдре и звучит как Микьо Дордже (санскр. Акшобхьяваджра)94. Жангтон наложил на Сачена весьма серьезное ограничение: во время учебы он не должен был делать никаких записей и кроме того никому не объяснять текст в течение восемнадцати лет. Подобно поведению Жанга при их первой встрече, в течение данного периода времени Сачен также не должен был признавать, что знает такое название как «ламдре». Кроме этого, ему было сказано, что если он будет только практиковать, то обретет завершение Великой Печати. Но если Сачен станет обучать, то у него будет неограниченное количество учеников, в том числе трое, которые достигнут высшего завершения Великой печати, семеро, которые достигнут «настойчивости» бодхисатвы на мирском пути, и восемьдесят, которые достигнут осознания. Следуя совету своего учителя, Сачен принял обет полностью повторять «Коренной текст *маргапхалы» по шесть или семь раз каждый день.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Как и у его отца Кхона Кончока Гьелпо, у Сачена было две жены, однако, мы не знаем, когда он женился первый раз. Вероятно, это произошло достаточно поздно, после того как он закончил обучение у Мел-лоцавы, т.е. когда ему было примерно сорок лет или около того (ок. 1130–1135). Источники приводят на этот счет довольно скудные сведения и лишь упоминают, что он женился на двух сестрах из знатного дома (rje btsad) клана Цамо-ронг46. Первую жену Сачена звали Джохам Пурмо. Она была младшей из двух сестер и родила ему первого из четырех сыновей, которым предстояло продолжить в Сакье линию Кхона. Старший мальчик, носивший имя Кунга-бар, со временем сумел добраться до Индии, где достиг успехов в учебе, став ученым «пяти областей знания»47. Но когда он уже собирался вернуться в Тибет, то подхватил какую-то лихорадку и умер в Магадхе в возрасте двадцати одного года.
К сожалению, в источниках ничего не говорится о побудительных мотивах Кунга-бара, решившего отправиться на обучение в Индию. Однако, мы можем сделать кое-какие умозрительные предположения, исходя из образа жизни его и его младших братьев. Их молодость прошла в особой религиозной среде, сформировавшейся в результате деятельности их отца, полностью погруженного в эзотерическую парадигму. Несмотря на фундаментальность своего образования, Сачен всегда оставался специалистом по ваджраяне, и мы не располагаем ни одним текстом за его авторством, относящимся к тематике философской программы обучения монахов, которая, судя по всему, влекла его сына Кунга-бара. Т.е. мы можем предположить, что целью посещения Кунга-баром Индии было изучение материалов, не входивших в программу обучение сакьяпы. В пользу такого предположения свидетельствует и тот факт, что сразу после смерти Сачена его второй сын Сонам Цемо занялся повышением своего уровня знаний в области философии и религиозной эстетики, являвшихся популярными темами в программах обучения великих индийских монастырей.
Сонам Цемо был старшим сыном второй жены Сачена Мачик Одрон, которая, очевидно, была старшей из двух сестер. Она родила Сачену трех сыновей, которые сыграли ключевую роль в формировании линии Кхон, поскольку помимо Сонама Цемо и Дракпы Гьелцена был еще и самый младший сын Пелчен Опо, ставший отцом великого ученого монаха Сакья Пандиты. Сонам Цемо родился в 1142 г. в Сакье, когда Сачену было пятьдесят лет, и его появление на свет сопровождалось рядом особо благоприятных знамений 48. Очень скоро для всех стали очевидны выдающиеся умственные способности мальчика, и именно это стало причиной того, что со временем он был признан инкарнацией личности, вобравшей в себя качества одиннадцати индийских пандитов, список которых венчал великий экзегет «Хеваджры» Дурджаячандра49. Источники ничего не сообщают об отношениях Сонама Цемо и его старшего брата Кунга-бара. Но если у Сачена первый сын родился, когда ему было от сорока до сорока пяти лет (т.е. приблизительно с 1132 по 1137 годы), а второй – в 1142 году, то эти два мальчика должны были знать друг друга. Также вполне возможно, что Кунга-бар, которому тогда было чуть за двадцать, готовился вернуться из Индии в Сакью по той причине, что узнал о болезни или смерти своего отца. В агиографии Дракпы Гьелцена упоминается, что посмертный ритуал по Кунга-бару выполнялся вслед за аналогичным обрядом, посвященным Сачену, что позволяет предположить, что старший сын умер вскоре после смерти своего отца50. Если все это выглядело таким образом, то решение Кунга-бара отправиться на обучение в Индию и посвятить свою жизнь карьере ученого, вполне вероятно, как-то повлияло и на Сонама Цемо. Однако, какими бы ни были их отношения, все же основное влияние на раннюю жизнь Сонама Цемо оказал его отец, поскольку в юном возрасте Сонам Цемо уже декламировал наизусть некоторые эзотерические писания, в том числе тантры «Хеваджра» и «Самвара». Согласно источникам, к шестнадцати годам он уже знал наизусть четырнадцать таких священных текстов и поэтому некоторые называли его (вероятно, отчасти в шутку) «знатоком эзотерической системы вплоть до самой реки Ганг».
Однако, после смерти Сачена жизнь Сонама Цемо повернула в совершенно новое русло, поскольку сразу же вслед этим он решил пройти обучение у великого знатока эпистемологии и мадхьямаки Чапы Чокьи Сенге51. Как уже говорилось в предыдущей главе, Чапа был великим ученым, а его резиденция находилась в кадампинском философском монастыре Сангпу Нейток, расположенном в У к югу от Лхасы. К сожалению, мы мало что знаем о Чапе и его группе 1160-х годов, т.е. о тех временах, когда Сонам Цемо, вероятно, проводил значительную часть своего времени в Сангпу Нейтоке. Вполне очевидно, что данное учреждение со всей серьезностью относилось к монашескому режиму и считало изучение доктрины махаяны ключевым элементом буддийского пути. Обстановка в этом монастыре, должно быть, отличалась особым благонравием, и он обладал большим влиянием в ученом мире. Вероятно, в том числе и поэтому Сонам Цемо продолжал периодически обучаться у Чапы в течение целых одиннадцати лет (с 1158 по 1169 г.), достигнув несомненных успехов в изучении таких махаянских работ, как «Праманавинисчая» и «Бодхичарьяватара», и превзойдя в этом своего отца.
Опыт и знания, приобретенные Сонамом Цемо в Сангпу, стали ключевым звеном его интеллектуального развития. А хвалебный гимн, написанный им в память о Чапе в Сакье в 1173 году, свидетельствует как о наличии у него чувства долга, так и о преданности своему великому учителю52. Очевидно, что практика «вызова и защиты» (thal-‘gyur; прасангика – прим. shus), постигнутая им благодаря Чапе, стала одним из важных аспектов формирования литературного образа Сонама Цемо. При этом сам Сачен, судя по некоторым утверждениям, в процессе преподавания любил время от времени прибегать к методу вопросов и ответов53. Тем не менее, именно в трудах Сонама Цемо впервые в полной мере представлены формальные методы защиты доктрин ваджраяны. Вполне возможно, что он начал разрабатывать эту тему еще находясь в Сангпу, хотя тамошние философы-монахи, должно быть, порицали этого молодого эзотерика-мирянина за его привязанность к некоторым представлениям и идеям, проповедуемым в тантрах. Ведь Сангпу того времени был одним из тех мест Центрального Тибета, где наиболее ярко проявлялся реформаторский пыл кадампы, в конечном счете выразившийся в открытом осуждении этой школой тантрических заблуждений, приписываемых ею многим индийцам и тибетцам. Этот фоновый дискурс особенно заметен в различных местах ряда произведений Сонама Цемо, когда он встает на защиту своей традиции от неназванных «людей, практикующих совершенства» (кем бы они ни были). Также не вызывает сомнений, что чрезмерное внимание к герменевтике эзотеризма (bshad thabs), присутствующее во всех эзотерических трудах Сонама Цемо, а в особенности в одной из глав его «Основных принципов тантрического канона», посвященной данной теме, отчасти было обусловлено его потребностью разъяснить сущность эзотеризма монахам, являвшимся приверженцами буддийской философской экзегезы и проявлявшим негативное отношение к тантрической лексике.
В деятельности Сонама Цемо прослеживается его постоянная забота о наследии своего отца, что особенно заметно в двух обнаруженных мной документах из его переписки. Первый является короткой запиской, приложенной к мнемоническому конспекту посвящения Найратмьи, написанному Нецо Белтоном незадолго до 1165 года, причем, возможно, еще до смерти Сачена в 1158 году54. В ней Сонам Цемо увещевает Нецо Белтона, указывая ему, что праведные личности подобные ему, как раз лучше всего подходят для проведения такого рода посвящений и приносят пользу учению ваджраяны, которое лучше, чем учение системы шраваков, поскольку ваджраяна не является простым отражением истинной Дхарма в том смысле, как это понимается малой колесницей, а представляет собой саму истинную Дхарму. Хотя из этого раннего письма не ясно, был ли Сачен жив в момент его написания, его кончина окружена особым вниманием во многих других документах, принадлежащих перу Сонама Цемо. В них он указывает на особое значение ритуала завершения устремлений Сачена (dgongs rdzogs), выполняемого каждый год в Сакье во время великих периодов поминовения (dus dran). Кульминацией данных периодов, судя по всему, являлась годовщина смерти Сачена: четырнадцатое число девятого месяца лунного календаря. Данный обряд, по-видимому, был самым выдающимся событием каждого года, и даже если геше Ньен Пул-джунгва и другие ученики Сачена были главными устроителями этого ежегодного празднования, то, вполне очевидно, что центральной фигурой самой ритуальной церемонии всегда являлся сам Сонам Цемо. К примеру, в конце панегирика учителям своей линии он отмечает, что в год обезьяны (несомненно, в 1164) Сонам Цемо во время этого ритуала сделал подношения девятистам монахам55.
В более пространном письме Гьягому Цултрим-драку, отправленном в следующем (1165) году, Сонам Цемо пытается сбалансировано выразить свою преданность отцу, благодарность своим учителям и покровителям (поскольку Гьягом Цултрим-драк, похоже, был и тем, и другим), а также свой интерес к собственному обучению56. При этом ритуал ежегодного празднования нирваны Сачена был для него настолько значим, что в этом письме Сонам Цемо упоминает о нем дважды. Во втором из упоминаний раскрывается вся глубина его чувств, связанных с этим празднеством, которое продолжает устраиваться в монастырях сакьяпы и по сей день. Он пишет, что порожденные этим событием блаженство и вера были настолько сильны, что не оставили ему времени на внесение правок ни в одну из двух работ, которые он ранее посылал Гьягому Цултрим-драку. Его почтенный корреспондент ранее прислал ему несколько подарков, в частности ткань для одежды, а в ответ Сонам Цемо послал ему ряд особо значимых для них обоих предметов. Вместе с письмом он отправил кожаную коробку с поясом, который носил Сачен, несколько пилюль из красного порошка, которые, как считается, принадлежали Наропе, а также краткий конспект посвящения Найратмьи (bDag med ma i dbang gi tho yig) и недавно сочиненную им поэму, восхваляющую его отца (rJe sa chen la bstod pa). Кроме того, в письме Сонам Цемо горячо извиняется за отдельные недочеты своей поэмы, а также за отсутствие в ней утонченности. В этих сожалениях о недостатках своего творчества мы видим проявление его внимания к нормам создания поэтических образов и принципам стихосложения, которые тибетцы заимствовали у Индии. Поскольку в хвалебном гимне Чапе, написанном Сонамом Цемо, особое внимание уделяется поэтической сообразности, можно предположить, что поэтическая критика входила в учебную программу Сангпу и, возможно, даже изучалась довольно подробно57. Хотя современные ученые всячески подчеркивают роль Сакья Пандиты во внедрении поэтических стандартов, изложенных в работе индийского критика Дандина, вполне очевидно, что примерно за шестнадцать лет до рождения Сакья Пандиты Сонам Цемо уже активно интересовался принципами поэтической композиции58.
Из этого письма со всей очевидностью следует, что Сонам Цемо поддерживал постоянные взаимоотношения со старшими учениками Сачена, а они всячески способствовали намерениям братьев следовать по стопам своего отца. В нем Сонам Цемо подтверждает, что предыдущим летом и геше Ньяк, и геше Ньен Пул-джунгва выступили в роли его советников, помогая ему в сочинении поэмы, восхваляющей его отца. Гьягом Цултрим-драк также приложил к этому руку, поскольку он, похоже, был не только его учителем тантры, но и выступал в роли редактора поэтических произведений молодого человека. Помимо этого, Сонам Цемо упоминает, что намеревается вернуться в У в начале следующего (1166) года, вероятно, чтобы продолжить учебу в Сангпу у Чапы. Также он пишет, что если бы по пути он встретился с Гьягомом, и его учитель (к которому он обращался с почтительной ласковостью, называя его «старый отец» (a-po)) помог бы ему устранить некоторое недопонимание, касающееся наставлений по медитации и тантрам, то он бы испытал чувство глубокого удовлетворения.
Хотя мы и не располагаем другими столь же всесторонними источниками, касающимися Сонама Цемо, в целом данное письмо достаточно информативно, чтобы нарисовать портрет ученика, осознающего свои недостатки и ищущего помощи у доверенных учителей и старейшин общины. Он явно набожен и продолжает обучение не просто из чувства долга, а по причине глубоко укоренившейся в нем приверженности традициям. При этом Сонам Цемо буквально разрывается на части между своими обязанностями в Сакье и учебой в У. Однако, тяга к карьере ученого все же заставила его находиться вне Сакьи на протяжении большей части его взрослой жизни (похоже, что он возглавлял свою общину всего лишь три года). Как нам сообщает ученый Аме-шеп, живший в более поздние времена, его стремление к знаниям было столь велико, что к двадцати шести годам он уже заслужил прозвище «Великое древо жизни учения в этой системе миров»59. Некоторые источники пишут о том, что в один из периодов своего пребывания в Сакье (в 1169 году) он обучал ламдре в Старой резиденции (gZims-khang rnying-ma), и это практически все, что мы знаем о его преподавательской деятельности. В связи с этим мы можем задаться вопросом: а уделял ли он вообще серьезное внимание обучению личных учеников, ведь это было заботой его младшего брата60. К сожалению, лишь в немногих работах Сонам Цемо указана дата их написания (см. Таблицу 8).
Таблица 8. Датированные работы Сонама Цемо
|
Текст
|
Дата завершения
|
|
rJe sa chen la bstod pa
|
1164
|
|
rGya sgom tshul khrims grags fa spring pa
|
1165
|
|
Chos la ‘jug pa’i sgo
|
1167/8
|
|
Yig ge’i bkfag thabs byis pa bde bfag tu ‘jug pa
|
1167 (or 1179)
|
|
sLob dpon Phya pa fa bstod pa
|
1173
|
|
dPal kye rdo rje”i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer
|
1174
|
|
Sam pu ta’i ti ka gnad kyi gsal byed
|
1175
|
Следует признать, что мы не в состоянии проследить в деталях интеллектуальную эволюцию Сонама Цемо. Однако, вполне очевидно, что опыт, приобретенный им в процессе работы с Чапой, сыграл очень важную роль в написании им ряда педагогических наставлений, в том числе комментария к «Бодхичарьяватаре» и «Руководства для начинающих по ритуальной практике и продвижению на пути», которые, по всей видимости, были созданы в 1160-х или начале 1170-х годов. Также вполне вероятно, что незаконченные «Основные принципы тантрического канона» были задуманы и частично написаны им в конце 1160-х или в самом начале 1170-х годов, поскольку в комментарии 1175 года к «Сампуте» указывается, что темы герменевтики и практики уже рассматривались в другом месте, что, несомненно, является отсылкой к изложению этих тем в третьей и четвертой главах его «Основных принципов»61. В целом, немногочисленные намеки, присутствующие в отдельных сочинениях Сонама Цемо, указывают на его все возрастающую вовлеченность в изучение эзотерического корпуса, с выявлением его центральных тем, обозначением пределов его применения соответствующими ритуальными заявлениями, отсутствовавшими в творчестве его отца, и постепенным внедрением его в основное направление монашеской практики сакьяпы.
В этом вопросе на Сонама Цемо, вероятно, оказали влияние его взаимоотношения с новоявленным бродячим пандитом ачарьей Шри Анандагарбхой, который был то ли индийцем, то ли непальцем. Не вызывает сомнений, что устные разъяснения Анандагарбхи практики Хеваджры, приписываемой Сарорухаваджре, использовались Сонамом Цемо в качестве источника при написании собственного комментария к данной садхане. Однако, эти двое ученых, по всей видимости, столкнулись с некоторыми языковыми трудностями, поскольку Сонам Цемо признавал, что в его трактовках может присутствовать ряд неясных моментов62. Если он действительно какое-то время работал с индийцем или непальцем, то этим можно объяснить, почему он в одном случае подписывал санскритский перевод своим обычным именем Пуньягра, а в другом использовал полученное им при посвящении санскритское имя Двешаваджра (Dvesavajra: Zhe-sdang rdo-rje). Но Сонам Цемо, безусловно, и ранее интересовался санскритом, поскольку он включил раздел, посвященный произношению мантр, в свое «Простое руководство по произношению букв» 1167 года63.
Смерть Сонама Цемо в возрасте сорока лет в 1182 году, должно быть, стала шоком для общины сакья, хотя мы даже не можем точно сказать, где он умер. В одной из своих работ Аме-шеп приводит агиографическую историю, посвященную этому события, источником которой считаются некие примечания к панегирику Дракпа Гьелцена своему брату. В ней сообщается, что Дракпа Гьелцен однажды пришел домой и обнаружил груду пустой одежды, что явственно указывало на то, что его брат вознесся в небесные миры, не покидая своего тела. В дополнение к этому, иногда пишут, что одежда гудела, издавая необычный шум64. В отдельных источниках утверждается, что «старой женщине из Сакьи» было видение, что Сонам Цемо взлетел в воздух верхом на суке над скалой в западной части Чумика Дзинхи. При этом и святой, и его собака оставили отпечатки своих рук (и лап) на этой скале. Некоторые из них сообщают, что Сонам Цемо действительно умер в Чумике Дзинкхе, в то время как другие утверждают, что он скончался в старой библиотеке Горума, первом здании, построенном его дедом в Сакье, где хранились рукописи на санскрите. Таким образом, подобно пустым одеждам из приведенной выше истории или полым отпечаткам лап на скале Чумика, финальное повествование о Сонаме Цемо оставляет после себя ощущение полного исчезновения своего главного героя. Мне думается, что это было связано с тем, что первоначально он не был включен в списки учеников своего отца, и поэтому никто даже не подумал записать точное место его кончины. Поэтому, несмотря на его талант и преданность традиции, потребовались усилия гораздо более поздних наставников сакьяпы, восстановивших его наследие и выведших Сонама Цемо на свет из тени, отбрасываемой его отцом и младшим братом.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В этой книге основное внимание уделяется лакуне в описаниях исторических фактов, сущностных характеристик и деятельности представителей буддизма в ранний период тибетского возрождения, когда самая последняя и наиболее сложная из всех индийских буддийских религиозных систем самым драматичным образом была перенесена в другую культуру. Благодаря ее принятию Тибетом, «крыша мира» стала восприниматься как островок истинной религии, источник мистической духовности. В результате этого, к концу двенадцатого столетия Центральный Тибет занял положение великого преемника индийского эзотерического буддизма и утвердился в качестве центра учености для тангутов, китайцев, непальцев и даже самих индийцев. Однако, такое бурное развитие было нелегким и происходило не без серьезной внутренней борьбы.
К сожалению, описание большей части истории этой борьбы пока еще только ждет своего часа. При этом отсутствие комплексного исторического нарратива позволило тибетским летописцам и их современным последователям изображать Тибет так, как если бы он представлял собой подмножество индийской системы, с тибетскими центрами в виде бесцветных реплик крупных индийских монастырей. Ошибочность этого представления становится очевидной при изучении сохранившихся документов, которые описывают различные тибетские группы как в процессе конфликтов, так и во времена сотрудничества. В любом случае подавляющее большинство их решений было основано на тибетских, а не на индийских отношениях и идеалах. Основываясь на своем прочтении этих документов, я смог отследить довольно большое количество слабо связанных между собой действующих лиц, которые можно сгруппировать следующим образом:
Во-первых, это была аристократия ньингмы, такие как Нубчен и его сыновья, а также Зурчен и Зурчунг, которые передавал по линии преемственности эзотерические и сопутствующие им сочинения времен старой имперской династии. Их перу также принадлежат новые работы, которые имели в большей степени философскую направленность и основные идеи которых вошли в тибетские методики определения религиозной авторитетности. Первый Старый тантрический канон, вероятнее всего, был составлен членами клана Зур. Кроме того, нам известны аналогичные личности в других ньингмапинских линиях передачи «священного слова» (bka ‘ma)25.
Во-вторых, бенде (bende) и ассоциированные с ними квазимонахи, которые были похожи на современных тибетских буддистов-мирян (chos pa) (отчасти духовенство, отчасти миряне) и временами соблюдали некоторые монашеские правила. Они, как и прочие подобные им (такие как «архаты с пучками волос»), создали для себя особые атрибуты одежды и причесок, возможно, подобные тому, что используют монахи-воины (dab dob) больших монастырей современного Центрального Тибета. Бенде были тесно связаны с храмами старой имперской династии, которые все еще функционировали, сохраняя традиции династического периода.
В-третьих, популярные проповедники (как называл их Мартин (Martin)), такие как пять сыновей бога Пехара, а также Звездный правитель (Lu Kargyel) и ассоциированные с ним персоны, которых некоторые из последних членов имперского дома считали еретиками. Они, а также религиозная группа, называющая себя «поглощенными праведным поведением» (‘ban ‘dzi ba), фигурировали в воззваниях и агиографиях западно-тибетских правителей Гуге Пуранга.
В-четвертых, «безумные йогины» (smyong ba), следовавшие примеру Миларепы и других странствующих тантриков и создавшие тибетскую версию образа жизни индийских сиддхов. Некоторые из них порой не уступали в своей известности знаменитым проповедникам, а их песни пользовались широкой популярностью. Другие имели тесную связь с индийскими или непальскими сиддхами, странствовавшими по Тибету и за его пределами, к ним относятся, например, Падампа Сангье или Гаядхара.
В-пятых, монахи Восточной винаи – группа, которой при рассмотрении периода с десятого по двенадцатое столетия уделяется наименьшее внимания, хотя они имели несколько сот обителей в пределах «четырех рогов» Тибета (т.е. в центральных провинциях У и Цанг). Монахи Восточной винаи изначально специализировались на старинных системах Винаи, Сутры и Абхидхармы, унаследованных от имперской династии, хотя уже в третьей четверти одиннадцатого столетия они начали приспосабливаться к образовательной программе кадампы. В те времена самые близкие отношения монахи Восточной винаи поддерживали с монашеством кадампы, а также с некоторыми последователями бенде, хотя по большей части они с ними периодически конфликтовали. Начиная со второй половины одиннадцатого столетия монахи Восточной винаи также боролись друг с другом за обладание храмами и землями. На самом деле, периодические раздоры между различными группами монахов Восточной винаи в течение двенадцатого столетия имели катастрофические последствия для основных доктринальных систем Центрального Тибета.
В-шестых, монахи кадампы, которых поначалу было довольно немного, причем на первых порах они обладали на удивление незначительным влиянием. Это было связано с тем, что они так и не смогли учредить собственную систему Винаи, и большинство монахов кадампы ординировалось под эгидой Восточной винаи. Тем не менее, они все-таки смогли посеять семена монашеской программы обучения, используемой в великих буддистских монастырях Северной Индии. Эта программа приобрела особое влияние в двенадцатом столетии, через несколько десятилетий после смерти Атишы, а ее тексты и учебные планы стали важной вехой в интеллектуальном развитии тибетцев. Монахи кадампы также разработали популярные методы проповедования, используя при этом новые подходы к наставлению неискушенных в священной Дхарме.
В-седьмых, открыватели «текстов-сокровищ» одиннадцатого и двенадцатого столетий, такие как Ньянгрел, Чегом Накпо и аналогичные им персоны. Многие из них состояли при древних храмах или же были как-либо связаны с ними и, таким образом, представляли собой некоторые виды бенде, «старейшин» (gnas brtan) и других квазимонахов. Другие «открыватели сокровищ» были аристократами, имевшими собственные независимые владения. Нередко «открыватели сокровищ» были вдохновлены, одержимы или считались воплощением какой-либо из имперских династических персон, но в первую очередь здесь фигурировали Трисонг Децен, Вималамитра, Байротсана и (все чаще в течение двенадцатого столетия) Падмасамбхава.
В-восьмых, несколько не принадлежащих к кадампе монахов Западной винаи, последователей Ринчена Зангпо, хотя мало кто из них проявлял активность в Центральном Тибете. Западная виная была принесена в Тибет индийским миссионером Данашилой во времена Еше-О (Yeshe-O), но присутствовала только в княжестве Гуге Пуранг, и большинство повествований об этой Винае указывают на то, что она не имела большого влияния за его пределами. Тем не менее, послания тибетских монахов Западной винаи иногда оказывали заметное влияние, как в случае с «Провозглашением» монаха монарших кровей Шивы-О (Shiwa-O) от 1092 г.
В-девятых, переводчики новых текстов, действовавшие в Центральном Тибете начиная со времен Цаланы Еше Гьелцена и Дрокми-лоцавы. Чаще всего их специализацией была тантра, и это был великий период тантрических переводов, так же как времена имперской династии были великим периодом основных переводов махаянской трипитаки. Этим переводчикам посвящены две главы данной книги. В них Дрокми выступает в качестве их лидера и образца для подражания, а иногда и соперника.
В-десятых, странствующие индийские, непальские, кашмирские, отдельные сингальские, хотанские и тангутские монахи и йогины. Некоторые из них были тантриками разного рода, в то время как другие – ординированным духовенством. Было бы ошибкой предполагать, что в те времена какая-либо иностранная группа находилась в полном согласии с другой подобной группой, и иногда отмечалось, что они вступают в конфликты, и что у них имеются разногласиях по поводу буддийских целей и задач. В любом случае они представляли собой мобильный, постоянно меняющийся источник иной аутентичности, с которым тибетцы постоянно боролись. С течением времени эта пестрая группа стала более заметной, в основном из-за роста интереса тангутов к Центральному Тибету в двенадцатом столетии и ухудшающегося положения буддистов в Индии.
В-одиннадцатых, практически незаметные жрецы бонпо (gshen), которые проявляли себя неотчетливо и эпизодически. Поддерживая миф о своем происхождении из легендарной страны Тазик, священники бонпо проводили ритуалы предков для старой династии, но в восьмом столетии на волне популярности буддизма как минимум один раз подвергались преследованиям со стороны буддистского императора Трисонга Децена. Бонпо несомненно сыграли определенную роль в движении «текстов-сокровищ» (terma), описанном в Главе 6, но в литературе бона поразительно мало исторических сведений, посвященных периоду тибетского возрождения26. Большинство из тех, что доступны, настолько мифологичны, что их полезность ничтожна. В буддийских агиографических трудах иногда упоминаются представители бонпо, но эти описания очень поверхностны, поэтому не имеют практической пользы.
При более точной постановке задачи, любая оценка должна принимать во внимание, учитывая при этом местные условия, возможное членство одного индивидуума в нескольких из вышеупомянутых групп. Таким образом, человек мог быть монахом Восточной винаи и в то же время изучать системы кадампы и ньингмы. Кроме того, степень вовлеченности в ту или иную группу могла меняться от места к месту, так что организация и деятельность монахов Восточной винаи (возможно, самой крупной отдельной группы) в долине Ньянг в Цанге явно отличались от того, что было в долине Ярлунг, или в Дрананге, или в Лхасе, или в Йерпе или где-либо еще. Кроме того, мы можем видеть, что основанный в Ярлунге в 1017 году монастырь Солнак Тангпоче был ранним центром обучения винае, махаянским сутрам и йогачаре, в то время как Дрананг при Драпе Нгонше стал монастырем, связанным по большей части с древней системой тантрической практики.
Однако, повествуя об этих группах и отдельных личностях, мы должны с особым вниманием относиться к их клановой принадлежности. Великие кланы Центрального Тибета, большинство из которых сохранилось с имперских времен (хотя некоторые из них возникли уже в период распада централизованного государства), сформировали мощные центры притяжения, воздействия которых никто не смог избежать в полной мере. Но сами кланы не являли собой некую групповую движущую силу, поскольку некоторые члены кланов (таких, как, например, Че или Нгок) были активно вовлечены в новое движение «сокровищ-учений», в то время как другие основывали храмы Восточной винаи или переводили новые доктринальные тексты. Польза от клана была в том, что принадлежность к нему обеспечивала некоторым из этих групп власть, структурную устойчивость и ресурсы. Кроме того, это также поддерживало механизм наследования и легитимности, что придавало стабильность развитию буддистских религиозных школ Центрального Тибета.
Наконец, на протяжении этого периода, особенно ближе к его концу, все заметней становились неоконсерваторы, т.е. те, кто формализовывал и проповедовал новую буддийскую ортодоксию. В отличие от политических планов коренных тибетских консерваторов, которые поддерживали главенство старых аристократических кланов и авторитет местных богов, а также стремились к восстановлению монархии и возрождению империи, неоконсерваторы приняли за эталон аутентичности феодальные буддистские монастыри Индии. Для этих людей великие буддистские монастыри и их высокообразованные наставники являлись образцом для подражания при реализации ортодоксальных программ обучения и создании просвещенной монашеской и гражданской администрации. Для них все неиндийское было по определению небуддистским, так что все нововведения в доктринах, ритуалах, поведении или наставлениях по медитации были, prima facie, нелегитимными просто потому, что их нельзя было связать с индийскими текстами или индийской традицией. Однако, в отдельных случаях даже этого было недостаточно, поскольку некоторые из неоконсерваторов подвергали критике даже те практики или идеи, которые по общему мнению были индийскими, но не входили в программы обучения избранных великих монастырей. Тибетцы в свою очередь резко критиковали за ошибки индийских учителей, таких как пресловутый Красный Ачарья (Red Ācārya) или Падампа Сангье. Однако, в отличие от вышеупомянутых групп, неоконсерваторы были не некой социальной формацией, а скорее идеологическим голосом, право на который имели избранные люди, причем вполне очевидно, что сильнее всего этот голос звучал в Западном Тибете и в провинции Цанг.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Лучшая отправная точка для обсуждения последующего периода раздробленности – это попытка понять, чем было то, что мы называем «Тибетом», в девятом и десятом столетиях. Наши источники – а в основном это более поздняя и неполная смесь дворцовых текстов, историй распространения Дхармы и агиографий – демонстрируют ту же неуверенность в отношении периода с середины девятого по конец десятого веков, что и авторы флорентийского Возрождения в отношении эпохи, предшествовавшей их собственной. В обоих случаях этот исторический период видится мрачным и разобщенным, с довольно скудными свидетельствами положительной активности. Хотя у нас есть несколько перечней имен имперских наследников, мы мало что знаем об их деятельности или интересах на протяжении нескольких десятилетий, помимо предполагаемых действий по поддержанию ими наследственной линии и самосохранению. Более поздняя литература упоминает о существовании храмов имперского династического периода, сохранившихся в разной степени ветхости, но положение тибетского народа в целом так и остается неясным. Списки линий передачи традиций сакьяпа и ньингма отслеживают имена конкретных людей, в том числе и живших в этот период, но за некоторыми заметными исключениями они так и остаются всего лишь именами без каких-либо подтверждений их деятельности или даже без агиографических повествований. Почти полное отсутствие постдинастических царских эпиграфических надписей, хронологически достоверных текстовых материалов и каких-либо конкретных упоминаний Центрального Тибета в китайских летописях этого периода не позволяет понять действительное положение дел в У-Цанге тех времен.
Одна из основных максим исторической науки гласит, что отсутствие надежных свидетельств порой приводит к неверным выводам, и наглядным тому примером является общепринятый подход к временам раздробленности Тибета. Из-за скудости информации нас несколько шокирует тот факт, что мы должны воспринимать Центральный Тибет конца девятого и большей части десятого столетий как место, где могли происходить важные исторические события. Сонгцен Гампо и его клан вписали Тибет в историю Азии, добившись высокой степени единства столь многочисленного и столь динамичного населения, что оно смогло устрашать и сдерживать даже великую китайскую династию Тан. Более того, на протяжении всей имперской династии выдающиеся деяния Сонгцена Гампо периодически повторялись его преемниками. Беквит (Beckwith) установил, что между 618 и 842 годами Тибет был одним из самых грозных вооруженных азиатских государств Азии, а его армия по своей силе была вполне сопоставима с более поздними тангутскими, киданьскими, уйгурскими и монгольскими войсками, господствовавшими в Азии с двенадцатого по пятнадцатый века2. Когда имперская династия рухнула, вполне очевидно, что с населением Тибета не произошло какой-либо мальтузианской катастрофы (иначе нам бы пришлось считать, что оно полностью возродилось спустя всего столетие). Конечно, демографическая база могла иметь чистую потерю населения в течение некоторой части этого периода. Однако, учитывая разбросанность расселения на обширных географических территориях, весьма сомнительно, что это было более нескольких процентов, и поэтому не должно было в целом повлиять на общую численность населения.
Мало что известно о том, в каком виде пребывал тибетский буддизма со второй половины девятого и до конца десятого столетий, а также какие формы имели религиозные обычаи в целом. Большая часть информации об имперской династии указывает нам на то, что буддизм был религиозным учением имперского двора и аристократии определенных кланов, поэтому теперь он перешел во фрагментарную форму и сохранялся только при дворах некоторых правителей, претендующих на монархическое происхождение3. Похоже, что в целом народ был осведомлен о сущности буддийских принципов, и это оказывало определенное воздействие на деревенскую и кочевую жизнь, но большинство тибетцев, похоже, продолжало придерживаться тех форм религии и культуры, которым они следовали до внедрения монаршим двором буддийского учения. Не вызывает сомнений тот факт, что даже довольно скудные сведения из темных времен и последовавших за ними годов указывают нам на успехи, достигнутые буддистским литературным языком, поскольку во владениях феодальных князей он стал общепризнанной манерой речи при изложении мифов о кланах и их наследственных линиях4. Фактически, именно в этих раздробленных княжествах аристократия поддерживала пламя дхармы и распространяла мирские практики среди населения. По-видимому, ограниченные своими владениями кланы как раз и были той самой необходимой для буддизма почвой, благодаря которой он смог снова вернуться к жизни, как огонь из, казалось бы, погасших углей.
Неоценимой помощью для наших исследований падения династии в 842 г. н.э. (и периода раздробленности в целом) стала публикация в течение последних трех десятилетий в Тибете и на Западе огромного количества тематических документов. Что характерно, эти материалы демонстрируют необычайно широкий диапазон в вариациях дат и действий, приписываемых главным действующим лицам. Но, как заметил Туччи (Tucci), поскольку история Тибета является лишь подкатегорией в истории тибетского буддизма, даже эти новые материалы мало что сообщают о событиях, последовавших за падением имперской династии5. На самом деле, ранние тибетские исторические источники порой являются не более чем перечнями персон наследственных монархических линий, такими как, например, опубликованный в Дуньхуане Хакином (Hackin), и даже на политической арене большей части двенадцатого столетия основным историческим жанром по-прежнему были простые списки монархической генеалогии6.
Возможно, что одной из причин столь ограниченного внимания к данной теме является чувство неловкости части религиозно ориентированных писателей, которым было ясно, что именно буддистская деятельность способствовала полному упадку династии. Слишком активная пробуддистская позиция Релпачена стала одной из основных причин вероломного убийства тибетского императора, произошедшего где-то в 840/417 гг. Согласно источникам Релпачен заявлял, что его предшественники следовали трем обязанностям императора: строительству и содержанию храмов на средства империи, обеспечению счастливой жизни тибетского народа и ведению войн с врагами имперского Тибета. В то время как предыдущие императоры обычно выполняли только одну из этих обязанностей, а может быть даже две или все три, но поочередно, Релпачен собрался реализовывать все три одновременно – надежный способ добиться бюджетного дефицита и вызвать чувство ревности у бюрократов8. Релпачен нанял целое бюро ученых для внесения орфографических изменения в грамматику тибетского языка, которые были инициированы в 812 году его предшественником Сеналеком (Sénalek, он же Tridé Songtsen – прим. shus), но приостановлены, поскольку это потребовало бы переписывания огромного количества рукописей. Данное мероприятие было очень затратным и в дальнейшем повлекло за собой расходы не только на бумагу и чернила, но и на золото и серебро для шрифтов особо ценных собраний9. Помимо этого Релпачен заказал завершение каталогов для трех имперских собраний во дворцах Денкар, Чимпу и Пангтанг, а также переводы новых материалов под эгидой индийских наставников10.
С этой же целью он начал строительство или реконструкцию тридцати имперских храмов, расположенных по всей территории государства. Некоторые из них и до этого финансировались имперской властью, но теперь были включены Релпаченом в его новую программу11. Десять из них находились в Центральном Тибете, где его предшественники уже построили первый великий монастырь Самье (ок. 780 г.), а также несколько десятков других храмов. Однако двадцать храмов были заложены Релпаченом в восточном или северо-восточном Тибете, и они стали ключевыми местами для будущего возрождения буддизма в следующем столетии. Первым следствием такого расширения области деятельности буддистского духовенства стал набор большого количества монахов, сопровождавшийся особыми требованиями по обеспечению их жизнедеятельности. К примеру, содержание одного монаха возлагалось на семь семей.
Релпачен также отметился тремя великими декларациями12. Согласно им, во-первых, не должны переводиться тексты никаких других Винай кроме муласарвастивадинской и следует завершить перевод всех частей именно этой Винаи. Во-вторых, не должны переводиться вообще никакие тантры13. Наконец, все меры и веса империи должны были быть заменены на те, что использовались в Центральной Индии, таким образом весь товарооборот, от зерна до золота, переводился на новый индийский стандарт. Все эти три меры были направлены на усиление прежней имперской политики, поскольку тибетские императоры усердно стремились сохранять единообразие буддистской практики, основанной на декламации сутр махаяны и посвященной поддержке безбрачного духовенства (последнее, возможно, для того, чтобы избежать появления харизматичных аристократических конкурентов). Тантрическая литература, особенно не в меру антиномианистские махайога-тантры, считалась дестабилизирующей, при этом самый ранний из сохранившихся «Заветов клана Ба/Ва» (dBa’ bzhed) сообщает, что дед Релпачена Трисонг Децен также полностью запрещал переводы тантр14.
Отображаемые тантрическими мандалами социально-политические формы могут показаться вполне адаптируемыми для их использования единовластными монархами. Однако, на самом деле поддерживаемое ими распределение власти посредством сложной феодальной системы квазинезависимых вассалов с имперской точки зрения выглядело довольно сомнительным. Кстати, последующая тантрическая ритуализация Тибета в эпоху возрождения на деле подтвердила обоснованность опасений монархов по поводу возникновения сепаратистских устремлений. Со своей стороны, тибетские императоры были склонны ограничивать эзотерические проявления культом Вайрочаны, в котором в одинаковой мере присутствовали компоненты и сутры, и тантры15. Тантрическая литература, которую они действительно поддерживали, была строго институциональной по своему замыслу и, вне всякого сомнения, использовалась в имперских целях16. Следствием таких ограничений на перевод тантрической литературы (хотя они никогда полностью не соблюдались) стало то, что период правления династии был временами переводов великих сутр с китайского и санскрита. Не менее важным было использование индийских мер и весов, поскольку Релпачен подсчитал, что экономическое процветание Центрального Тибета тесно связано с трансгималайской торговлей. К сожалению, Релпачен слишком поздно обнаружил, что тибетский император все-таки не так могущественен, как Будда Вайрочана, и пал от ножа убийцы примерно в 840/41 году.
Подпитываемый народным негодованием по поводу таких умопомрачительных расходов, а также стремительных перемен в традиционной культуре, последний из настоящих императоров Дарма Три Удум-цен (т.е. Ланг Дарма, ок. 803–842 гг.), начал кампанию против укоренившейся власти буддистского духовенства, при этом общепризнанные исторические записи изображают подавление им буддизма в весьма драматических тонах17. Нам рассказывают, что вначале в течение шести месяцев Дарма вежливо поддерживал деятельность буддистов, но его министрам удалось добиться назначения на официальную должность Ба Гьелпо Тагны из могущественного клана Ба. Ба Гьелпо Тагна предпринял ряд действий, противоречащих заповедям Будды. В результате на Лхасу обрушились заморозки и град, возникли болезни, поразившие посевы, а вслед за этим начались голод, человеческие эпидемии и эпизоотии скота. Увидев все это, Дарма обратил свой разум против Дхармы и, согласно религиозной точки зрения, стал одержим демоном. В течение последующих шести с половиной месяцев он назначал злонамеренных министров, которые закрывали храмы, сжигали книги, лишали монахов сана, что заставляло оставшихся верующих спасаться бегством в Индию, а также в Кхам и даже Синьин, расположенный на северо-востоке Тибета у границы с Китаем.
Однако, любую критическую оценку кампании Дармы против духовенства следует рассматривать в свете другой антибуддистской кампании, имевшей место в современной ему Азии: преследовании буддизма при императоре Уцзуне. Немилость этого танского правителя к духовенству выплеснулась наружу также в 841 году – в то же время, когда начались гонения Дармы – и завершилась полным подавлением буддистской религии в 845-846 годах, причем закончились эти репрессии только в связи со смертью Уцзуна в 846 году18. Очевидно, что совокупной причиной обоих этих религиозных гонений стало: выпадение доходов от поместий, контролируемых буддистами; снижение поступления подушных налогов из-за широкого распространения буддистских сертификатов посвящения (монахи, а также монастыри и их владения освобождались от налогов – прим. shus); уменьшение авторитета аристократической власти на фоне роста влияния буддистских публичных деятелей; а также чрезмерные расходы на буддистскую ритуалистику и монашескую деятельность. Кроме того, в Тибете империя не росла, а оставалась статичной, сохраняя при этом очень большую армию и испытывая острую нехватку новых ресурсов.
Хотя с точки зрения монахов Дарма, возможно, и был одержим демоном, на самом деле его «подавление», скорее всего, было попыткой как-то компенсировать масштабные капитальные затраты, производившиеся в интересах как военных, так и духовенства. При этом ему пришлось столкнуться с истощающейся ресурсной базой и ощутить утрату могущества имперской власти, находясь под постоянным давлением со стороны как пробуддистских, так и антибуддистских кланов19, которые уже начали преследовать свои собственные интересы (также они поступали и во времена гонений Уцзуна в Китае). Текущая повестки дня довольно быстро стала ассоциироваться с конкретными клановыми позициями и постоянно укреплялась в этом направлении из-за взаимного антагонизма, перемежающегося с небольшими попытками сближения. Последнее происходило по той причине, что аристократические семьи, союзные с какой-либо из сторон, опасались в случае поражение утраты не только своего положения, но и собственного поместья. Поэтому не вызывает сомнений, что большинство разрушений религиозных объектов происходило вследствие набирающей обороты клановой междоусобицы, которую спровоцировал Дарма, и которая быстро вышла у него из-под контроля.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Каким бы трудным ни был путь ученого-переводчика, все они вознаграждались верой в сакральность сделанных ими переводов, что в свою очередь порождала у них чувство обладания высоким социальным статусом, сопоставимым по своей значимости с наследственными правами старой аристократии. Используя средства, которых не имели монахи из Цонгкхи, эти интеллектуалы смогли полностью захватить воображение тибетцев. Ведь публичные образы новых переводчиков пробуждали у них воспоминания о религиозном динамизме имперской династии, полностью утраченном общественно-политическими и военными структурами того периода. В то время как власть местных правителей распространялась только на собственные вотчины, переводчики могли объявить священной территорией по распространению Дхармы весь Тибет. Степень их влияния на сферу религии (как следствие успешности их путешествий в великие монастыри Южной Азии) оказалась вполне достаточной для того, чтобы отвлечь учеников и ресурсы от монахов, следующих по стопам Луме и Лотона. Когда же опыт изучения санскрита по ту сторону Гималаев стал эталоном при оценке всех других форм религиозности, аура лоцавы (переводчика) распространилась также и на гражданские дела Центрального Тибета, поскольку тибетцы в отличие от буддистских монахов Индии, как правило, не приветствовали жесткого разграничения между светским и духовным. Хотя многие переводчики одиннадцатого столетия так и не воспользовались представившимися им возможностями получения политической власти, вполне очевидно, что самые известные из них обладали заметным политическим и экономическим влиянием, и что практически все они были переводчиками тантрических буддистских текстов.
В процессе своей деятельности переводчики конфликтовали не только с гражданскими властями, но и с вторгавшимися в их духовные владения религиозными активистами ньингмы, и даже с другими лоцавами в случае пересечения сфер интересов. Эти политические столкновения не обязательно были следствием разногласий по поводу аутентичности священных писаний (в стиле «традиция ньингма против систем сармы (школ новых переводов)»), хотя иногда это было именно так. Чаще всего источником конфликтов было поведение отдельных личностей, состязающихся между собой в авторитетности, что по своей сути было столкновением раздутых до чудовищных размеров эго, подпитываемых эзотерической визуализацией себя в качестве того или иного царственного божества, правящего за пределами человеческого мира. Временами в основе их разногласий все же лежали противоречия между старыми и новыми системами (которые, конечно же, никуда не делись), но это уже не являлось чем-то определяющим и было скорее эпизодическим явлением. При этом следует отметить, что влиятельные эзотерические переводчики сармы ссорились между собой столь же часто, как это раньше они делали с наставниками ньингмы.
Возможно, что самым известным переводчиком одиннадцатого столетия был Ралоцава Дордже-драк, считавшийся одной из ключевых фигур тех времен. Его агиография, по-видимому, была скомпилирована из отдельных записей где-то в тринадцатом столетии (или немногим позже) и является одним из самых длинных повествований о ранних переводчиках сармы. Этот полный непристойностей документ оказал на репутацию Рало такое же влияние, как «Биография Милы Репы» (Mi la rnam thar), написанная Цанг-ньоном в пятнадцатом столетии, на репутацию «святого в хлопковых одеждах», и также как и последняя полон вымыслов о жизни и деятельности святого подвижника. Если не обращать внимания на слишком вольное обращение с исторической достоверностью, свойственное агиографии Рало, то станет очевидным, что данный текст являет собой описание той феерической смеси мирских страстей и религиозных убеждений, которая так ярко проявлялась в жизни многих тибетских эзотерических наставников одиннадцатого столетия.
По всей вероятности Рало родился в 1016 году в семье Ратона Кончока Дордже и его жены Дордже Пелдзом на территории Ньенам-ланга32. Эта долина тянется вдоль реки Почу и пересекает границу с Непалом в современном округе Ньялам. Рало был средним из пяти сыновей, а его отец принадлежал к мелкой аристократии и представлял линию мантринов ньингмы длительностью в семь поколений. Он передавал практики Янгдака Херуки и Дордже Пурпы (Ваджракилы) – двух наиболее значимых божеств, являющихся традиционными в ньингмапинской системе «священного слова» (kahma). Рало получил посвящение в эти линии в возрасте восьми лет, и его агиограф приводит множество примеров сверхъестественных событий, в которые он, как считалось, был вовлечен с самого детстве. Одним из примеров таких историй может служить рассказ о том, как во время путешествия по Тибету его, тогда еще шестимесячного младенца, несла на руках сама Пелден Лхамо. Поскольку Рало в целости и сохранности пережил все эти эпизоды, ему дали прозвище Бессмертный удар молнии (‘Chi-med rdo-rje-thogs). Отец обучал его различным практикам их гималайского сообщества, которые он осваивал так быстро, что вскоре заслужил репутацию интеллектуала и некоторые стали называть его Воплощением прозрения (Shes-rab ‘byung-gnas). Однако, помимо этого, также описывается как он еще в детском возрасте оскорблял старших, причем не только словесно, но и физически33. Судя по всему, в вопросе его помолвки с местной девушкой что-то пошло не так, и он направился на юг, в Непал, за новыми знаниями о Дхарме34. Около 1030 года, будучи еще только четырнадцатилетним юношей, Рало достиг дороги, которая вела в большой город Лалита-паттана (Патан), расположенный в непальской долине Катманду.
Представший перед Рало Непал сильно отличался от его тибетской долины. Подобно большей части тибетской литературы того времени, агиография представляет Патан как чистую буддийскую землю:
«Форма долины напоминала полностью распустившийся лотос. Это было благоприятно и вызывало чувство восторга. Там росло множество видов злаков, и ниспадали каскады воды восьми качеств. Она был окружен ароматными прудами для купания. Это был чистый сад исцеления, питающего жизнь. Там были воистину удивительные места, поскольку они попирались ногами тех, кто участвует в праведном собрании, где табуны лошадей, слонов и волов безмятежно бродили по цветочным лугам. Это была обитель ученых и сиддхов. Поскольку в ней было такое множество погребальных площадок, где собирались герои и дакини, она казалась подобной чудесному острову Кхечари (dakinis). Со всех сторон город был окружен лесами из различных фруктовых деревьев, сандалового дерева, душистого алоэ и т.п. Их наполняли, оживляя своим пением, кукушки и попугаи, а также различные маленькие птички с изысканными голосами. Посреди всего этого стоял большой город с четырьмя широкими бульварами и четырьмя огромными воротами в окружавшей его городской стене. Там располагалось около 500 000 домохозяйств, все постройки были одинакового размера, окружены урожайными участками и заполнены людьми. У элегантных особняков, таких как дворец правителя, было пятьсот уровней, каждый с неисчислимой массой сказочных украшений из хрусталя, нефрита и слоновой кости. В поражающих своим разнообразием торговых лавках, расположенных на городских площадях, было разложено множество товаров, произведенных во всех странах и регионах. Поскольку все жители города пребывали в достатке и не испытывали взаимной вражды, все они смеялись и играли друг с другом в разнообразные игры. Многие девушки играли на лютнях (vina) или флейтах и с удовольствием распевали песни. Повсюду наблюдалась бесчисленная телесная, речевая и умственная поддержка трех драгоценностей. Ради них непрерывным потоком текли добродетельные пожертвования, и делались они таким образом, чтобы продемонстрировать благонравный характер. Куда бы человек ни пошел, люди проявляли искренность, и с кем бы он ни подружился, тот человек заслуживал доверия»35.
Агиография Рало сообщает, что правителем Патана был монарх по имени Балахасти, но в доступных нам исторических записях отсутствуют упоминания о непальском правителе с таким именем. Кроме того, известно, что для Непала одиннадцатый век был неспокойным временем, когда в течении примерно одного столетия здесь правили поочередно четырнадцать монархов. Наше повествование относится к середине периода, который иногда называют «периодом Тхакури» (879–1200 гг.), хотя другие историки предлагают обозначать его как «переходный». Ни один из этих терминов не является в полной мере удовлетворительным, поскольку, судя по всему, не все монархические дома принадлежали к касте Тхакури, а также потому, что ни один исторический период не следует принижать и считать переходным между двумя как бы более важными периодами36. В каком-то смысле, долину Катманду времен Рало можно считать не совсем типичным вариантом возвышения индийского регионального центра, аналогичного Кашмиру, Ассаму, Кангре, Кумаону и т.п.
Нам известно, что в последние две декады десятого столетия Гунакамадеве удалось объединить фрагментированную политическую среду «непала мандалы» (долины Катманду) и установить единовластие, возможно, после совместного правления с другим властителем37. После его ухода было восстановлено двойное правление, при этом дворец одного монарха, вероятно, располагался в Патане, а другого – в Катманду за рекой Багмати. К тому времени, когда прибыл Рало, Лакшмикамадева уже был главным правителем государства Лалитапаттан (вероятно, он имел в нем какую-то власть еще в 1010 г.)38. Все источники подтверждают, что сам город Патан находился под прямым управлением Виджаядевы, который правил примерно с 1030 по 1037 год и повторно с 1039 по 1048 год, т.е. большую часть того времени, что Рало находился в городе39. Во второй период своего правления Виджаядева делил власть с Бхаскарадевой, т.е. правил таким же образом как ранее с Лакшмикамадевой. Как раз в это время в Катманду по пути из Индии в Западный Тибет останавливались Атиша и Нагцо. Неустойчивый политический климат тех времен описывается в различных источниках, где также упоминается о проведении Лакшмикамадевой церемоний с целью достижения мира в стране и сообщается, что около 1039/40 г. в Бхактапуре разразилась война. На протяжении последующих полутора столетий непальцы могли только мечтать о стабильном политическом правление, которое в конце концов все же было установлено (пусть и не в полной мере) новой династией Арималлов, основанной в 1200 году.
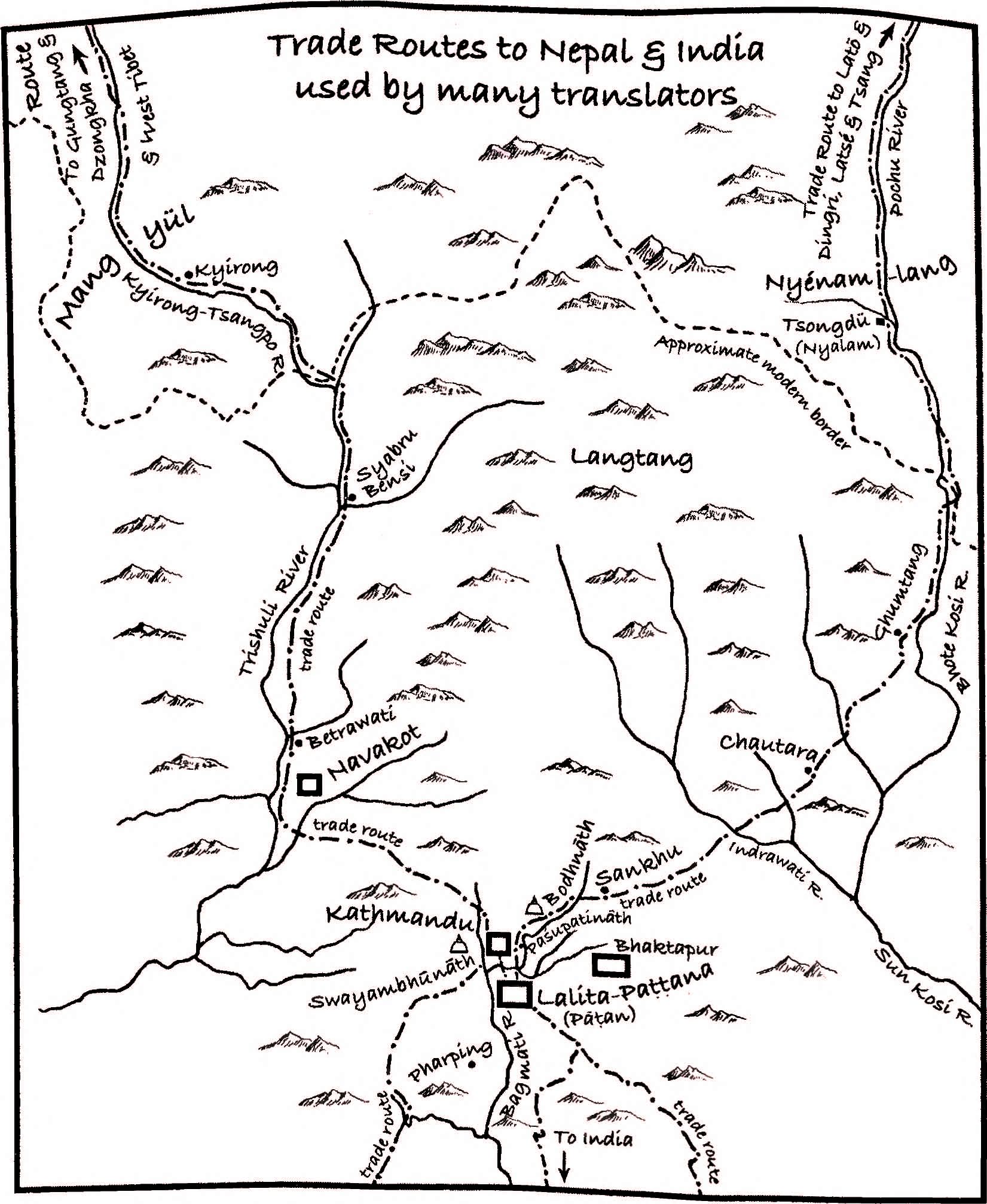 |
|
Карта 5. Торговые маршруты Непала и Индии, использовавшиеся многими переводчиками
|
Рало использовал один из двух чрезвычайно важных торговых маршрутов, обеспечивавших прямой товарообмен между Тибетским плато и долиной Катманду (см. Карту 5). Торговля с Тибетом имела для непальцев большое значение, и упоминание о ней присутствует еще в Лагантолской эпиграфической надписи 695 г. н.э. правителя Личчхавов Шивадевы II, который включил в свой указ положение о трудовой повинности на тибетском маршруте, обязав одну из деревень оказывать поддержку аскетам-пашупатам40. Не вызывает сомнений, что Рало около 1030 г. следовал по восточному маршруту, поскольку тот проходил по долине Ньенам через оживленный рынок в Цонгду (современный Ньялам) и далее вдоль реки Почу/Бхоте-коси. Затем он шел через горные хребты, вероятно, в Чаутару, далее пересекал реку Индравати и в конце концов спускался в долину рядом с Санкху. Проходя севернее современного шоссе Арнико, старый торговый путь вел напрямую к Боднатху где поворачивал на юг у ступы Чабхил, проходя к западу от вероятного места расположения старого дворца Личчхавов в Кайласакуте (ныне это холм к северу от Пашупатинатха), и далее следовал через мост на Патан, оставляя в стороне Катманду.
Западный маршрут в Тибет, напротив, проходил непосредственно через Катманду и далее на север в феодальное владение Навакот, периодически выходившее из-под контроля центрального правительства. Оттуда он продолжался вдоль реки Тришули/Кьиронг-Цангпо, а затем поднимался вверх по долине Мангьюл в Кьиронг и далее в Дзонгкху, рыночный центр в районе Гунгтанга и важный перевалочный пункт между Катманду и государством Гуге. Именно по этому западному маршруту Нагцо-лоцава привел Атишу в Западный Тибет в 1042 г. после того, как они провели год в Сваямбху-чайтье, Навакоте и Стхам Бихаре41. В те времена до Дзонгкхи и Ньялама было несложно добраться поздней весной и ранней осенью, т.е. как раз перед и после сезона муссонных дождей, вызывавших оползни, которые представляли серьезную опасность для путешественников. В агиографии Рало указывается, что путешествие из Ньенама в Патан заняло у него десять дней, что выглядит вполне правдоподобным для пути длиною немногим более ста миль42. Постоянно перемещавшиеся по этим маршрутам торговцы, конечно, приняли бы в свою компанию и обеспечили защитой любого тибетского религиозного подвижника. Однако, агиография Рало настойчиво утверждает, что он путешествовал в одиночку, причем впервые в жизни и будучи еще в совсем юном возрасте (что маловероятно), при этом в ней описывается несколько других случаев, когда ему приходилось договариваться с такими торговцами43.
Непал был центром буддистской деятельности со времен династии Личчхави и правления Амсувармана (нач. 607/8 гг. н.э.). Вторая стела из Харигаона сообщает об официальном монаршем покровительстве пяти крупным и нескольким второстепенным буддистским структурам, хотя в большинстве случаев их названия сложно сопоставить с какими-либо из известных монашеских учреждений44. Точно так же пока что еще не идентифицированы несколько монастырей, перечисленных в монарших хрониках как личчхавского, так и постличчхавского периодов45. Мы могли бы считать более информативным сообщение, согласно которому правитель Сиддхи Нарасимха Малла (1618–1661) для того, чтобы выделить главные монастыри Патана, произвел их реорганизацию, объединив в одну группу пятнадцать городских монастырей и три отдаленные монашеские общины46. Но многие из городских монастырей (в том числе, как минимум, один из тех трех, что, как утверждается, были заново построены этим правителем Патана) были определенно старше указанных дат или вообще не упоминаются в данном сообщении. Таким образом, вместо достоверной информации мы имеем дело с политической риторикой, что не позволяет нам сделать точный анализ монашеских структур Патана одиннадцатого столетия.
Попытки идентифицировать монастырь Рало в Патане, который в агиографии назван *Сурьятала-махавихарой (*Suryatala-mahavihara; Ye-rang nyi-ma-steng), сталкиваются с аналогичной проблемой47. Этот монастырь можно отождествить с Вамом Бахой (Wam Baha; Восточный монастырь), чье санскритское название звучит как «Сурьяварма Самскарита-Ваджракирти Махавихара» (SuryavarmaSamskarita-Vajrakirti Mahavihara), т.е. «Великий монастырь Ваджракирти, восстановленный Сурьяварманом»48. Считается, что это один из тех монастырей, что были заново построены Сиддхи Нарасимхой Маллой, однако, колофон к рукописи 1440/41 года указывает на то, что он существовал ранее. Два сходства в названиях позволяют предположить, что именно этот центр являлся обителью Рало в Патане. Во-первых, ни один из патанских монастырей того времени не содержит в своем названии слова «Surya» (=nyi-ma). Во-вторых, Рало получил монашеское имя Дордже-драк, причем, как считается, оно было дано ему после получения полного посвящения в Наланде. Однако, приводимый в агиографии список тех, кто проводил его ординацию в Наланде, выглядит довольно странно и, вполне вероятно, что он был составлен в определенных целях автором агиографии49. Возможно, что Дордже-драк является переводом словосочетания Ваджракирти, санскритского названия монастыря Вам Баха (Wam Baha), и может отражать наименование тамошней линии посвящения (по крайней мере, теоретически). Наконец, этот монастырь находится именно там, где по нашим предположениям на его в первую очередь мог наткнуться Рало: в ближайшем северо-восточном квартале города, к востоку от старой торговой дороги, которой он воспользовался после перехода через реку Багмати.
Весьма любопытным персонажем является великий наставника Рало по имени Бхаро, которого он встретил в монастыре. В агиографии тринадцатого столетия не приводится какой-либо дополнительной информации об его личности, однако, в колофонах нескольких переводов Рало сообщается, что они были сделаны им совместно с Бхаро Чагдумом50. Последнее словосочетание (phyag rdum) является почтительной формой от «лак дум» (lag rdum), стандартного перевода санскритского слова «кунда» (kunda). Применительно к людям эти термины обычно обозначают деформированную конечность, как оно и было переведено на тибетский язык. Однако, что касается объектов, то кундой называют углубления или площадки для разведения огня (другое название «агни-кунда»), которые устраиваются в местах проведения огненных ритуалов хома, выполняемых с целью умилостивления, инициации или в качестве одного из тантрических ритуалов51. Такое углубление в грунте используется и в современной практике неварских баха (монастырей), и мы можем предположить, что в одиннадцатом столетии оно предназначалось для проведения ритуалов только теми официальными лицами монастыря, которые имели статус старейшины (sthavira) и получили продвинутое посвящение52. Другая часть этого имени, Бхаро, является новым политическим титулом, который присваивался важным членам торговых каст (вайшья, урая и подобные им). При этом носители данного титула идентифицировались как мелкие аристократа, получившего его не ранее одиннадцатого столетия53. Характерной особенностью этих новых неварских дворян была их глубокая вовлеченность в дела буддистского сообщества, к примеру, в середине одиннадцатого столетия Гасу Бхаро и его сын Дхога Бхаро оказывали покровительство ряду буддистских наставников54.
Теперь мы можем обоснованно предположить, что, поскольку «Бхаро» в составе имени во всех старинных документах всегда стоит на втором месте, наставника Рало звали *Кунда Бхаро, и что в своем монастыре он когда-то был мастером эзотерических церемоний с хомой, а также что он происходил из состоятельной семьи торговцев и имел политические связи при дворе правителя Патана Виджаядевы. Бхаро, безусловно, был специалистом по эзотерическим ритуалам, и в какой-то момент он признался, что практически ничего не знает о буддийской доктрине и монашеском этикете, зато в совершенстве освоил ритуалы и медитационные практики Ваджраварахи и Ваджрабхайравы55. Нет сомнений в том, что его монастырь был учреждением, основу которого составляли миряне. Поэтому предположение Локка (Locke), что для неварских эзотерических центров во все времена это было нормой, похоже, без оговорок применимо к нашему случаю начала одиннадцатого столетия, поскольку агиография свидетельствует о присутствии в монастыре жен (bhari) и членов семей женского пола56. Будучи в первую очередь обителью для домохозяев, монастырь должен был показаться Рало не только заманчиво удобным, но и привлекательным своей экзотичностью, что давало ему хорошую возможность для изучения индийских материалов и приобщения к индийским религиозным ценностям без необходимости сразу же принимать обеты буддистского монаха.
Должно быть, Рало многому научился у своего наставника во время первого визита в Патан, поскольку был посвящен им в ритуалы Ваджраварахи и Ваджрабхайравы. Он также заручился поддержкой влиятельного неварского купца, некоего *Чандрабхадры, которого исцелил от болезни с помощью ритуалов цикла Ваджраварахи, причем Рало даже стал семейным ритуальным жрецом (purohita) благодарного торговца57. С другой стороны, у Рало сложились враждебные отношения с шиваитским магом по имени Пурнакала, которого он встретил во время обхода Сваямбху-чайтьи. Согласно этой истории, Пурнакала, столкнувшись с Рало, объявил тибетца своим учеником, что само по себе маловероятно, поскольку шиваиты одиннадцатого столетия уделяли особое внимание вопросам кастовой чистоты. Рало, который всегда был дипломатичен, ответил, что поскольку он буддист, то не видит причин заниматься брахманическим обучением, ибо «зачем мне слезать с лошади, чтобы ездить на осле?»58. Далее описывается, как из-за этой стычки между Рало и Пурнакалой началась борьба с использованием магических средств, что не понравилась *Кунде Бхаро. Тем не менее, умудренный эзотерический наставник наделил Рало различными средствами для противодействия магии его противника. Рало, поместив рисунок с изображением Ваджраварахи на свою лежанку, спрятался в большом кувшине и не покидал его до тех пор, пока магические дротики Пурнакалы не превратили рисунок в пыль. Развязкой этого соперничества стало самоубийство Пурнакалы, впавшего в отчаяние от безуспешных попыток подчинить себе молодого тибетского мага. Агиография убедительно свидетельствует о том, что эти навыки магического противоборства, доведенные до совершенства за счет незадачливого шиваитского мага, Рало использовал против всех врагов истинной Дхармы (т.е. против всех своих врагов), причем не только в Тибете, но и в Непале и Индии.
По завершению всех этих приключений *Кунда Бхаро подарил Рало ваджру и колокольчик (vajraghanta), ранее принадлежавшие Падмаваджре, а также свою личную статую Ваджрабхайравы и копию текста магических наставлений (gdams ngag gibe bum), тем самым подтверждая неизменную значимость физических реликвий в буддистских ритуальных линиях59. На обратном пути в Тибет Рало встретил одного из своих старших братьев Тентреу, который отправился на его поиски после того, как до семьи Рало дошли слухи, что юноша был убит во время магической дуэли с магом-тиртхиком. Однако, по возвращению они обнаружили, что дома дела обстоят не так уж и хорошо, поскольку его семья никак не могла прийти к соглашению с жителями другой деревни по поводу судьбы суженой Рало. Согласно агиографии Рало, применив свои магические способности, освободил от обязательств себя и молодую девушку. При этом агиограф с легкостью уходит от вопроса, насколько этичным является использование магической силы при разрешении семейных проблем, сообщая лишь только то, что наследственным занятием Рало и его семьи была Дхарма, и таким образом косвенно оправдывая применение магии против другого клана.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Согласно традиции, помимо «Коренного текста *маргапхалы» Дрокми был держателем восьми дополнительных практик, которые являлись таковыми только в том смысле, какой придавали им Дрокми и его последователи. В совокупности данные практики и собственно ламдре носят название «Девяти циклов практики». При этом авторы сакьяпы утверждают, что Дрокми был единственным, кто объединил их в такую группу, поскольку ранее они передавались независимо друг от друга. Текстуальные и исторические особенности этой группы являются прекрасными примерами двух уже ранее отмечавшихся факторов. Во-первых, это привилегированное положение коротких трудов йогических наставлений (upadesa) в сравнении с традиционными эзотерическими писаниями. Кроме того, такие лаконичные тексты имели реальных авторов и сопровождались короткими линиями передачи. Во-вторых, некоторые из этих восьми вспомогательных йогических текстов широко известны в альтернативных версиях, которые не были включены в канон (bsTan gyur) из-за предпочтения, отданного другим переводам, или же по какой-либо иной причине. Большинство из этих работ выглядят настолько «серыми», насколько это только возможно. Ведь, хотя в этих наставлениях и утверждается, что их авторство принадлежит индийцам, довольно часто они являлись произведениями более поздних тибетских ученых, созданными на основе очень кратких учений, приписываемых индийцам. Однако, наверно, самым важным здесь является то, что такая интеграция восьми вспомогательных практик в отдельную письменную линии передачи наглядно демонстрирует нам, каким образом подобные системы реагировали на богатство медитативных практик и разнообразных традиций Индии, Кашмира и Непала, заполнивших Тибет в период с десятого по двенадцатое столетия. Причем речь идет не только о ламдре, т.к. эта хаотичная масса учений обрушилась на большинство тибетских переводчиков того времени. Если же обратиться к вопросу формирования тибетского буддийского канона, то следовало бы еще раз вспомнить различные традиции, чья литература в силу исторической случайности, равно как и по любой другой причине, не была включена в его редакции четырнадцатого-восемнадцатого столетий, но продолжала циркулировать в ограниченной среде за пределами крупных издательских учреждений Центрального и Восточного Тибета118. Далее представлены описания этих восьми медитативных систем, расположенные в том же порядке, что и в современном издании «Желтой книги» (Pod ser) Дракпы Гьелцена119.
1. «Ачинтьядвайакрамопадеша» Махамудрасиддха-шри-куддалапады
Подобно многим другим работам, переведенным в одиннадцатом столетии, «Ачинтьядвайакрамопадеша»120 является специализированным произведением, посвященным стадии завершения. Общепризнанный санскритский текст этой работы относительно короткий – в нем всего 124 строфы, но даже в этом случае он длиннее некоторых произведений данного жанра. Сохранились два перевода этого текста: один входит в состав сборника «Желтая книга» сакьяпинского учения ламдре, а другой находится в Тибетском каноне121. Авторство первого перевода приписывается команде Ратнаваджры и Дрокми, а канонической версии (To. 2228) – *Сукханакуре и Го (вероятно, это Кхукпа Лхеце). Между собой эти два перевода имеют значительные отличия, поэтому можно предположить, что они выполнялись по разным редакциям «Ачинтьядвайакрамопадеши». В то же время во многом они довольно близки, что позволяет их отождествить с одним и тем же базовым произведением. Сакьяпинский вариант текста подытоживается комментариями и кратким обсуждением отдельных разделов данной работы, а также дополнен традиционной хроникой с жизнеописаниями выдающихся личностей этой школы122. Достаточно объемная хроника выглядит как приложение к основной части текста и присутствует в обоих переводах, но с некоторыми разночтениями в описаниях линии передачи123.
В одной из своих работ, датированных 1405 годом, Нгорчен утверждал, что этот текст создана на основе «Сампута-тилака-тантры», однако, похоже, что если такая связь и существует, то только в косвенном виде. Сама работа начинается с наставлений по правильному воззрению, в которых используется лексика в целом обычная для обсуждений Махамудры, и продолжается описанием деталей пути на стадии завершения. Текст не имеет очевидной структуры, но анонимный комментарий, включенный в современное издание «Желтой книги», разделяет его в соответствии со стратегией тройственной непрерывности. «Причинный» материал посвящен общим положениям и включает в себя двенадцать наставлений: по психофизическому континууму, по сосредоточению, по неделимости видимого и пустоты, а также по трем эпистемам, определяющим путь. Материал пути охватывает семь целей: контроль над умом, укоренение его в реальности, совершенствование практик, преодоление препятствий, распознавание восьми особенно полезных действий, осмысление опыта и опора на супругу. Результатом пути являются отдельные формы мистического знания и тел Будды. Следует отметить, что исходя из самого текста, такое разбиение вовсе не очевидно, и его следует рассматривать как результат тогда еще только зарождающейся экзегезы.
2. «Сахаджасиддхи» Домбихеруки
«Сахаджасиддхи»124 в том виде, в каком эта работа была получена Дрокми, значительно отличается от более известной «Сахаджасиддхи» Домби, которая сохранилась на санскрите и была отредактирован и переведена Шендге (Shendge)125. Санскритский текст состоит из трех разделов: первый посвящен двум стандартным практикам процесса завершения; во втором обсуждаются вопросы, касающиеся семейств (kula) различных будд и принятия посвящений (samaya); а в третьем излагаются стандарты неконцептуализации. Что касается работы, которая входит в наследие ламдре, то она ни коим образом не является индийским текстом, поскольку вполне очевидно, что это тибетское сочинение, основанное на учении о «врожденном» (sahaja), приписываемом Домбихеруке. При этом здесь, основываясь на стихе из «Хеваджра-тантры», его впрямую называют автором «Сахаджасиддхи»126. Этот анонимный текст, входящий в сборник «Желтая книга», как и многие другие работы сакьяпы, структурирован на основе тройственной непрерывности, причем «врожденное» указывается как основа, путь и плод медитации. Большая часть этой работы во многом пересекается как с «Ачинтьядвайакрамопадешей», так и с «Коренным текстом *маргапхалы», не говоря уже о других работах. Нет сомнений, что данный текст принципиально отличается от других текстов тибетского канона, носящих название «Сахаджасиддхи», хотя часть его содержания, очевидно, является общей для всех них127. Несоответствия между наставлениями ламдре, касающимися «Сахаджасиддхи», и другими произведениями с таким же названиями становятся очевидными при ознакомлении с его описанием в «Желтой книге», где эта работа (как и многие другие тибетские сочинения) фигурирует под индийским названием, мимикрируя таким образом под переводную работу. Вначале данный текст претендует всего лишь на статус медитативного наставления (gdams ngag), основанного на «Сахаджасиддхи», а в заключении часть маргиналий неизвестного происхождения сообщает, что это наставление представляет собой драгоценное бестекстовое ламдре, полученное Домбихерукой от Вирупы и далее переданное Дрокми через Вираваджру128. Представление этого произведения в качестве носителя бестекстового ламдре слабо согласуется с его оценкой Дракпой Гьелценом в «Хронике Тибета» (§2), которая, кстати, была проигнорирована Нгорченом при написании им истории ламдре129.
3. «Обретенное перед чайтьей» (mchod rten drung thob), приписывается Нагарджуне
Изучение этой работы130 во многом сопровождается теми же проблемами, с которыми мы уже сталкивались при рассмотрении предыдущего текста. С одной стороны в источниках она фигурирует в качестве индийского произведения, а с другой описывается как устное наставление, основанное на двух индийских работах, которое было написано самим Дракпой Гьелценом. В «Желтой книге» перечисляются четыре разных названия этого текста: «Обретенное перед чайтьей» (mChod rten gyi drung tu thob pa), «Наставление по ограничению ума» (Sems thag gcod pa i gdams ngag), «Медитация на абсолютную мысль о пробуждении» (Don dam pa hyang chuh kyi sems bsgoms pa) и «Наставление в Махамудре как естественной реальности» (Phyag rgya chen pornal du ston pa). Работа разделена на пять тем: постижение природы ума посредством правильной точки зрения, накопление заслуг, сосредоточение ума, постижение ума как реальности, а также деятельность и развитие, основанные на реализации. В «Желтой книге» присутствует текст с утверждением, что Сараха сочинил свои песни, входящие в его «Сокровищницу дохи», опираясь на стих, содержащий размышления о пробуждении (bodhicitta), который произносит Акшобхьяваджра во второй главе «Гухьясамджа-тантры». Подобным образом утверждается, что Нагарджуна создал свою «Бодхичиттавиварану», основываясь на стихе с размышлениями о пробуждении (bodhicitta), произнесенном Вайрочанаваджрой также во второй главе «Гухьясамджа-тантры». А «Обретенное перед чайтьей» является устным наставлением, основанным на обеих этих работах, которое, как считается, было получено Нагарджуной от Сарахи перед ступой Дханьякатака, сооруженной полубогами и расположенной близ горы Шрипарвата131.
Оценить одну из составляющих утверждения об источниках «Обретения» довольно легко, поскольку тибетский перевод «Бодхичиттавивараны» начинается со стиха, посвященного Вайрочанаваджре, который, по всей видимости, заимствован из «Гухьясамаджа-тантры». Последняя оказала особое влияние на формирование литературы, посвященной мысли о пробуждении, и главным образом по той причине, что вторая глава этой тантры посвящена именно данной теме132. С «Сокровищницей дохи» дело обстоит несколько сложнее, поскольку указанный в «Желтой книге» текст сохранился только на апабхрамше, и в нем отсутствует перевода стиха из «Гухьясамаджа-тантры» на апабхрамшу133. Хотя в обоих этих мнимых источниках основной акцент делается на связи ума с реальностью, и таким образом они находятся в континууме с «Обретенным перед чайтьей» (как, впрочем, и все другие эзотерические тексты, описывающие медитации на мысли о пробуждении), в них не содержится ничего такого, что бы могло указывать хоть на какую-то связь с «Обретением». Таким образом, создается впечатление, что история происхождения данной работы имеет целью утверждение ее аутентичности, а не точное указание источников, на которые она опирается. В пользу этого предположения говорит тот факт, что более поздняя традиция уже не упоминает Сараху, указывая в качестве источника только текст Нагарджуны, что отражает возросший авторитет этого философа/сиддхи в четырнадцатом и пятнадцатом столетиях134. Судя по всему, данная работа была написана Дракпой Гьелценом, опиравшимся на разъяснения Сачена Кунги Ньингпо. При этом следует понимать, что предшествующего текста попросту не существовало – только устные наставления, полученные Дрокми от Вираваджры135.
4. «Бесписьменная Махамудра» (phyag rgya chen po yi ge med pa). Приписывается Вагишваракирти
«Желтая книга» описывает эту работу в той же манере, что и все другие произведения 136. При создании «Саптанги» и «Таттваратнавалоки» Вагишваракирти опирался на «Гухьясамаджу» и «Хеваджра-тантру», а также на речи богини Тары. Затем, дополнительно изучив «Найратмьяйогини-садхану» Домбихеруки, Вагишваракирти создал наставление под названием «Бесписьменная Махамудра»137. Текст начинается с благословения и указаний наставника ученику, визуализирующему себя в качестве богини Найратмьи, и включает в себя наставление о природе ума и реальности. Вторая часть посвящена методам визуализации и медитации учеников, следующих этим путем. Третий раздел представляет собой краткое обсуждение атрибутов трех тел Будды.
Главной особенностью канонических трудов Вагишваракирти является их акцент на строгий подход к четвертому посвящению, которое характеризуется наибольшим количеством вариаций как в практическом применении, так и в толкованиях. Две упомянутые выше работы Вагишваракирти (вместе с автокомментарием ко второй) являются одними из наиболее значимых текстов этого автора и кроме того содержат интересные разработки, связанные с использованием живописи в различных эзотерических посвящениях138. Однако, вполне очевидное отсутствие какой-либо связи между его каноническими текстами и работой, приписываемой ему в «Желтой книге» сакьяпы, позволяет нам задастся вопросом: а не являются ли все те же проблемы аутентичности, которые мы уже обсуждали ранее, определяющими и здесь. Выбор «Найратмьяйогини-садханы» Домбихеруки в качестве источника для «Бесписьменной Махамудры», по-видимому, был связан с особой значимостью работы Домбихеруки в вопросе передачи Дрокми визуализаций, связанных с богиней Найратмьей. Как и в предыдущем случае, этот текст был написан Дракпой Гьелценом, при этом, вполне вероятно, что в его основу было положено учение Вагишваракирти, которое, как считается, Дрокми получил от Амогхаваджры139.
5. «Процесс зарождения, украшенный девятью глубинными методами» (bskyed rim zab pa’i tshul dgus brgyan pa). Приписывается Падмаваджре (или Сарорухаваджре)
В этом тексте140, также написанном Дракпой Гьелценом, сообщается, что он был создан Сарорухаваджрой на основе «Шри-Хеваджрасадханы»141. Само произведение состоит из четырех разделов. Сначала излагается точка зрения, согласно которой мирское существование и пробуждение должны пониматься как единое и неделимое. Затем представлены девять методов стабилизации ума с помощью эзотерических умиротворяющих практик, а также описание этапов пути. За ними следует указания по порождению уверенности с помощью девяти глубинных средств с целью отсечение всех видов концептуализации, имеющих отношение к внешнему. И наконец, разъясняется плод, которой представляется как три тела с семью ответвлениями142. Таким образом, название этой работы вводит в некоторое заблуждение, поскольку на самом деле в ней представлен полный спектр основы, пути и плода. Весь процесс реализуется с использованием базовой стратегии девятичастного деления целевых методов на разноплановые действия, которые вкупе обеспечивают полное прохождение пути (включая процесс завершения).
«Процесс зарождения, украшенный девятью глубинными методами» четко акцентирован на доктрине неделимости мирского существования и пробуждения. Однако, эта идея практически не упоминается в «Шри-Хеваджра-садхане» (To. 1218), автором которой считается Падмаваджра. Кроме того, современное издание «Желтой книги» включает в себя каноническую работу, приписываемую все тому же Сарорухаваджре, под названием «Шри-Хеваджрапрадипасулопамававадака», но она выглядит иначе, чем «Процесс зарождения», как в представлении процесса завершения, так и с точки зрения основных доктринальных положений143. Падмаваджра, безусловно, является одним из самых известных эзотерических авторов девятого столетия, написавшим обширные комментарии к таким трудам, как «Дакарнава» (Шри-дакнарава-махайогинитантрараджа, To. 1419), «Буддхакапала» (Буддхакапалатантрападжика-таттвачандрика, To. 1653), «Тантрартхаватара» Буддхагухьи (Тантрартхаватара-вьякхана, To. 2502), а также свою собственную «Гухьясиддхи» и ряд коротких медитативных работ, таких как «Шри-Хеваджрасадхана». Однако отождествление автора «Процесса зарождения» с Падмаваджрой выглядит весьма проблематичным, поскольку «падма» является стандартным заимствованным словом в тибетском языке, а тибетское имя Цокье Дордже предполагает санскритский эквивалент Сарорухаваджра или нечто аналогичное. В тибетских переводах других произведений, автором которых считается Падмаваджра, его имя писалось просто как есть (Падмаваджра) или как Перна Дордже. Таким образом, неясно, какая может быть связь между наставлением, созданным Дракпой Гьелценом, и другими работами, приписываемыми Падмаваджре. Дракпа Гьелцен не указывает линию передачи этого наставления, а «Шри-Хеваджрапрадипасулопамававадака» была переведена Дрокми, который в процессе перевода консультировался с Гаядхарой144.
6. «Завершение пути посредством психогенного тепла» (gtum mos lam yongs su rdzogs pa). Приписывается *Махачарья-чирнаврата-канхе
Во введении Дракпы Гьелцена к этой работе145 говорится, что Канха, опираясь на знания, переданные ему его учителем Шри-Маха-Джаландарой, создавал свои произведения на основе собственного представления о канонической иерархии. Вся Буддадхарма была включена им в категорию ваджраяна; все три раздела тантры входили в категорию махайога; тантры искусных средств и прозрения были отнесены к недвойственным тантрам Хеваджры и Самвары, а сами они вошли в категорию разъяснительных тантр «Ваджрадаки» и «Сампуты»146. По его мнению, если при изучении все их рассматривать как единое целое, то в результате можно понять, как действительно должен выглядеть процесс завершения. Исходя из этого, Канха написал шесть работ, посвященных этой стадии пути: «Васантатилаку», «Гухьятаттвапракашу», «Олапати», «Гарбхасанграху», «Самваравьякхью» и «Махдмудратилаку»147. Дракпа Гьелцен утверждает, что все эти шесть текстов можно представить в виде четырех тем «Олапати» и устных наставлений к этой работе в качестве пятого раздела.
Мне удалось идентифицировать четыре из шести работ, приписываемых Канхе, опираясь либо на сохранившийся санскритский текст, либо на переводы из тибетского канона148. Среди них название «Олапати», безусловно, выглядит самым аномальным, поскольку в его каноническом заглавии присутствует термин «ола», который, как считается, означает стадию или ступень (rim pa, обычный эквивалент krama). Однако такая трактовка, похоже, нигде и ничем не подтверждается, а сам термин может указывать на использование Канхой пракрита или какого-то местного выражения. Описания содержания «Олапати» более поздними авторами в точности соответствуют содержанию работы, известной в каноне под названием «Четыре стади» (Rim pa bzhi pa: То. 1451), а термин «ола» засвидетельствован в ее автокомментарии, приписываемом Канхе. Данная работа разделена на обсуждения стадий тантры, мантры, мистического знания (jnana) и тайной стадии149. У наставников сакьяпы пользовались популярностью как этот, так и другие тексты, приписываемые Канхе, а Сачен и Дракпа Гьелцен являются авторами комментариев и обсуждений некоторых из них, причем с отличными точками зрения150. Рассматриваемый нами текст в некоторых аспектах следует структуре «Олапати», хотя и разделен на предварительное рассмотрение доктрины (lta ba), описание медитации (bsgom pa) и заключительное представление тел Будды как плода пути. Содержание первых двух частей структурировано так же, как и в «Четырех Стадиях»: тантра, мантра, мистическое знание и таинство, но с добавлением новой стадии, посвященной недвойственности. Здесь мы снова отмечаем склонность сакьяпы к созданию такого рода материалов с опорой на концепцию «основа, путь, плод». Данное медитативное руководство, как, впрочем, и последующее наставление, попало к Дрокми благодаря его совместной работе с Гаядхарой.
7. «Наставление по выпрямлению искривленного» (yon po bsrang ba’i gdams ngag). Приписывается Ачьюта-Канхе
Этот короткий текст151, по-видимому, был также написан либо Саченом Кунга Ньингпо, либо Дракпой Гьелценом, поскольку, хотя и авторство не указано явно, его создателем был кто-то из традиции сакья152. Как и все остальные рассматриваемые здесь работы, он также относится к процессу завершения. И хотя в «Желтой книге» не указывается, на что опирается это произведение153, Нгорчен сообщает, что его основой являются все материнские тантры (т.е. йогини-тантры). Текст начинается с короткого агиографического сюжета, в котором описывается, как Ачьюта-Канха, следуя из из Джаландары, встречает йогина по имени Ачьюта, обладавшего сверхъестественными способностями. Особо отметим, что его буддистко-шиваитское раздвоение личности здесь проявляется также наглядно, как и в трех песнях из «Чарьягитикоши», авторство которых приписывается Канхе154. Во время встречи Канха получает от этого Ачьюты стих, содержащий практику:
«Если ты поставишь под контроль жизненные потоки с помощью гневной формы [йоги],
Тогда ты устранишь белые волосы и морщины.
Освободившись от старости и смерти,
Любой становится бессмертным, как это небо»155.
В комментарии к этому стиху кратко описываются телесные йогические практики (‘khrul ‘khor: yantra), а также переход от экстремальных йогических действий, подобных поведению пашупатов и других шиваитов (avadhutacaryti), к нормативному буддистскому поведению (samantabhadracaryti). В тексте настоятельно рекомендуется выполнение указанных «гневных» практик, поскольку вследствие этого йогин избавится от седых волос, морщин и других признаков старения (т.е. искривления), из-за отсутствия которых Канху и называли «бессмертным» (acyuta). Как и многие другие работы этой группы, данный текст завершается обсуждением тел Будды. Нгорчен без сомнений отождествляет Ачьюта-Канху с Канхой из предыдущего текста, сообщая, что их тождественность подтверждается списком линии передачи, а также указывая на то, что в традиции считается, что оба текста были получены Дрокми от Гаядхары156.
8. «Цикл практик пути с участием духовной супруги» (phyag rgya’i lam skor). Приписывается Индрабхути
Как видно из его названия, этот текст157 посвящен только тем практикам, где на продвинутых уровнях процесса завершения используется сексуальная партнерша. Объем данной работы, являющейся одной из самых длинных среди восьми дополнительных практик, свидетельствует о ее значимости для традиции. А выдержки из ее наставлений иногда цитируются в дискуссиях в самом пространном из одиннадцати комментариев, приписываемых Сачену, который носит название «Седонма»158. В основе «Цикла практик пути с участием духовной супруги» лежит толкование следующего стиха, приписываемого Индрабхути159:
«На коне, на котором ехал Девадатта,
Четыре двери должны быть открыты нагами.
Обуздай желание с помощью натянутого лука.
Наращивай его черепашьей поступью.
Поскольку оно заблокировано и со вздохом,
[Бодхичитта] переносится на место посредством ограничения ХИК».
Интерпретация этого загадочного стиха занимает большую часть текста. При этом буквальное толкование производится в первой половине работы, а во второй разъясняются наиболее трудные моменты. «Девадатта» (довольно любопытное использование имени еретического ученика Будды) означает хорошо подготовленного тантрического йогина, который едет верхом на коне ваджраяны. «Нага» (змея) обозначает практику подготовки атрибута (змеи), который нужно вставить в прямую кишку женщины (привязанной к седлу), чтобы открыть четыре конца психофизических каналов и сделать их доступными для йогина. Он контролирует свое желание с помощью мантр (лук) или, если необходимо, наращивает свои сексуальные способности посредством замедленного полового акта (черепашья поступь). Он блокирует эякулят остановкой дыхания (вздохом) или использованием мантры ХИК. Работа заканчивается интересным комментарием на тему природы Индрабхути, поскольку сакьяпинцы считают, что существовало три Индрабхути: великий, средний и меньший, жившие и действовавшие в хронологическом порядке, т.е. каждый в своем периоде. Все они являлись эманациями эзотерического бодхисатвы Ваджрапани, при этом самым великим был тот, что жил в древности. Это эзотерическое наставление попало к Дрокми через Праджнягупту, носившего прозвище Красный ачарья (acarya dmar-po) и являвшегося одной из самых печально известных личностей одиннадцатого столетия. Считается, что этот наставник прибыл из Одияны и был учеником кашмирского Ратнаваджры. А признание его авторитета являлось предметом дискуссий, как минимум, со времен Подранга Шивы-O160.
Любое рассмотрение этих восьми дополнительных практик должно исходить из того (и я старался следовать этому принципу), что у всех них, за исключением «Ачинтьядваякрамопадеши», отсутствуют надежно подтвержденные исходные индийские тексты. Авторы данных работ, и в первую очередь Дракпа Гьялцен, прилагали значительные усилия, чтобы хоть как-то отождествить их с широко известными индийскими произведениями. Однако, их попытки выглядят достаточно сомнительными, из-за слишком большого несоответствия между содержанием этих работ и их предполагаемых источников. В печатной версии «Желтой книги» тибетская сущность данных текстов старательно маскируется попытками представить их индийскими путем присвоения им индийских названий. На самом деле они представляют собой разноплановые и несопоставимые по содержанию произведения, охватывающие весь спектр учений: от основ эзотерического буддизма до самых продвинутых наставлений по сексуальным практикам и постижению высшей реальности. Источники происхождения этих работ также весьма разнообразны, т.к. Дрокми получал их от самых разных наставников: две (вторая и третья) от Вираваджры, вероятно, три (пятая?, шестая и седьмая) от Гаядхары и по одной от Ратнаваджры (первая), Амогхаваджры (четвертая) и Праджнягупты (восьмая). Их содержание обнаруживает явные признаки стремления к доктринальной гомогенизации, происходившей в период становления сакьяпы в качестве самостоятельной институции. Это следует из того, что большинство из них придерживается принципов фундаментальной структуры «основа (gzhi) – путь (lam) – плод (‘bras bu)», и все они единообразно завершаются наставлениями относительно атрибутов и природы тел Будды. Следует отметить, что признание этих устремлений достаточно явно прослеживается и при обсуждении «восьми дополнительных практик». Как указывал Гунгру Шерап Зангпо, авторы ламдре были единодушны в том, что эти восемь практик проясняют то, что в ламдре иным способом не объяснить, и дополняют то, что нуждается в уточнениях161.
Тщательное рассмотрение данных наставлений позволяет заглянуть внутрь сложного и порой противоречивого процесса формирования эзотерического текстового наследия, участниками которого были самые выдающиеся авторы сармы одиннадцатого-двенадцатого столетий. В те времена было создано множество текстов, опиравшихся на разрозненные медитативные наставления сомнительного происхождения (мы это увидим далее на примере сборника «драгоценных» текстов Сачена Кунги Ньингпо). Нет сомнений, что эти восемь произведений являются одним из наиболее очевидных примеров попыток решения целого комплекса задач: творческой разработки новых медитативных техник, повышения личного статуса, адаптации произведений к целям институционализации, а также придания им формы, отвечающей запросам тибетской религиозной общественности. А поскольку эта публика утверждала, что приемлет только подлинно индийские произведения, то вновь созданный текст в обязательном порядке должен был сопровождаться собственным индийским названием, списком линии передачи, а также колофоном, указывающим на его происхождение. Однако, колофоны (опять же, за исключением «Ачинтьядваякрамопадеши») указывают на тибетские корни этих произведений и, таким образом, демонстрируют порядочность их авторов. И хорошо, если они могут нам сообщить, вокруг какого стиха строится соответствующий ему текст (как в случае с Yon po bsrang ba’i gdams ngag и Phyag rgya’i lam skor), хотя к интерпретации таких стихов возникает не меньше вопросов, чем к самим стихам. Таким образом, как и основная часть произведений Жама-лоцавы, кратко рассмотренных в предыдущей главе, большинство работ цикла восьми вспомогательных практик, относятся к категории «серых» текстов, вдохновленных Индией, но по своей форме и сути являющихся тибетскими.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Поскольку в первую очередь мы пытаемся осмыслить малопонятный «Коренной текст *маргапхалы», приписываемый Вирупе и якобы переведенный Гаядхарой и Дрокми, и используем при этом комментарии за авторством Сачена, мы должны решить проблему линейности передачи этого священного писания. Несмотря на обширные подтверждения более ранних передач этого текста другим (Драму, Жаме), агиографические источники утверждают, что общепризнанный текст был передан только Сачену, и это создает некоторые проблемы95. Из-за восемнадцатилетнего обета молчания, возложенного Жангом Гонпавой на Сачена, у ламы из Сакьи по общему мнению не было физических копий этого короткого текста. Многие сакьяпинские источники утверждают, что, когда Жанг умер, Сачен отказался принять книги и записи своего учителя, настаивая на том, чтобы они были погребены в ступе вместе с другими реликвиями этого святого подвижника96. Его сын, Дракпа Гьелцен, признает, что к тому времени, когда Сачен начал работать над комментариями, похоже, не сохранилось ни одной текстовой копии «Коренного текста *маргапхалы»97.
Однако и эпизод из агиографии, и приведенное выше свидетельство вызывают определенные сомнения из-за присутствия в комментариях Сачена отдельных цитат предшествующих авторитетов, включающих различные высказывания о «Коренном тексте *маргапхалы». Хотя некоторые цитаты, возможно, и ускользнули от моего внимания, я привел в Таблице 5 следующих авторитетов, упомянутых или процитированных в печатных комментариях, опустив только ссылки на Вирупу и Канху.
Таблица 5. Цитирование в комментариях Сачена
|
Процитированные тибетцы
|
Текст и страница
|
|
Мугулунг-па/Дрокми
|
Седонма, 175- 76; Гатенгма, 469
|
|
Дже Кхарчунгва (= Сетон Кунрик)
|
Гатенгма, 175, 267
|
|
Дже Гонпава (= Жанг Гонпава)
|
Гатенгма, 175, 192-93, 267, 320, 331-32; Седонма, 200 (Je? 110); Бендема, 86
|
|
Джомо Лхаджема
|
Гатенгма, 195, 267
|
|
Го Кхукпа Лхеце
|
Гатенгма, 280
|
|
Геше Гьяца Джангье
|
Гатенгма, 374
|
|
Процитированные индийцы
|
|
Домби
|
Гатенгма, 186; Седонма, 114
|
|
Сараха
|
Гатенгма, 243; Седонма, 140
|
|
Наротапа
|
Гатенгма, 187, 203
|
|
Падмапа/Падмаваджра
|
Гатенгма, 267, 274; Юмдонма 74; Жучема, 82
|
|
Майтрипа
|
Гатенгма, 267
|
|
Куддалапада
|
Гатенгма, 285; Седонма, 179
|
|
Индрабхути
|
Гатенгма, 296; Седонма, 29
|
|
Нагарджуна
|
Седонма, 270
|
|
Васубандху (уничижительно)
|
Гатенгма, 282; Седонма, 179; Лок-кьяма, 281
|
|
Дхармакирти (уничижительно)
|
Лок-кьяма, 281
|
Большинство из этих людей были либо основными держателями линии ламдре, либо «авторами» восьми дополнительных практик, которые передавались через Дрокми и которые, как утверждается, Сачен получил от Жанга Гонпавы. Некоторые из них весьма любопытны, к примеру, я не уверен в достоверности личностей Джомо Лхаджемы (= Госпожа целительница) и геше Гьяцы Джангье. Цитирование Го-лоцавы Кхукпы Лхеце не является чем-то экстраординарным, поскольку он был переводчиком материалов традиции «Гухьясамаджи», в которую также был посвящен и Сачен.
Однако, наиболее интригующим является ряд цитат из малоизвестных текстов, в особенности из «Основных положений Жанга» (rJe sa bead pa) и «Краткого текста» (gZhung chung), приведенных в «Седонме»98. В другом месте в коротком панегирике наставнику Сачен ссылается на сочинения ламдре, которыми владел или создал сам Жанг Гонпава99. Насколько содержательна вся эта информация нам неясно, но, похоже, что в какой-то момент Сачен имел доступ к некой совокупности более ранних материалов ламдре, вероятно, к нескольким коротким фрагментам, а, возможно, что и к длинной работе, которая включала некоторые указания относительно метода интерпретации ее текста. Тем не менее, похоже, что все эти работы были очень важны для понимания Саченом основного текста ламдре. Независимо от того, располагал ли он какими-либо материалами из того, что осталось после смерти Жанга Гонпавы, или текстами, полученными от представителей линий передачи Дрома или Жамы, или же записями, завещанными ему отцом, вполне очевидно, что при интерпретации главного текста он использовал какие-то полученные на стороне инструкции. В частности, цитирование в «Гатенгме» «авторов» восьми дополнительных практик указывает на то, что эти материалы повлияли на понимание Саченом «Коренного текста *маргапхалы».
В любом случае, поскольку общепризнанный «Коренной текст *маргапхалы» малопонятен без комментариев Сачена, мы должны обсудить (в той степени, в какой это возможно) их состав, идентичность и последовательность появления. Считается, что каждый из них был составлен по отдельности и имеет индивидуальные особенности по причине того, что только после восемнадцати лет молчания Сачен начал преподавать текст и систему. Аме-шеп утверждал, что это произошло, когда Сачену было сорок девять лет, т.е. в 1141 году, однако, такая точность не находит подтверждений в ранних документах100. Первым учеником Сачена был лама из Кхама, некто Джангчуб Семпах Асенг, являвшийся еще одним очень значимым кхамским ламой начала двенадцатого столетия101.
Неудивительно, что Асенг испытывал трудности с пониманием «Коренного текста *маргапхалы», поэтому он попросил Сачена вкратце описать его содержание, что тот и сделал в виде краткого конспекта, который теперь называется «Асенгма». Считается, что помимо этой первой работы Сачен написал еще десять комментариев, т.е. всего одиннадцать. Однако, точно отождествить их авторство с Саченом не представляется возможным, что, несомненно, отражает довольно-таки бессистемное отношение сакьяпинцев к учету своих текстов в домонгольский период. В своем предисловии и оглавлении к более позднему сборнику учений ламдре, который носит название «Желтая книга» (Pod ser), Дракпа Гьелцен просто утверждает, что его отец написал одиннадцать комментариев, но не указывает их наименования, хотя два таких комментария включены в эту работу102. Данные упущения вкупе с быстрой разработкой на протяжении двенадцатого и тринадцатого столетий других комментариев к этому малопонятному тексту поставили более поздних историков в весьма затруднительное положение. В какой-то степени вопрос был решен путем консенсуального одобрения печатного издания одной из версий «одиннадцати комментариев», увидевшего свет в восемнадцатом столетии. Однако, такое согласие было достигнуто вовсе не потому, что этот состав отражает некий единственно верный список одиннадцати комментариев, включающий в себя следующие тексты: «Ньягма», «Асенгма», «Седонма», «Жучема», «Лок-кьяма», «Дагьелма», «Бендема», «Гатенгма», «Юмдонма», «А-ума» и «Денбума», названные в честь получивших их людей. Другие авторы предлагали отличные от этих наименования комментариев и имена их получателей, ну а самые ранние комментаторы просто утверждали, что комментариев было одиннадцать, и подчеркивали особую значимость «Ньягмы»103.
Сакьяпинские авторитеты единодушны в том, что определить очередность их написания весьма проблематично, что, впрочем, неудивительно для такого неоднозначного собрания специфических текстов. Однако, при этом они утверждают, что имеют определенное представление о начале и конце их создания. Они заявляют, что «Асенгма» был написан раньше всех, а «Ньягма» является последним комментарием. Кроме того некоторые религиозные авторитеты считают, что «Гатенгма» был создан сразу после «Асенгмы», при этом порядок остальных работ остается неопределенным104. К сожалению, сходство стиля всех комментариев затрудняет наше понимание возможных путей их развития. Тем не менее, у них можно отметить как минимум одно общее направление, посредством которого с течением времени произошла некоторая модификация изначальной доктринальной идеи: дополнительное истолкование смыслового значения словосочетания «ламдре». По мнению более поздних ученых одиннадцать таких трактовок включены во вводные разделы каждого из этих текстов, где также объясняются названия самих работ. Ниже приводится их список:105
- Наставление, в котором путь одновременно включает и плод (lam ‘bras bu dang bcas pa’i gdam ngag).
- Наставление, в котором плод одновременно включает и путь (‘bras bu lam dang bcas pa’i gdams ngag).
- Наставление, в котором понимание одного элемента приводит к пониманию всех элементов (gcig shes pas mang po shes par gyur ba’i gdams ngag).
- Наставление, в котором тяжелые переживания рассматриваются как качества созерцания (skyon yon tan du bslang ba’i gdams ngag).
- Наставление, в котором преграды воспринимаются как сиддхи (bar chad dngos grub tu/en pa’i gdams ngag).
- Наставление, в котором препятствия к созерцанию проясняются путем осознания [их как возникающих из] сосредоточения (ting nge ‘tizin ngo shes pas bsam gtan gyi gegs sel ba’i gdams ngag).
- Наставление, в котором демонические препятствия очищаются путем осознания преград [как самого пути] (bar chad ngo shes pas bdud kyi gegs sel ba’i gdams ngag).
- Наставление, раскрывающее восприятие преград в качестве сиддхи, а также увещевающее воспринимать недостатки как качества (skyon yon tan tu bslang shes shing bar chad dngos grub tu len shes pa’i gdams ngag).
- Наставление, абсолютно точно информирующее о реальности Трипитаки (sde snod gsum gyi de kho na nyid phyin ci ma log par shes pa’i gdams ngag).
- Наставление подобное нектару, превращающему вещи в золото (rasayana) (gser ‘gyur gyi rtsi lta bu’i gdams ngag).
- Наставление, в котором краткий текст подобен драгоценному камню, исполняющему желания (cintamani) (gzhung chung yid bzhin gyi nor bu lta bu’i gdams ngag).
Интересно, что в современном издании ни в одном из комментариев, приписываемых Сачену, не фигурируют все одиннадцать толкований. Однако, как мне кажется, это не должно вызывать удивления, поскольку в списке присутствует некоторая степень избыточности. Номера 1 и 2 подразумевают по сути одно и то же: в них субъект и предикат просто меняются местами. Номера 4 и 5 объединены в номер 8 с небольшим добавлением, что является одной из причин того, что в комментариях он встречается реже всего. Наконец, номера 6 и 7 практически идентичны. Порядок и распределение этих одиннадцати трактовок названия «ламдре» представляет определенный интерес для понимания эволюции комментариев, поскольку здесь мы можем наблюдать некоторые вариации. Результаты (за исключением «Асенгмы», которая слишком коротка, чтобы включать в нее что-то еще, кроме объяснения названия) сведены в Таблицу 6.
Таблица 6. Трактовки словосочетания «ламдре» в комментариях Сачена
|
Комментарий
|
Порядок
|
Пропущенные
|
|
Ньягма (стр. 22)
|
1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 10
|
8, 9, 11
|
|
Седонма (стр. 21-24)
|
1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 9
|
8, 11
|
|
Жучема (стр. 5-6)
|
1, 2, 3, 8, 6, 7, 9, 11, 10
|
4, 5
|
|
Лок-кьяма (стр. 195-97)
|
1, 2, 3, 10, 9, 11, 7, 6, 4, 5
|
8
|
|
Дагьелма (стр. 400-401)
|
1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 7, 9, 11
|
8
|
|
Бендема (стр. 4-5)
|
1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 7, 10, 11
|
8
|
|
Гатенгма (стр. 156-57)
|
1, 3, 4, 5, 10, 11
|
2, 6, 7, 8, 9
|
|
Юмдонма (стр. 5-6)
|
1, 2, 3, 4, 5, 10
|
6, 7, 8, 9, 11
|
|
А-ума (стр. 165-66)
|
1, 2, 3, 10, 4, 5
|
6, 7, 8, 9, 11
|
|
Денбума (стр. 298)
|
1, 2, 3, 4, 10, (?9)
|
5, 6, 7, 8, 11
|
Следует отметить, что в самих текстах комментариев их номера не указываются, хотя создается впечатление, что все эти одиннадцать трактовок входят в состав некого общепринятого списка. Кроме того, в трех комментариях фигурирует двенадцатый номер: «Наставление, в котором коренной [текст] подобен ваджрному слову (vajrapada) (rtsa ba rdo rje’i tshig lta bu’i gdams ngag). Вполне очевидно, что такое толкование является попыткой обосновать идею, что комментируемое писание является текстом, изложенным в «ваджрной манере» (хотя в самом произведении об этом ничего не говориться), и эта последняя интерпретация встречается только в вариациях «Жучемы», «Лок-кьямы» и «Дагьелмы». В целом, более короткие комментарии, как правило, содержат меньшее количество элементов данного списка, однако, это не относится к «Ньягме», хотя он и является одним из самых коротких текстов.
Вероятно, наиболее любопытным из всех комментариев является «Гатенгма», поскольку некоторые особенности этого текста позволяют предположить, что он вполне заслуженно считается первым из длинных комментариев. «Гатенгма» ссылается на предшествующих религиозных авторитетов гораздо чаще, чем любой другой комментарий, включая «Седонму», хотя последний длиннее, чем «Гатенгма». В «Гатенгме» в сравнении с другими длинными комментариями многие формулировки либо отсутствуют, либо изложены в довольно любопытной манере. Кроме того, в данном тексте в меньшей степени используется классический и в большей разговорный стиль. Возможно, что все эти особенности являются следствием того, что Сачен к моменту написания текста еще не овладел соответствующим классическим изложением, или же обусловлены разговорной манерой, в которой Жанг Гонпава излагал ему текст «Ламдре», или отражают воздействие социальной среды, в которой происходило создание «Гатенгмы». Лично я предполагаю одновременное влияние всех этих трех факторов. Наконец, содержание «Гатенгмы» указывает нам на то, что автор все еще пытается разобраться в данном материале, в то время как в других комментариях, в особенности в «Седонме», «Бендиме» и «Ньягме», уже заметна гораздо большая уверенность в изложении методов и целей.
В связи с этим Стернс (Stearns) предположил, что из-за близкой тождественности «Гатенгмы» с текстом «Ламдре», передаваемым по линии Пагмо Друпы, «Гатенгма» должна считаться работой Пагмо Друпы106. Это очень любопытный вывод, позволяющий сделать предположение, что в одно время существовало два различных текста, один из которых (Сачена), должно быть, был утерян и заменен кагьюпинской работой. Однако, более рациональной кажется гипотеза, согласно которой Пагмо Друпа, будучи одним из первых учеников Сачена, просто скопировал «Гатенгму» и включил ее в свои учебные материалы, которые ученики Пагмо Друпы, естественно, считали собственными работами своего наставника. Агиография Пагмо Друпы тринадцатого столетия наводит именно на эту мысль и позволяет предположить, что «Текстовая сокровищница Ламдре» (Lam ‘bras dpe mdzod ma) Пагмо Друпы на самом деле была дарована ему Саченом107. Подобные ошибки в определении авторства случались и ранее, особенно в отношении глубоко эзотерических текстов.
Нам известно, что аутентичность «Бендимы» не раз подвергалась сомнению. Кроме того, следует иметь в виду, что существуют определенные проблемы и с «Седонмой». Не вызывает сомнений тот факт, что он был собран как минимум из четырех больших разделов, и традиция утверждает, что многие его части были объединены и отредактированы близким учеником Сачена Геше Ньеном Пул-джунгвой, который присматривал за Сакьей после смерти Сачена108. Что касается «Ньягмы», то общее доверие к ней еще более усиливается благодаря ее полноте, и на протяжении многих лет я часто замечал, что все самые важные моменты, присутствующие в других комментариях, четко и лаконично изложены и в «Ньягме». Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что утверждения традиции касательно природы данных текстов кажутся вполне разумными, поскольку «Гатенгма» несет в себе некоторую неопределенность (вполне ожидаемую от самой первой работы), «Ньягма» демонстрирует безошибочную уверенность, а «Седонма» среди всех них выделяется наиболее глубокой детализацией. Поэтому неудивительно, что самыми популярными вплоть до нынешних времен остаются «Ньягма» и «Седонма», однако, при этом я считаю «Гатенгму» наиболее интригующим произведением, поскольку в нем отражено только еще зарождающееся постижение доктрины.
Главной целью, которую преследовал Сачен при составлении комментариев, была формализация практик, фигурирующих в тексте «Ламдре», причем как явно описанных, так и подразумеваемых. Лучшим примером его подхода к данной работе является поразительное внимание в составленных им комментариях к вроде бы безобидному высказыванию, которое, однако, приобрело чрезвычайную значимость для традиции ламдре. В «Коренном тексте *маргапхлы» в I.B.2.b. просто говорится: «Учение посредством четырех пятичастных структур пути: стадии развития и т.д.». (lam du bskyed rim stsogs lnga pa bzhis bstan). Это высказывание является ключевым для всех комментариев, поскольку полный эзотерический путь разбит на четыре пятичастные составляющие, каждой из которых соответствует свой особый вид посвящения и каждая из которых включает в себя присущее только ей описание: 1) медитативного пути, санкционированного этим посвящением; 2) отображения (понимания) реальности, раскрываемой во время данного посвящения; 3) воззрения, которое должно быть обретено при следовании медитативным путем; 4) особый опыт или медитация во время смерти для того, кто выполняет соответствующую этому посвящению практику; и 5) предполагаемый конечный плод, соответствующий указанному посвящению. В развернутом виде эта структура представлена в Таблице 7.
Таблица 7. Четыре пятичастные структуры, входящие в состав пути ламдре
|
|
Посвящение (dbang)
|
|
Сосуда
|
Тайное
|
Мудрости-знания
|
Четвертое
|
|
Путь: lam
|
Формальная система процесса зарождения
|
Практика самопосвящения процесса завершения
|
Практика мандала-чакры процесса завершения
|
Практика «ваджрной волны» процесса завершения
|
|
Понимание: lta-ba
|
Три реальности: видимость, пустота и тождественность
|
Четыре самопорожденных знания
|
Четыре «восходящих»(*) естественных состояния восторга
|
Четыре «нисходящих»(*) состояния восторга от [осознания] реальности чистоты всех феноменов
|
|
Воззрение: grub-mtha’
|
Неделимость сансары и нирваны
|
Завершение без загрязнения
|
Меньшая протяженность блаженства и пустоты
|
Большая протяженность блаженства и пустоты
|
|
Переживания при уходе из жизни: ‘da’-ka-ma
|
Переход в высшее состояние
|
Ясный свет
|
Появление в момент смерти Ваджрасаттвы(**)
|
Перенос посредством Махамадры
|
|
Плод: ‘bras-bu
|
Нирманакая
|
Самбхогакая
|
Дхармакая
|
Свабхавикакая
|
—————————————————————-
(*) Речь идет о четырех состояниях восторга, возникающих при движении семенной жидкости по центральному каналу. Здесь направления этого движение не соответствуют описанному в 5.7 Содержание «Коренного текста *маргапхалы» . Там для «мандала-чакры» оно указывается как нисходящее (от родничка к пупку), а для «ваджрной/алмазной волны» – как восходящее (от пупка к родничку) – прим. shus.
(**) Ваджрадхары? – прим. shus.
—————————————————————-
Эта таблица демонстрирует нам ту значимость, которую наставники ламдре придавали целостной системе церемоний посвящения (abhiseka), поскольку с ее помощью упорядочивались все другие практики и процедуры посредством установления связей с тем или иным посвящением. Хотя большинство эзотерических систем также уделяют большое внимание надлежащему посвящению, в них оно представляет собой проверку зрелости (smin) их последователей, предшествующую той реальной деятельности на эзотерическом пути, которая собственно и является процессом освобождения (sgrol). Авторы ламдре, безусловно, признают этот порядок, но они настолько расширяют его применение, что их система, похоже, попросту не имеет аналогов. По крайней мере, я не знаю ни одной другой эзотерической системы, которая бы так тщательно организовала все свои практики в соответствии со структурами посвящений. Посвящения не только принимаются при вступлении на эзотерический путь, но и ежедневно визуализируются в ходе соответствующей практики. При этом плоды пути воспринимаются как следствие плодотворности посвящения, и таким образом посвящение становится центральной метафорой этой системы.
Это грандиозная систематизация двадцати различных категорий, иногда расширяемая до двадцати четырех с добавлением переживаний в промежуточном состоянии (antarabhava), наглядно иллюстрирует самые важные аспекты данной традиции109. Не вызывает сомнений, что одной из наиболее отличительных черт системы ламдре является ее постоянная нацеленность как на повышение сложности, так и на придание особой секретности. По этой причине лишь вкратце аннотированные в ранних источниках системы медитации в более поздней период школы сакьяпа стали темами объемных трактатов. Данная траектория, направленная не только на повышение сложности, но и на придание всему этому достаточной ясности, необходимой для постижения такой сложности (ведь система должна быть понята простыми смертными, которым еще только предстоит обрести сверхъестественные способности), столкнулась с труднопреодолимой неясностью «Коренного текста *маргапхалы».
Вследствие всего этого, начиная с пятнадцатого столетия, материал данного раздела (I.B.2.b), трактовке которого уже отводилась основная часть текста во всех комментариях к базовому писанию (он занимает большую часть относящегося к I.B. объема в комментариях, представленных в Приложении 3), стал основой для составления нового цикла наставлений по обучению и изучению эзотерической традиции. Эти новые руководства опирались на идею тройственной непрерывности основы, пути и плода из I.B., которая уже стимулировала создание таких выдающихся трактатов, как «Украшенное драгоценностями дерево для практики тантры» Дракпы Гьелцена (rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i ljon shing), и опирались в своих разделах описания пути на схему, состоящую из двадцати элементов, т.е. ту, что представлена в Таблице 7. Последствий возникновения этого нового литературного направления было два. Во-первых, наставники ламдре, похоже, отказался от практики использования в качестве учебного средства для базового обучения и преподавания эзотерической практике комментариев к довольно хаотичному «Коренному тексту *маргапхалы», отдав предпочтение новым, более простым руководствам по двадцати элементам, систематизированным в соответствии с четырьмя посвящениями. Во-вторых, ученые стали делать упор на написание работ, посвященных либо тройственной непрерывности, либо конкретным проблемам пути, и в целом избегали создания новых комментариев к «Коренному тексту *маргапхалы». В конце концов, и сам текст, и более ранние комментарии к «Коренному тексту *маргапхалы» стали приобретать статус terra incognita, и Кхьенце Вангчук отмечал, что к шестнадцатому столетия в качестве основы для ритуалов использовались только «Ньягма», «Асенгма» и «Седонма»110. Аналогичное заявление сделал и Аме-шеп в 1621 году, добавив, что «Ньягма» был единственным текстом, который действительно изучался111.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Самым впечатляющим из произведений, посвященных жизнедеятельности Дракпы Гьелцены, является его собственная работа с записями религиозных снов под названием «Сны владыки» (rJe btsun pa’i mnal lam). В ней он подробно излагает содержание снов, которые видел в возрасте семнадцати (1164/65), восемнадцати (1165/66), девятнадцати (1166/67), тридцати шести (1183/84, после смерти Сонама Цемо), сорок восьми (1195/96), шестидесяти (1207/08) и шестидесяти шести (1213/14) лет96. Некоторые из них были аллегорическими, как например, сон в возрасте сорока восьми лет, который он считал пророчеством о себе и своих учениках. Другие были в большей степени мифическими или даже содержали доктринальные наблюдения. Ниже приводится описание первой части сна, который он видел в возрасте шестидесяти шести лет:
«[Белтон Сенге Гьелцен пишет:] Обычно, когда Джецун [Дракпа Гьелцен] видел сон, он встречался со своими учителями, чтобы прояснить различные сомнения, которые у него возникли:
В очередной раз, в возрасте шестидесяти шести лет, я увидел сон на рассвете по прошествии шестого числа девятого месяца, который является последним месяцем осени. Я встретился с Великим ламой (Саченом) и задал вопрос, и его ответ прояснил многие мои сомнения относительно пути. Затем он сказал: “Итак, что ты думаешь? Что лучше: тело наслаждения (sambhogakaya) Будды или его явленное тело (nirmanakaya)?”
Я ответил, что в основном Победоносный бык (то есть Будда) источает явленное тело на благо других, так что в действительности в эманациях Будды нет места ни добру, ни злу. Если это проявление кажется хорошим или плохим, то это просто магическое представление, а в таком случае не лучше ли тело наслаждения?”
Он ответил: “Сын, именно так! Ты понял!”»97
Далее в этом же сне Сачен появляется в окружении восьми великих бодхисатв, демонстрируя таким образом свою сущностную идентичность с Шакьямуни и восемью архатами, с одной стороны, и мандалой Хеваджры и восемью богинями, с другой, а в итоге растворяет их всех в себе. Мораль этого сна, не упущенная ни Дракпой Гьелценом, ни линией сакьяпы в целом, заключалась в том, что Сачен Кунга Ньингпо был образцовым наставником, олицетворявшим собой всю подлинно буддийскую традицию, будь то обеты шраваки, бодхисатвы или видьядхары, в совокупности являвшие собой тройственный обет (trisamvara), столь значимый для тибетского буддизма.
Один из снов, приобрел особую значимость для более поздних авторов сакьяпы и в семнадцатом столетии получил название «Самая короткая передача» (Shin tu nye brgyud)98. Как уже указывалось в Главе 8, формализация «короткой передачи» (Lam ‘bras nye brgyud) впервые произошла в середине тринадцатого столетия, по всей видимости, вследствие апокрифической переработки необычайно богатого текстового и медитативного материала, посвященного видению Вирупы Саченом. Однако видение Дракпы Гьелцена своего отца выглядело более осязаемым, поскольку стих, который, как считается, был ему передан, приводится Сакья Пандитой в агиографии своего дяди, написанной им сразу после смерти Дракпы Гьелцена в 1216 году99. Неясно, когда имело место указанное видение, поскольку в хронике Нгорпы пятнадцатого столетия говориться, что это случилось через тридцать шесть лет после смерти Сачена, то есть примерно в 1194/95 году, тогда как более поздние авторы настаивают на том, что данное событие произошло на пятьдесят пятом году жизни Дракпы Гьелцена (1202/3)100. А в агиографии Сакья Пандиты оно следует непосредственно за пророческим сном, имевшим место на тридцать шестом году жизни Дракпы Гьелцена (1183/84)101. Сакья Пандита сообщает, что Дракпа Гьелцен предстал перед своим отцом в божественных мирах, и что старый наставник сначала отпустил собравшихся там других своих учеников, а затем произнес:
«Сын, послушай меня, я собираюсь обобщить все разъяснения Дхармы, как она есть!
Настоящий мастер бодхичитты
Сначала займет свое место в абсолютной реальности,
А затем схватит в горсть элемент ветра.
Он со знанием дела порождает огненные переживания психического тепла,
Так чтобы вязкая бодхи[читта] потекла по центральному каналу,
И укротит элемент земли и другие элементы.
Столкнувшись лицом к лицу с пятью формами мистического знания,
Он обретет статус бессмертия!»102
Это краткое изложение учений на деле является частью более обширного утверждения, согласно которому кхоновская линия превосходит все другие линии передачи ламдре, поскольку в их линии духовность передается по самому короткому пути, избегая промежуточные поколения. При этом сама линия передачи с временем приобрела следующий вид: Вирупа > Сачен Кунга Ньингпо > Дракпа Гьелцен > Сакья Пандита > Пхакпа > Хубилай-хан. Поэтому неудивительно, что к концу тринадцатого столетия, когда сакьяпа уже утвердила свое первенство в политической и духовной жизни Тибета, кхоновская версия ламдре заняла господствующее положение в Центральной и Восточной Азии.
Дракпа Гьелцен умер в возрасте шестидесяти девяти лет, а до того у него была еще одна череда снов и видений, в которых предсказывалось его будущее и время его кончины. В возрасте тридцати шести лет он мечтал, что в конечном счете переродится в *Суварне – небесной сфере, расположенной на невообразимом расстоянии к северу от нашего мира – в качестве вселенского завоевателя *Гунапарьянты. Сакья Пандита пишет, что к концу жизни Дракпу Гьелцена посещали дакини и герои, которые подтверждали, что он развил духовность единства между внутренними и внешними качествами взаимозависимого происхождения в том виде, как это понимается в ламдре. Множество раз у него были такие видения, и множество раз Дракпа Гьелцен отправлял обратно небесных героев и дев, каждый раз настаивая на том, что он еще не готов перейти в чистые сферы. В конце концов, он не смог больше откладывать смерть и ушел в земли блаженства. Сакья Пандита отметил, что, хотя о его кончине возвестили духовные существа, после его смерти наступили времена несчастий. Ведь говорят, что
«… когда такое Великое существо уходит в нирвану, все накопленные им заслуги, разделенные между живыми существами, полностью истощаются. Все территории, не испытовавшие при жизни прежних людей пагубных лет, внезапно оказываются под воздействием мороза, града, сильных ветров и чудовищных дождей. Различные виды живых существ будут тяжело поражены всевозможными болезнями. Мир станет непригодным для жизни из-за социального хаоса и инфекционных заболеваний»103.
Вплоть до самой своей кончины в 1216 году Дракпа Гьелцен считался некоторыми тибетцами земной эманацией наставника пяти будд бодхисатвы Манджушри. Со смертью четвертого и последнего сына Сачена эпоха наставников-мирян в качестве глав престижных монастырей, населенных монахами, по большей части ушла в прошлое. С этого времени эталоном, на который равнялись все другие формы духовности, стал только полностью ординированный монах.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Хотя для данной книги предметной областью исследования является эпоха возрождения как единое целое, особое внимание в ней будет уделено ключевым факторам процесса создания стабильных социальных и политических институтов в целом и систем сакьяпы в частности. Так уж сложилось, но варианты эзотерического буддизма, практиковавшиеся сакьяпой, привлекают гораздо большее внимание, чем прочие не менее интересные и не менее существенные разработки. Это кажется досадным ограничением, но оно обусловлено богатством доступного материала, связанного с этой школой, а также ее энергичной деятельностью в этот период, оказавшей огромное влияние на окончательную расстановку политико-религиозных сил Тибета. Такой акцент особенно актуален в части ее доктринальной системы, которую изучал сам Хубилай после своего посвящения в мандалу Хеваджры в 1263 году27. Хроники этой медитативной программы, известной в Тибете как ламдре или «путь и его плод», являются предметом исследования монографии Сайруса Стернса (Cyrus Stearns). Однако, его научная работа использует методологию, основанную в первую очередь на подходах самой традиции28. Поэтому такие неотъемлемые атрибуты критической историографии, как социальные факторы, идеологические императивы и сопутствующие им религиозные рамки, по-прежнему нуждаются в более внимательном рассмотрении29.
Ламдре, которое иногда называют «жемчужиной» тантрической практики сакья, якобы появилось в Тибете в 1040-х годах благодаря усилиями одного из наиболее эксцентричных персонажей в истории индийского буддизма Каястхи Гаядхары. Считается, что в Тибете Гаядхара встретил высокообразованного, но вместе с тем алчного Дрокми-лоцаву, с которым в течение пяти плодотворных лет работал над различными переводами. К сожалению, есть некоторые сомнения в репутации Гаядхары, и поэтому следует провести исследование на предмет возможных индийских предшественников ламдре, а всю систему поместить в контекст взаимодействия между тибетскими представителями религиозных кругов и их соседями. В данной книге утверждается, что ламдре превратилось в намного большее в сравнении с тем, что, как считается, создал Гаядхара. Ламдре – это не просто последовательность сложных внутренних йогических медитаций, оно также превратилось в символ растущей силы и авторитета клана Кхон на юге Центрального Тибета. Наряду с другими эзотерическими традициями, используемыми в сакья, ламдре воплотило претензии Кхон на уникальность и позволили Кхонам утвердиться в качестве одного из самых значимых носителей аристократической культуры этого средневекового домонгольского периода.
Данная книга состоит из девяти глав и заключения. В Главе 1 исследуются истоки индийского эзотерического буддизма девятого и десятого столетий. В ней на основе моей предыдущей работы*, посвященной этому периоду30, обобщаются социально-политические и религиозные условия раннесредневековой Индии и рассматриваются тантрические разработки тех времен. В этой главе также представлены ранние версии легенд об индийских сиддхах Наропе и Вирупе, поскольку для тибетцев эпохи возрождения они являлись двумя самыми важными сиддхами.
——————————————————————-
* См. перевод указанной книги на русский язык «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»
——————————————————————-
В главе 2 рассматривается политическая и социальная обстановка, сложившаяся в Тибете в связи падением монархической династии правителей Ярлунга, а также положение Ралпачана, его убийство и узурпация престола его братьями. Затем в главе описывается крах империи из-за спора о престолонаследии между уцелевшими фракциями наследных принцев и его последствия для государственных структур Тибета и клановой системы. Довольно подробно обсуждаются сползание Тибета к социальному беспорядку и три восстания, а также ситуация с религией в том виде, какой она выглядела в конце мрачных времен периода раздробленности.
В Главе 3 рассматривается возрождение буддизма в Центральном Тибете в конце десятого и начале одиннадцатого столетий. Мы исследуем необычайную активность первых «людей У-Цанга» для того, чтобы показать, что рост сети храмов Центрального Тибета стал важной предпосылкой для перехода к эпохе великих переводчиков. В данной главе особое внимание уделяется этой сети и исследуются конфликты между ее монахами и бенде (bende) вкупе с другими квазимонахами. Кроме того, мы обсуждаем здесь ожидаемое распространение кадампы, чей знаменитый основатель Атиша прибыл в Центральный Тибет только около 1046 года, т.е. через много десятилетий после начала восстановления монашеского буддизма со стороны китайско-тибетской границы.
В главе 4 основное внимание сосредоточено на поздних переводчиках, а также рассматривается их положение в качестве посредников между Тибетом и Южной Азией. При этом мы исследуем мотивы и методы перевода индийцев, использовавшиеся ими в процессе создания текстов в Тибете. Также анализируется легитимность линий передачи переводчиков, главным образом с использованием классического примера агиографической истории с выдуманными наследниками Марпы. Здесь же обсуждается противостояние переводчиков и представителей старых имперских династических религиозных систем (к тому времени уже называемых «древними» [ньингма]). Наконец, мы показываем, насколько личности и группы одиннадцатого столетия были очарованы зарождающимся культом образованности и мистического знания.
Глава 5 обращается к фигуре Дрокми, одного из первых эзотерических переводчиков Центрального Тибета и весьма неординарной личности. Мы анализируем его путешествия в Непал и Индию, а также его встречу с Гаядхарой, эксцентричным и несколько сомнительным бенгальским святым подвижником. В данном случае мы изучаем деятельность Дрокми, основываясь на переводе и анализе самой ранней из посвященных ему работ за авторством Дракпы Гьелцена (1148–1216). Здесь же обсуждаются сообщество Дрокми в пещерной обители Мугулунга, предыстория Гаядхары и литературное наследие Дрокми, а также резюмируется коренной текст ламдре и «восемь вспомогательных циклов практики». Наконец, мы исследуем переводческое творчество Дрокми, в том числе решения и направления, которым он следовал при выборе текстов из эзотерического архива для перевода их на тибетский язык.
Глава 6 посвящена ответу ньингмы на новую социально-религиозную ситуацию: идеологии «текстов-сокровищ» (terma). В этой главе исследуются ранние текстовые подтверждения того, что в прежние времена слово «сокровище» применялось только в отношении драгоценных артефактов, обнаруженных в руинах храмов древней империи. Далее мы рассматриваем положение тибетских императоров, их династическое наследие, значимость старых храмов, духов-хранителей и развивающуюся культуру создания священных писаний в Тибете. После этого мы анализируем защиту своих взглядов ньингмой (как «священного слова» (bka ma), так и «текстов-сокровищ») как ответ на вызов переводчиков и неоконсерваторов. Глава завершается обсуждением ньингмапинского «осознавания» (rig pa) как важного вклада в тибетские религиозные доктрины, противопоставляющего себя гностическому акценту новых переводов.
Глава 7 перемещает нас в конец одиннадцатого столетия, когда тибетцы начали систематизировать и приводить в порядок результаты своих вековых усилий. Здесь мы представляем популярные религиозные идеи кадампы и кагьюпы, а также новые интеллектуальные достижения в области буддийской философии и тантрической теории. В качестве классического примера индийской религиозной изменчивости предлагается рассмотреть Падампу Сангье и его миссию в провинцию Цанг. Клан Кхон описывается как парадигматический пример клановой религиозной формации, начиная с его мифологического зарождения в результате нисхождения божеств, реального положения в ранней империи и вплоть до историй клана Кхон в период фрагментации. Мы рассмотрим первую реальную личность этого клана, Кхона Кончока Гьелпо, и в том числе его обучение с Дрокми и другими персонами, а также основание им монастыря Сакья.
В Главе 8 отправная точка сдвигается на начало двенадцатого столетия. В ней обсуждается обретение Центральным Тибетом религиозной уверенности, а также институционализация религиозных систем. В этой связи здесь рассматриваются причины нарастающего признания Калачакры, а также доктринальные разработки на основе махаянской философии Чапы Чоки Сенге, временный расцвет женской практики чо и тантрическая идеология Гампопы. Конец главы посвящен первому из пяти великих наставников сакьи Сачену Кунге Ньингпо: его ранней жизни и его будущим литературным успехам. Он трудился под руководством очень значимой, но малоизученной фигуры, Бари-лоцавы, и поэтому здесь описываются обучение Бари индийским ритуалам и его вклад в создание сакьи. Также довольно подробно рассказывается о литературной деятельности Сачена, особенно в том, что касается ламдре. Глава завершается анализом «короткой передачи», которая, как считается, была дарована Сачену Кунге Ньингпо сиддхой Вирупой.
В Главе 9 рассматривается вторая половина двенадцатого – начало тринадцатого столетий. Глава начинается с описания одновременного ощущения и кризиса, и наличия благоприятных возможностей, которое испытывали в те времена обитатели Центрального Тибета. Здесь мы обсуждаем преемников Гампопы, особенно ламу Жанга, первого Кармапу, а таже Пагмо Другпу, и исследуем проблемное поведение «безумных святых», в частности традиций шидже (zhi-byed) и чо. Кроме того в данной главе также анализируется все возрастающее чувство интернационализации, связанное с притоком в Тибет тангутов и индийцев. Большая часть главы посвящена описанию жизни и успехов двух сыновей Сачена: Сонама Цемо и Дракпы Гьелцена. Деятельность Пакпы среди монголов (как, впрочем, и любая последующая деятельность сакьи) вряд ли была бы возможна без их содействия. История этих двух, сильно отличающихся друг от друга по темпераменту братьев, относится к периоду с середины двенадцатого по начало тринадцатого веков.
Наконец, Заключение резюмирует образ действий индийского эзотеризма как катализатора возрождения культуры и институциональной жизни Центрального Тибета, хотя порой он даже препятствовал политическому объединению Тибета.
Эта работа завершается тремя приложениями: перечнем возможных храмов Восточной винаи, переводом и редакцией главной эзотерической работы традиции ламдре и таблицей соответствия ранних комментариев ламдре, сохранившихся к четырнадцатому веку.
Читатель может задаться вопросом, почему книга избегает прямого обсуждения двух исторических персон, с которых я начал это Введение: Сакья Пандиты и Пакпы, четвертого и пятого из «Пяти великих» школы сакья. Я сделал это по двум причинам. Во-первых, письменные работы Сакья Пандиты (в отличие от его миссионерской деятельности) почти всецело посвящены другой стороне тибетского буддизма: схоластике и ее неоконсервативным представлениям, касающимся роли монашеского буддизма. Данный материал исследовался и продолжает исследоваться теми, кто лучше меня подготовлен в части изложения основных вопросов жизни и деятельности этой персоны, стоявшей у истоков тибетской интеллектуальной истории. Однако, не вызывает сомнений, что для монголов особую значимость имела только эзотерическая составляющая тибетского буддизма. Кроме того, именно она стала причиной борьбы между кланами и социальными группами Центрального Тибета одиннадцатого и двенадцатого столетий, а также вполне очевидного влечения тангутов к тибетскому буддизму. Дядей Сакья Пандиты и главным наставником сакьяпинской эзотерической системы был Дракпа Гьелцен, который умер всего за двадцать восемь лет до того, как монголы вмешались в жизнь его ученого племянника. Учитывая незначительность этого хронологического периода, можно смело предположить, что за это время эзотерические аспекты системы сакья мало в чем изменились. Кроме того, хотя Пакпа следовал главным образом эзотеризму (подобно своим двоюродным дедушкам и в отличие от родного дяди), все же большую часть своей жизни он провел в окружении монгольского двора, и его деятельность лучше всего исследовать именно в этом контексте. Также вполне очевидно, что характер эзотерического буддизма во времена тибетского возрождения и центральное положение кланов в этот выдающийся период требуют более подробных разъяснений, и поэтому я решил сосредоточить свое внимание именно на этих вопросах.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Глядя на эту раздробленную политическую и культурную среду, мы должны задаться вопросом: почему начало возрождения буддизма во второй половине десятого столетия все-таки воспринималось жителями Центрального Тибета как нечто желанное. Похоже, что поддержка ими буддизма во многом была связана с тем, как тибетцы воспринимали империю, с их ощущениями, связанными с ее утратой и наступившей затем деградацией тибетской жизни. В свое время буддистские наставники без колебаний связали себя с имперским домом, что придало международный престиж монаршим усилиям по объединению страны. Строительство империи стало продолжением «магического» эффекта буддизма и в целом оказало благоприятное внутреннее воздействие на ранний Тибет, особенно в те времена, когда империя была еще сильна. Для тех, у кого к десятому столетию остались лишь физические и духовные реликвии буддистских храмов и осколки имперского дома, разбросанные по разным местам, империя в период своего расцвета была подтверждением единства светской власти и духовности, воплощенного в фигуре бодхисатвы/правителя. Высказывание Ургьена Лингпы в его «Документированных заветах правителя» (rGyal po bka’i thang yig) четырнадцатого столетия очень хорошо выражает это чувство: «Есть четыре средства для добродетельной практики правителя: добротность праведной гробницы, его жилище во дворце, строительство им обители божества и возведение им должным образом рассчитанного монолита. Когда они освящены, собираются жители его тысячного округа»51.
Таким образом, воплощением монаршего владычества являлись гробницы, дворцы, храмы и монолиты. Однако, Осунг был последним из правителей, похороненным в гробнице императорского некрополя в Чонгье. Только правители Гуге в Западном Тибете возродили традицию возведения имперских монолитов, хотя, как минимум, одна поздняя имитация имперской формы была воздвигнута и в Центральном Тибете52. Однако, остатки множества небольших храмов, все еще возвышавшихся в населенных пунктах «четырех рогов» Тибета и по всему северо-востоку, безусловно, напоминали уцелевшим членам имперского дома в Центральном и Западном Тибете, что величие завоеваний, престижность китайских императорских невест, а также изобилие, обеспечиваемое данниками Центральной, Южной и Восточной Азии, было тесно связано с поддержкой монашеских форм буддизма. Складывалось впечатление, что крушение империи произошло одновременно с исчезновением буддистской монашеской практики, и хотя политическое единство выглядело как нечто труднореализуемое, религиозное возрождение казалось вполне достижимой целью.
В действительности некоторые формы буддизма продолжали практиковаться, по крайней мере, среди наследственной аристократии и феодалов или при их поддержке. Также известно, что отдельные популярные направления по-прежнему продолжали развиваться на территориях их преимущественного распространения даже при сокращении аристократии. К одиннадцатому столетию системы буддизма, сохранившиеся со времен династии, получили название «ньингма» (rnying ma, старинное направление). Это определение было дано в противовес «сарме» (gsar ma, новое направление) – тантрическим и философским системам, появившимся в конце десятого столетия53. Те практики и тексты, которые, как считалось, передавались по непрерывной линии с периода «ранних переводов», получили название «кахма» (bka’ ma), т.е. «священное слово», и этот термин в конечном счете стал использоваться для того, чтобы отличать их от «терма», т.е. «текстов-сокровищ», которые были явлены во времена возрождения.
Однако, авторитетность некоторых текстов кахмы вызывала сомнения, а связанные с ними практики казались слишком тибетскими, с языком и идеями, подходящими скорее для тибетской, чем для индийской культуры. Это, безусловно, относится ко многим тантрам ньингмы, не соответствующим индийским моделям тантрической литературы. Несмотря на то, что в их названиях содержится слово «тантра», тантры ньингмы кажутся нетрадиционными и гораздо более философскими и абстрактными по содержанию, чем их индийские прототипы, которые склонны придавать особое значение ритуалам, мантрам, религиозной живописи, а также употреблению непривлекательных субстанций и лекарственных веществ54. В противовес им, во многих тантрах кахмы явно прослеживается удовольствие от использования новых философских идей и медитативных практик, кульминацией которых стали очень расплывчатые доктрины Великого совершенства (rdzogs chen). Этот термин, который в списке наставлений Девапутры одинадцатого столетия считается переводом слова «парипурна» (paripurna), обычно отождествлялся с термином «атийога», которым в некоторых иерархиях обозначают высшую йогу55. Основываясь на исконно индийской идее сотериологической стратиграфии, как минимум к концу десятого столетия авторы ньингмы сформулировали учение о девяти колесницах: шравакаяна, пратьекабуддаяна, бодхисатваяна, крияна, убха[я]яна, йогаяна, махайогаяна, ануйогаяна и атийогаяна.
То, что лежит в основе последних четырех терминов, безусловно, существовало и в Индии, но не как отдельные средства и не в таком порядке. В некоторых тантрах, в конечном счете классифицированных как махайога, набор из четырех терминов – йога, ануйога, атийога, махайога – иногда используется как маркеры конкретных визуализаций процесса зарождения. В них медитирующий участвует в процессе очищения и начальной визуализации Ваджрасаттвы (= йога); затем вызывает визуализацию основной мандалы главного божества, например, Гухьясамаджи-Акшобхьяваджры (= ану-йога); после чего завершает внешнюю визуализацию и переходит к созданию внутренней мандалы (= атийога); и, наконец, внутренняя мандала освящается мантрами и дальнейшей визуализацией (= маха-йога)56. Но если эти термины использовались подобным образом в такого рода текстах, они могли применяться в других местах и в другом порядке. Мы действительно видим, что в списке Девапутры начала одиннадцатого столетия система ньингмы (йога, махайога, ануйога, атийога) представлена как четыре аспекта йоги, но неизвестно, была ли они выстроены таким образом им самим, или же это было сделано одним из его тибетских последователей57. Как бы то ни было, в этом списке они не отождествляются с колесницами, и санскритские термины, используемые для обозначения девяти колесниц, в руках авторов ньингмы выглядят как несколько искусственные маркеры вновь созданных категорий, которые, однако, вслед за этим стали пополняться новыми тантрическими писаниями.
Ньингмапинские авторы одиннадцатого столетия указывали, что, по их мнению, в ранний период раздробленности смогли выжить семь линий передачи тантрических практик, относящихся к кахме58. От Ньяка Джнаны ведут свое происхождение практики, относящиеся к разделу «Природа ума» Великого совершенства (sems sde), в т.ч. и к «Состоянию ума» (sems phyogs), а также божество Дуци; от Падмасамбхавы – три цикла Ямантаки; от Ма Ринчена Чока – передача «Сети иллюзий вималы»; от Дрокми Пелгьи Еше – материнские практики; от Лангчунга Пелги Сенге – гухья-системы Будды класса йоги и махайоги; от Намке Ньингпо – Янгдак Хумкары; и опять же от Падмасамбхавы – вторая система Ямантаки. Большинство из них в конечном счете стали ассоциироваться с Восьмью провозглашениями (bka’ brgyad, группа из восьми божеств) и наставлениями раздела «Природа ума» Великого совершенства. Другая группа передач донесла до одиннадцатого столетия сутры и экзотерические труды.
Содержание подавляющего большинства вышеперечисленных линий передачи указывает на то, что во времена возрождения особую значимость для приверженцев ньингмы имели две ритуально-медитативные передачи. К первой относились сложные ритуалы, которые в традиции ассоциировались с божествами Ваджракилой, Янгдак Херукой и богинями Мамо – тремя группами наиболее часто упоминаемых в текстах махайоги божеств Восьми провозглашений. В этой книге часто встречаются упоминания наставников, связанных с одной или несколькими из этих практик, в частности, Сакьяпа был держателем ритуалов из первых двух. Второй было то, что относится к разделу «Природа ума» Великого совершенства (rdzogs chen sems phyogs), причем данная передача была подвергнута детальной проработке, и приобрела вид многочисленных систем с множеством наставников. К середине одиннадцатого столетия выделились три направления ее развития: система ньянг (myang lugs), система ронг (rong lugs) и система кхам (khams lugs). Все они представлены текстами, относящимися к периоду с тринадцатого по шестнадцатое столетия, более ранние работы пока не обнаружены59.
Считается, что система кхам (kham) была формализована и продвигалась Аро Еше Джунгне – одним из самых интригующих авторитетов ньингмы времен ее «темного периода»60. По словам автора «Синей летописи», действовавшая, вероятно, во второй половине десятого столетия традиция Аро объединяла в себе учение китайского чаньского наставника Хэшана Мохэяня и практики, относящиеся к Великому совершенству61. Аро также приписывается создание своего собственного «Состояния ума» (A-ro lugs), а одна из работ четырнадцатого столетия в общих чертах обрисовывает более позднее понимание его идей62. Недавнее издание самой известной работы Аро «Метод вхождения в махаянистскую йогу» (Theg pa chen po’i rnal ‘byor ‘jug pa’i thabs) несколько облегчает оценку его взглядов. Согласно жившему в четырнадцатом веке Лонгчену Чоджунгу, многие сочинения Аро разделены на шесть основных разделов: внешний, внутренний, тайный, о страданиях, о литературных категориях и наставления по воплощениям63. «Метод вхождения в махаянистскую йогу», ведущая работа внешнего раздела, представляет собой довольно краткий педагогический текст, предназначенный для обучения махаянистов, и следует образцу многих подобных буддистских работ. В четырех главах в нем в общих чертах излагается: природа страдания; его причина, заключающаяся в цеплянии за собственное я; нирвана как высшее блаженство; и ее обретение посредством реализации принципа не-я64. Мало что в этом произведении можно убедительным образом связать с северным чанем Мохэяня, хотя, вполне возможно, что другие работы могли иметь к данной традиции более непосредственное отношение. На протяжении одиннадцатого и двенадцатого веков работы Аро пользовались большим влиянием даже среди ортодоксов, а в тринадцатом столетии среди самых значимых авторов кадампы мы наблюдаем наиболее представительных авторитетов системы кахма65.
Наиболее поучительным для понимания социальной структуры династических религиозных систем является изучение имен в списках ньингмапинских линий передачи, относящихся к кахме. В большинстве этих тантрических традиций доминируют члены аристократических кланов, ранее входивших в имперскую свиту и состоявших в ней вплоть до конца правления Релпачена: Се, Дро, Ба, Ньяк, Чим, Го, Че, Чог-ро и т.д.66. Часто состав линии передачи указывает на то, что в ранний период раздробленности ламы ньингмы передавали их учения непосредственно своим сыновьям, что в конечном счете привело к тому, что отдельные линии стали идентифицировать себя используя наименования аристократических семейств. К примеру, линии держателей передачи Ваджракилы – это те, кто следует методам Чима, Нанама и т.п. А один из этих методов даже обрел полную аристократическую идентичность – цикл вселенского монарха Ваджракилы (rgyal po skor)67. Иногда мы обнаруживаем в этих линиях людей, не принадлежавших к аристократии, но это случается редко и, как правило, они обрамлены с обеих сторон наследственными членами линии, которые имели больше прав представлять фамильные интересы. Для членов императорского дома, а также и для тех, кто следовал за ними и после распада империи, буддизм во многом был религией, хранимой аристократами. Со временем они расширили общепринятые ритуалы и практики медитации, разработав новые обряды и создав новую литературу, которые в конечном счете и были классифицированы как традиция ньингма.
Разобраться в особенностях народной религии того периода гораздо сложнее. Конечно, в ее состав по-прежнему входило почитание богов полей, практикование различными классами жрецов ритуалов одержимости горными или местными божествами, сжигание подношений в виде ветвей гималайского кедра, а также консультации с местными магами (lde’u, phywa mkhan и т.п.) с целью предсказания различных событий (и это лишь часть наиболее значимых практик)68. Забота о ритуальной и общественной чистоте также была одной их первостепенных задач, поэтому верующие молили о пресечении распространения болезней подземных духов лу (klu), обитателей полей садаков (sa bdag), а также ньенов, живущих на деревьях и скалах. Вот как Кармай (Karmay) переводит один из ритуалов:
«Этим ароматом горных лесов, расположенных над нами,
Благовониями с приятным благоуханием и правильно приготовленными,
Давайте очистим тех богов, что сверху,
Давайте также очистим лу, что внизу, а также ньенов, что в середине.
Давайте очистим наши места,
Нашу одежда и предметы,
Да очистится все!»69
Точно так же обряды перехода иногда требовали перемещения личных богов, например, из одного дома в другой в случае бракосочетания или перемещения души в царство мертвых70.
Тибетские писатели идентифицировали большинство таких практик как «религию людей» (mi chos), в отличие от «религии богов» (lha chos), которая в нормативном смысле означала буддизм. Со своей стороны, религия бон иногда относилась к первому, иногда ко второму типу, а в целом старалась усидеть сразу на обоих стульях71. Большая часть того немногого, что мы знаем о бон девятого и начала десятого столетий, ограничивается ритуалами для умерших (dur bon), предсказаниями, подношениями горным духам и другими элементами, относящимися к низшим колесницам девяти путей бон72. Их постоянное участие в этих обрядах является одной из причин, по которой бон иногда классифицируют как «религию людей». Однако, принимая во внимание их одинаковый с буддизмом акцент на идеологию освобождения, маловероятно, что пять великих кланов, доминировавших в центрально-тибетской бонской идентичности (наследственные линии Шен, Дру, Жу, Па и Мейл), к концу десятого столетия не имели собственной сотериологической идеологии или традиции Великого совершенства.
На более приземленном уровне практиков «религии людей» интересовали общественные нормы и истории о духах окружающего их ландшафта. Но больше всех в этом вопросе прославился Сонгцен Гампо, провозгласивший шестнадцать правил, которые были классифицированы как «религия людей», хотя в первую очередь просто предписывали этическое поведение74. Вслед за этим вся устная литература, такая как эпосы мифических правителей, подобных Гесеру; рассказы о героях и злодеях; песни, восхваляющие божеств гор и отдельных местностей и т.п., стала трактоваться как «религия людей»75. Довольно проблематично оценить степень интегрированности подобных практик в буддизм раннего периода, т.к. наши данные об этом очень скудны. Тем не менее, к концу десятого столетия мы начинаем все сильнее ощущать распространение определенных видов буддизма в сельских общинах. Возможно, что в большей степени это было связано с декламацией буддийских текстов во время посмертных ритуалов, хотя в отдельных случаях это касалось благословения урожая и защиты от вредоносных духов.
Где-то между аристократическим и деревенским социальными уровнями существовали довольно интересные группы, пытавшиеся сохранить в Центральном Тибете отдельные фрагменты буддистского поведения. «Празднество учености» (mKhas pa’i dga’ ston) включает в себя описание, заимствованное из «Великой хроники» Кхутона, которое изображает некоторых из этих личностей:
«В те времена, поскольку многие из министров, уничтоживших Дхарму [во время подавления Дармы] посредством различных кар, сами умерли от болезней, все соглашались с тем, что это было возмездием за уничтожение Дхармы. Поэтому они устанавливали две статуи Джово на религиозных собраниях, посвященных Майтрее, и делали подношения. Затем, взяв в качестве своих собственных [аттрибутов] символы этих статуй, [эти люди] одевались в полосы ткани, завязанные “воротниками” на религиозный манер. Часть волос они сбривали, а остальные завязывали наверх, имитируя короны статуй. Затем, сказав, что они собираются провести три месяца летнего ретрита, они оставались в храмах и соблюдали пять практик мирян. Затем, сказав, что выполнили практику Винаи во время летнего ретрита, они возвращались в город и вступали в семейную жизнь. Так что в те времена там появилось много тех, кого называли “архатами с узлами волос”, и они стали служить в качестве священников для народа. В качестве услуги при смерти мужчины средних лет они декламировали сто тысяч (стихотворная версия Праджняпармиты); для мальчика они декламировали двадцать тысяч; для ребенка они декламировали восемь тысяч. Двое читателей, обретших великое прозрение76, читая некоторые комментарии, размышляли о будущем, говоря, что “этот текст с красными буквами, как кажется, резюмирует смысл; этот с черными буквами разъясняет это подробно; а этот небольшой текст исследует сомнения”. В результате их высказывания не демонстрировали особого мастерства в объяснениях. Мантрины, как правило, разъясняли медитативные системы без медитации, но в качестве примеров обращались к ритуалам бонпо, которые они практиковали. Распевая тексты [в соответствии с народными мелодиями], они старались следовать деревенским обрядам. С тех пор как распространились обряды совокупления и убийства, а также ритуалы воскрешения вампиров (vetala), имели место ритуальные убийства»77.
Наряду с теми, кто именовал себя «архатами с узлом волос» (dgra bcom gtsug phud can), были и другие подобные им люди, которые называли себя «старейшими архатами» (gnas brtan dgra bcom), «старейшинами» (gnas brtan), «монашествующими» (ban de) или же «поглощенными праведным поведением» (‘ban ‘dzi ba)78. Многие из них состояли при храмах в качестве смотрителей или привратников в течение десятилетий уже после упадка династии, но несмотря на это множество таких храмов в конечном счете было заброшено и пришло в непоправимую ветхость. По этой причине некоторые из имперских храмов девятого столетия не значатся в списке возрожденных в десятом и одиннадцатом веках (см. Приложение 1), по крайней мере, под своими названиями. Практики, которым следовали эти группы, включали в себя выполняемые время от времени монашеские ритуалы, которые чередовались у них с отпеванием умерших, харизматическими обрядами и работами в своих домохозяйствах.
Тибетские авторы того периода также обвиняют членов этих групп в моральном разложении и противозаконном поведении, причем поводов для таких заявлений у них было несколько. Во-первых, весьма заметная часть общины, сохранившейся с раннего периода (и по этой причине ныне классифицируемая как буддизм старинного направления, т.е. ньингма) была вовлечена в различные постыдные действия, и указ конца десятого столетия Лха-ламы Еше-О перечисляет оскорбительные поступки, совершаемые ими якобы во имя Дхармы79. К ним относились ритуальные убийства животных (и, как мы полагаем, возможно, что также и людей), ритуализированное потворство сексуальной активности, а также утверждения, что различные неустойчивые состояния ума приводят к созерцанию пустоты. Хотя данный указ касался группы под названием «бен-дзиба» (‘ban ‘dzi ba; поглощенные праведным поведением), эти личности зачастую были известны по всему Тибету как нгакпы (ngakpa), т.е. мантрины – термин, обозначающий определенную разновидность деревенских лам. Хотя эти люди претендовали на общепризнанное аристократическое происхождение и на уровне ритуалов были вовлечены в эзотерические практики, они были плохо знакомы с доктринальными и этическими основами буддизма. С их стороны мало кто обращался к идеологии мирской этики в качестве опоры для полного понимания учения, т.к. они считали, что этическими принципами можно полностью пренебрегать, поскольку все условности по своей природе иллюзорны.
Иногда, как в случае с неким Лу Каргьелом (Звездный правитель), в зависимости от требований момента они могли поочередно выступать то в роли бонпо, то буддистов80. «Колонный завет» (bK a”chems ka khol ma) содержит сокрушительную критику нгакпов, не имеющих посвящений (abhiseka), но дарующих их другим; вводящих в заблуждение людей распеванием мантр, как если бы они были песнями; и предлагающих сексуальные отношения во время ритуалов абхишеки за плату (на самом деле, просто одна из форм ритуализованной проституции)81. Те, кто заявляли о своей сверхъестественной проницательности, устраивали ритуальный забой скота, а толпы верующих следовали за самозваными учителями, действовавшими вопреки всем основным положениям буддийского учения. В такой обстановке любой несущий бред шизофреник мог претендовать на звание полностью просветленного сиддхи даже тогда, когда он во имя освобождения отрезал голову еще одному несчастному животному (кстати, подобные ритуалы до сих пор можно наблюдать в некоторых гималайских буддистских сообществах)82.
В конце десятого – начале одиннадцатого столетий религиозные полемисты, позиция которых раскрыта в предыдущих абзацах, вполне определенно считали, что крах династии привел к неожиданному расцвету противозаконных практик. Иногда их представляли как результат «неправильного понимания» эзотерических писаний, т.е. принимающими тантрические антиномианистские заявления слишком буквально, хотя до них именно так и поступали некоторые индийцы. С другой стороны, тибетские буддисты иногда заимствовали местные обычаи, практически игнорируя нормативный надзор над такими инициативами, который еще в недавнем прошлом с успехом демонстрировали индийские буддисты. В результате возникло всеобщее ощущение неконтролируемости религиозной традиции, когда монашеская одежда и внешние атрибуты вроде бы и сохранялись, но фактическое поведение тибетских монахов постепенно адаптировалось как к тибетским деревенским обрядам кровавых жертвоприношений горным божеством, так и к общей атмосфере сексуальной распущенности, которая, как отмечалось, была характерна для тибетцев.
Похоже, что фрагментация власти особым образом способствовала буддистским миссионерским устремлениям, т.к. в результате нее монархическая идеология и система придворных ценностей распространились и закрепились в феодальных владениях. По мере дробления лхасского двора и перехода власти к региональным центрам основное население и аристократические кланы начали получать доступ к системным принадлежностям имперской династии: искусству, ритуалам, устной литературе, методам сохранения документов, изящным ремеслам и т.п. Наряду с этим также должен был быть заимствован (а в конечном счете и признан общественным консенсусом) и образ правителя, поддерживающего индийскую религию. Следствием всего этого стала тибетизация литературного творчества, которая сопровождалась развитием обширной по содержанию и растущей в объеме эзотерической литературы, принадлежащей перу региональных аристократов – носителей буддистской эзотерической традиции (эта литература будет рассмотрена в последующих главах)83. Доводы в пользу повсеместной доместикации буддизма могут выглядеть еще более весомо, если принять во внимание тот факт, что для его развития была необходима самая широкая общественная поддержка, такая как, например, при сооружении в кратчайшие сроки невероятного количества небольших храмов, построенных в конце десятого и начале одиннадцатого столетий благодаря миссионерской деятельности монахов Восточной Винаи
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
С точки зрения здравого смысла более поздние редакционные усилия по созданию искусственных линий передачи кажутся весьма любопытными, но потенциально контрпродуктивными. Но, как это видно на примере кагьюпы, на самом деле они оказались достаточно эффективными, поскольку, несмотря на очевидные доказательства, тибетцы были настолько увлечены новыми переводчиками, что в конце концов попросту перестали обращать внимание на утверждения оппонентов. В действительности, готовность жителей Центрального Тибета предоставлять полный карт-бланш своим переводчикам в конечном счете привела к драматическому переопределению самого понятия «подлинный буддийский текст». В период имперских династий великое собрание, созванное Триде Сонгценом, пыталось установить единую политику если не для всех переводов, то хотя бы для тех, что финансировались империей. Эзотерическая литература была первой в списке запутанных проблем, и в данном случае дискуссия сводилась к тому, что поскольку такая литература является эзотерической по своей сути, то к ней нельзя допускать непосвященных, т.к. это противоречит самим текстам. Соответственно, разрешалось переводить только определенные работы98. Кроме того, данная дискуссия основывалась на предпосылке, что эзотерическая литература некогда была обнаружена в форме физических текстов, содержащих произнесенное Буддой. При этом тексты тантр сами по себе были наиболее эзотерическими, наиболее проблематичными и поэтому наиболее тщательно оберегаемыми от посторонних.
Все эти исходные предпосылки перестали быть догмой в период «новых переводов». Возможно, лучшими примерами системного ниспровержения данных категорий являлись эзотерические медитативные наставления (upadesa; gdams ngag), которые, как считалось, были явлены дакини мистического знания (одной из разновидностей дакини, часто встречавшейся в (мифической) стране Одияна), а затем переданы ими сиддху, принесшему эти наставления в Тибет99. В одиннадцатом столетии такие наставления функционально вытеснили собственно тантрические писания и приобрели неоспоримый авторитет, хотя даже и не претендовали на статус «слова Будды». Вполне очевидно, что текст ламдре, обсуждаемый в следующей главе, относился именно к этому типу писаний. Миф о Вирупе представляет это произведение как формальный текст, переданный богиней Найратмьей Вирупе, затем от него Канхе и далее по линии передачи к Гаядхаре, который в конечном счете доставил его в Тибет в виде устного текста. Другие эзотерические труды, «переведенные» на тибетский язык, выглядели еще менее аутентично. Многие из них попадали в Тибет не как реальные тексты, а как результат прозрения, озарившего сиддху, который затем отправлялся в Тибет и излагал свои видения в формализованном виде местному переводчику для представления их на тибетском языке. Такого рода произведения мало в чем соответствовали нормативным требованиям, предъявляемым к индийским текстам, которые должны были являться работами, признанными в Индии, написанными на индийском языке, используемыми в индийских центрах буддистской практики, а затем доставленными в Тибет для того, чтобы по ним можно было практиковать на «крыше мира». В отношении многих из этих «текстов» мы действительно не располагаем доказательствами их присутствия на территории Индии. Однако, со временем они настолько превзошли в своей популярности другие эзотерические учения, что их распространение стало приносить огромные доходы. Воспользовавшись этим, Дрокми (хотя и не только он) пытался установить монополию на этом рынке, активно продвигая обучение ламдре и ряду других работ.
Я бы назвал эти тексты «серыми», поскольку из-за своих особенностей они не могут быть отнесены ни к индийским, ни к тибетским100. В отличие от некоторых явно апокрифических произведений, созданных в десятом и одиннадцатом столетиях во времена раздробленности и использовавшихся в традиции ньингма, на квазиапокрифы периода «новых переводов» нельзя сходу ставить клеймо чисто тибетских сочинений. На самом деле, они, по всей видимости, появлялись на свет в результате сотрудничества индийского/непальского/кашмирского сиддхи/ученого с тибетцем, отлично владеющим индийскими языками. Если это так, то «серые» тексты создавались с учетом заранее сформулированных пожеланий конкретного индийского йогина и отдельного тибетца, при этом посредством такого «перевода» каждый из них в полной мере удовлетворял свои религиозные потребности. Кроме того, похоже, что эти «тексты» в исходном виде выглядели как набор тематических вопросов в уме южно-азиатского пандита и начинали обретать свою форму только после пересечения им последнего перед заветной целью высокогорного перевала на Тибетском плато.
Однако, данные тексты, не являются просто подделкой, созданной для личной выгоды или в целях самовозвеличивания, хотя порой в них и прослеживаются такие намерения. Скорее, они представляют собой результат непрерывного развития буддийской эзотерической традиции, происходившего в другой социогеографической среде, но явно в едином континууме с процессом создания тантр и эзотерических учебных работ в самой Индии. В то время как тантры возникли вследствие воздействия на нормативную индийскую буддистскую традицию ряда региональных факторов (в т.ч. культур внекастовых, племенных и прочих этнических и социальных групп), эти «серые» тексты представляют собой результат взаимодействия той же самой традиции с культурой нового для нее региона – Тибета. Таким образом, они апокрифичны в том смысле, что не являются тем, за что себя выдают. Однако, в этом случае очень немногие индийские буддистские священные тексты и прочие сочинения могут с уверенностью считаться тем, чем их представляет традиция. И наоборот, эти новые работы аутентичны в том смысле, что они наглядно демонстрируют как выглядит процесс непрерывного созидания с опорой на буддийское прозрение в координатах места и времени.
Прекрасными примерами «серых» текстов являются работы, созданные совместными усилиями Падампы Сангье Камалашилы и Жамы Чокьи Гьелпо во второй половине одиннадцатого и начале двенадцатого столетий. Это очень удачный выбор по двум причинам. Во-первых, их достаточно много. Жама-лоцава перевел большое количество связанной с сиддхами литературы, в которых учения и личности сиддхов выглядят весьма любопытно или явно отличаются от известных индийских моделей. Во-вторых, переводы Жамы использовались в линиях передачи жиче (шидже), которые на некоторое время привлекли к себе всеобщее внимание, но не оказали значительного влияния на другие традиции. Его сестра Жама Мачик стала заметной фигурой в истории ламдре, олицетворяя собой те возможности, которые иногда открывались перед тибетскими женщинами, и которых в отличие от них не имели индийские женщины. Тем не менее, традиция ламдре Жамы не была институционализирована так, как это сделал со своей стороны клан Кхон, поэтому к шестнадцатому столетию от нее осталось только упоминание в истории ламдре. Как и его сестра, Жама-лоцава не смог создать долгоживущую систему практик, основанную на учениях, полученных от загадочного индийского учителя. Причем в стандартных агиографиях Падампы Сангье Жаме-лоцаве отведена весьма малозначительная роль101. Из этого следует, что по какой-то причине не было приложено усилий по переориентации его агиографического материала, редактированию его колофонов, а также реализации остальной части необходимой институциональной процедуры подобной той, которую можно наблюдать в случае обоснования мнимых отношений между Наропой и Марпой.
Жама-лоцава перевел пятнадцать эзотерических наставлений и агиографий, включенных в канон единой группой (К. 2439-53), и кроме того другие его работы представлены во внеканоническом собрании102. Ни один из его текстов не является длинным, но почти то же самое можно сказать и о множестве работ, сыгравших важную роль в формировании тибетской эзотерической традиции одиннадцатого – двенадцатого столетий. Однако, наибольший интерес представляют содержащиеся в многих из них утверждения, согласно которым эти тексты были извлечены Падампой непосредственно из Тайной сокровищницы дакини (dakini-guhyakosa; mkha’ ‘gro gsang mdzod) и переданы Жаме-лоцаве, который перевел их как есть. Так, например, выглядит колофон к «Шри-Ваджрадакинигите»:103
«Знак дакини в пяти частях. На собрании с участием Предводительницы стихии он был передан Владыке Дампе, индийцу, из его местопребывания в виде рулона бумаги в Тайной сокровищнице. Впоследствии один из присутствовавших в Дингри, Жама-лоцава, перевел его и доверил бодхисатве Кунге. Это завершение четырехчастных знаков из прославленных восьми великих песен».
Сами системы жиче (шидже) и чо Падампы будут представлены в последующих главах, а здесь мы рассматриваем связь пандита и лоцавы в несколько ином ракурсе. Многие из характерных особенностей этих описаний: рулон бумаги, извлеченный из скрытой сокровищницы; тайный страж; избранный открыватель уже готового текста (а не записывающий его своими руками), как кажется, находятся в континууме с современным феноменом тибетской традиции обнаружения «текстов-сокровищ». Кроме того, в текстах Жамы можно обнаружить и не совсем обычные утверждения. К примеру, в одной из его работ приводится расширенный перечень сиддхов, состоящий из 381 персоны. Похоже, что это единственный текст, в котором список сиддхов включает в себя более восьмидесяти пяти имен104.
Основываясь на этих и других примерах, мы должны задаться вопросом: можно ли все это назвать созданием религиозных материалов, подражающих индийским образцам, при участии некоторых деятелей периода «новых переводов» (подобно тому, как это явно делалось в более ранней системе ньингмы). Хотя ни один их таких текстов не имеет безусловных признаков, по которым его можно было бы отнести к апокрифам сармы, в совокупности все они представляли собой достаточно нетрадиционный подход к установлению аутентичности. На самом деле десятки новых материалов для перевода могли быть просто продуктом индийско-тибетского сотрудничества, включая некоторые из самых известных тайных учений, переданных тибетским переводчикам индийскими эзотерическими наставниками. Тем не менее, они, по всей видимости, были доверчиво приняты их первоначальными распространителями, хотя с их первичными источниками порой не было полной ясности, а иногда они даже и оспаривался. Творческий процесс перевода здесь находился в тесном взаимодействии с творческим процессом религиозного вдохновения и воображения. Поэтому неудивительно, что появление в этот период такого огромного объема эзотерических материалов вызвало ответную реакцию по многим направлениям.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Эзотерическая буддийская трансформация У-Цанга, начатая Цаланой Еше Гьелценом и продолженная Гаядхарой и Дрокми, происходила в соответствии с принципом, согласно которому отдельные личности, считающие себя вправе нарушать общепринятые нормы общественного договора, также способны устанавливать и новые интеллектуальные и духовные стандарты социального поведения, распространяя их не только на себя, но и на окружающих их людей. Все известные нам персонажи одиннадцатого столетия обладали весьма непростыми характерами, однако лишь немногие из них достигли истинной или сомнительной славы Дрокми и Гаядхары. Иногда казалось, что они специализируются на нападках на общепризнанную мудрость своих культур, опираясь при этом на интеллектуальное превосходство, этическую двусмысленность и социальные амбиции. Похоже, что ни один из них не проявлял особого беспокойства по поводу негативного воздействия такого поведения на социальные структуры буддистской Индии или еще только возрождающегося Центрального Тибета. А сочетание образов алчного тибетца и эгоцентричного индийца на первый взгляд могло казаться предвестником очередной социальной катастрофы. Однако, общественное признание достижений Дрокми и Гаядхары опровергает эту оценку, и только подтверждает тот факт, что возвышенные цели литературного перевода гораздо шире рамок парадигмы саморекламы. Следует отметить, что ни один из них не продвигал себя в качестве автора, хотя оба они были признанными религиозными авторитетами. Все более чем шестьдесят работ Дрокми демонстрируют тщательность перевода, а также особое внимание к деталям, поэтому не может быть и речи о том, что их автор был озабочен только своими собственными проблемами. Всем известно, что его тяга к обогащению не знала границ, однако, это не мешало ему много и плодотворно работать на благо своей традиции. Хотя он всегда отбирал для дальнейшего обучения только нескольких самых выдающихся учеников, что противоречит современной тибетской практике, этот подход в полной мере соответствовал индийским нормам эзотерического обучения. Кроме того, он вполне оправдан с педагогической точки зрения, поскольку тексты, которые они изучали, были (и продолжают оставаться) сложными в построении, трудными для понимания и к тому же насыщенными малопонятной терминологией. Пожалуй, лучшей оценкой эффективности Дрокми является тот факт, что многие их тех, с кем он работал (как индийцы, так и тибетцы), приобрели широкую известность в качестве знатоков соответствующих тантрических систем, а также стали знаменитыми учеными и святыми подвижниками, чей вклад в возрождение тибетской классической культуры не теряет своей значимости и по сей день.
Тем не менее, нам следует признать, что на начальном этапе тибетский ренессанс имел довольно шаткую основу. Дрокми, Гаядхара, Го-лоцава Кхукпа Лхеце, Марпа, Ратнаваджра, Ачарья Марпо, а также многие другие, посещавшие анклав Дрокми или же как-то связанные с ним, время от времени подвергались яростным нападкам в тибетской критической литературе за свои многочисленные и разнообразные прегрешения, лежащие в диапазоне от сексуальной распущенности до одержимости убийствами. Но, несмотря на то, что их портреты могли бы претендовать на самое почетное место в галерее негодяев Центрального Тибета одиннадцатого столетия, они в равной степени были достойны столь же высокого положения при размещении их образов в центрально-азиатском зале героев тех же времен. Все они рисковали своими жизнями и репутациями, пересекая самый высокий горный хребет в мире. Они селились в пещерах и долинах с нездоровым климатом, наблюдая, как вокруг них умирают их соотечественники, не выдержавшие всех этих испытаний. И все это ради того, чтобы перевести выдающиеся мысли одной хрупкой и умирающей буддийской субкультуры на своеобразной язык другой, пока еще находившейся в стадии неуверенного возрождения. Если их поведение нам кажется неприемлемым с точки зрения наших моральных убеждений, то мы должны в первую очередь ответить на простой вопрос: а способны ли мы ради лингвистических и литературных достижений пойти на такое отчаянное интеллектуальное и духовное предприятие. Неудивительно, что следующее поколение тибетцев будет рассматривать этот интеллектуальный прорыв как нечто недостижимое. Однако, при этом они достаточно быстро поймут, что единственное, в чем они могут превзойти этих людей, так это в соблюдении морально-этических норм.
Их переводы на тибетский литературный язык отражали как точное содержание, так и структуру исходных индийских произведений, поэтому для более поздних тибетских ученых они являлись образцовой моделью формализации тайных знаний. А появление этих индийских работ на Тибете стало одним из важнейших факторов возрождения тибетской цивилизации. Однако, как это ни парадоксально звучит, их творчество, за редким исключением, не получило дальнейшего развития, и со временем они превратились в некое подобие текстовых икон тибетской культуры. В этой связи следует отметить, что великие переводчики, жаждавшие обладать монополией на переведенные ими произведения, не стремились институционализировать наставления по изучению языка этих «икон», в том числе и для того, чтобы избежать риска обсуждения выдуманных названий якобы индийских произведений. Более того, отсутствие в Тибете жесткого курса на изучение санскрита означало, что доктринальные споры можно было разрешать даже не обладая навыками вынесения суждений на основании обязательной в таких случаях кросс-культурной лингвистической и текстуальной оценки. Возможно, величайшая ирония этого периода заключается в том, что создание и принятие на веру массы «серой» и апокрифической литературы стало возможным лишь потому, что на Тибете не существовало действующих стандартов лингвистического анализа, поддерживаемых издательской деятельностью и институционализированых на базе учебных заведений. В отсутствии доступных лексических и письменных ресурсов кланы начали создавать свои собственные тексты, отражавшие их новое видение тибетской религии, которые в этих условиях обладали тем же авторитетом, что и переводы индийских работ. Кроме того, эти новые тексты были доступны и понятны всем категориям тибетского общества, поскольку излагались на знакомом им языке и воплощали в себе символическую систему, имевшую особую значимость для всей тибетской цивилизации.
The root text of the *margaphala: translation and edition of the lam ‘bras bu dang bcas pa’i gdams ngag dang man ngag tu bcas pa
The Instructions on the Path, Together with Its Fruity Along with Technical Directions
Homage to the l otus feet of the holy teacher! I should now note the succinct expression of the “Path & Fruit”
[The Extensive Path]
I. [Teaching the Path Common to Both Existence and Nirvana.]
A. [The path taught as the triple appearance.]1
1. Sentient beings perceive impure appearance based on their defilements.
2. Yogins perceive the appearance of meditative experiences based on their concentration.
3. Sugatas perceive pure appearance based on the ornamental circle of their inexhaustible body, speech, and mind.
I. B. [ The path taught as the triple continuity]
1. The causal continuity of the universal field is the root continuity because it contains all of existence and nirvana.2
2. But for the physical body, which is the continuity of method, etc.,3 there is:
a. The causal consecration by means of the four trinities of site, etc., etc.4
b. The teaching by means of the four quinaries on the path, the generation stage, etc.5
c. The protection of the contemplative commitment, etc.6
d. Reparations made to Vajradaka, etc.,7 for faults and transgressions are to be done by satisfaction, etc,, through the five objects of the senses, etc.8
e. Through meditation on the four consecrations during the four times of daily practice of the path, based in the body, obscurations to great bliss become the articulate continuity with their clarification in the awakened state.9
3. The fruitional continuity of the Great Seal is omniscience through the four fruitional consecrations.10
I. C. [The path taught as the four epistemes.]
Having defined the fruit by the four epistemes, 11
I. D. [The path taught as the six instructions.]12
1. Meditative poisons are expelled by the three modes without the fault of incongruity, etc.13
2. (a) [Avoidance of and] reliance on food, activity, breathy semen, and a consort;
(b) bliss of the five essences; and (c) nomeparation from the experience of the five senses: with these one will rely on [i.e., partake of] the nectars.14
3. (a) The four channels of existence, the cakras, and the others,15 (b) On the first and last plane [one knot is released]; by the ten triples there is release through the untying of knots on the intermediate [ten stages].16
4. The poisons of ones perspective are expelled through meditation on the pure conceptualization on the path of clarifying the occurrence of thoughts.17
5. Since the five sense fields are not rejected by the five varieties of sensory consciousness, there is reliance on the nectar [of sensation].18
6. There is release through the pure phenomena dawning as primordially empty.19
I. E. [The path taught as the four aural streams]
There is the nonseverance of the foury the aural stream, of the secret mantrap etc.20
I. F. [ The path taught as the five forms of interdependent origination]21
1. Based on a physical body with distinguishing characteristics,
2. There is the interdependent origination of the limit of existence.
3. This is the interdependent origination dependent on another (paratantra).
4. The path here is the path [leading to] great awakening.
5. The interdependent origination of all phenomena is the sequential episteme.22
6. The purified great awakening is the underlying consciousness (alayavijnana).
7. The path is entirely completed by the five forms of interdependent origination.
I.G. [The special explanation of the protection from obstacles applying to the paths occupied with skillful means, insight, or both.]
1. Obstacles23 to the path for a yogin occupied with skillful means will be protected against as follows: by firm faith; or by the circle of protection, by muttering of mantras’ and by the knot of protection; or by the appearance of phenomena as mind, being interdependent origination, namely, dependent on another. Since the latter is like the reflection in a mirror, he will be thus protected by the nonseparation from the meaning of the ocean of reality.
2. Obstacles to the path for a yogin occupied with insight will come in two forms: external demons, which come when one does not comprehend them as the transformation of the two paths and eight perspectives and accomplishments; and the internal obstacles, which will come when one does not comprehend the signs and the ten paths, etc. There will be protection for these yogins when these obstacles are comprehended correctly.24
3. There is protection from the veils, the obscurations, and the loss of seminal fluid.25
II. [Teaching the Existential Path in which the Cakras Are Coaxed.]26
A. [Summary of the cause for the arising of concentration.]
1. Having obtained, from the path of accumulation, the four fruits separating one from the ordinary body speech and mind,27
2. By means of the three ways of coalescing the essence in the [seven] balanced modes,28
3. If one traverses the path according to the thirty-seven elements of awakening,29 having self-empowered30 the vital wind and the mind,
4. Then there are the four bases of psychic power (rddhipada)31 relating to undissipated cultivation32 the wind of activity and the masculine, feminine, and neuter winds.33 Because there is incineration by the gnosis of crossing overy34 at the first coalescence of the essence the channels open up as if by the winter wind with its “implement” [its frigid bite].35 [Thus there is discomfort] such as mental experience,36 dreaming of hones, etc., and physical discomfort in the channels. There are the knots of the various channels, etc,
5. The primary [and subsidiary] vital winds make ten. By the seven determinants of their constraint, the [five] subsidiary vital winds are by degrees internally arrested.37 Many of the seminal nuclei open up and become blended together with the foundation38 Based on that [meditation], the mind resides internally; the jive consciousnesses are collected internally; the jive aggregates are tamed; and there is the intermittent arrival and departure of gnosis.
6. There are visions, dreams, and [physical] experiences relating to undissipated cultivation, in three sections each [resulting in nine items total]. In the case of that [“heat”] preceded by conceptualization, the experience modifier the appearance of the triple world39
7. (a)40 When “earth” merges into “water”, there is an illusion. When “water” merges into “fire”, there is smoke. When “fire” merges into “air”, there is the appearance of fireflies. When “air” merges into consciousness, there is the ignition of a butter lamp. When consciousness merges into clear light, it is like the sky on a cloudless day. When the vital wind of “earth”, “water”, “fire”, or “air” coalesces with the mind, then [in the case of the vital wind of fire,] the entire triple world appears as if on fire. With the vital wind of water, the follicles of the body feel cold. With the vital wind of air} the mind cannot concentrate, and [in sleep, one dreams of] ones own flight and the rising of flocks of birds.41 With the equal operation of all four of the elemental vital winds [earthy, water, fire, and air], various goddesses offer their dance [in visions and dreams]. With the various mixtures of the vital winds of the four elements, one experiences smells and taster. With the preponderance of the vital wind of “space” [coalescing with the mindj, there is the physical feeling of bliss in the follicles.42
b. With the five nectars there is [the vision of] the bodies, etc., of the Sugatas.43 Through the Sihla [menstrual blood] there is the experience of the sun. Through the Gapura [semen] there is the experience of the moon. By the subtle seminal nuclei in the minor channels, there is the experience of the many stars.
c. (i) In controlling the channels, etc., there are the experiences of [the body as] a tree trunk and of the five emotions: desire, anger, and the rest [present as letters in the heart].44 There are the channels of anxiety, of sorrow, of demons, and the appearance of tears and yawning through the tear channel
c. (ii) One might coalesce in equal measure the vital wind and mind into the letters of the six families which first come together in the navel [during gestation].45 If so, then the whole triple world appears in light of the experience of being led into [birth among] the six families [of being, feeling] their dances and [vocalizing] their mantras; the experience is carried over into dreams and physical sensations.
c. (iii) From OM there is the concentration (samadhi) of meditation (dhyana), etc.46 If [the mind/vital wind] correctly merges into the AH of the woman’s “sky”, then the entire triple world appears as space. If they are merged into the citadel of the great mother, the perfection of insight, etc., then one experiences the dharmakaya and the liberation of subject and object. If [merged] into the clarity and lightness developed from the HUM, then one experiences the very pure sky of the self-originated gnosis. The channels are opened by the gradually abating “implement” of the wind in the intermediate coalescence of the essence.47 So, even with the discomfort of the seminal nuclei, there is stability of the visions in the world.48
II. B. [Explanation of the path that extensively delineates the cause for the rise of meditation.]49
Briefly, in [the letters] RAKSA, etc., the demons, etc., there is the sound from that which has a bell and vision like the pure eye of the gods.50 These are considered the occurrence of meditative experience from the “zenith of existence” (bhavagra) on down.51 Showing what is inexpressible, this method is hidden to [those on] the five [paths] and the ten [stages of the method of the Mahayana perfections].52
II. C. [The explanation of the path separate from hope and fear.]
The triple ternaries of inverted vital wind, etc., are the external interdependent origination of undissipated cultivation.53 The internal [interdependent origination] consists of the Jive dakinis [= five winds] and the five bodies of the Tathagatas [= five secretions].54 These [external and internal interdependent originations] are made the interdependent origination of great awakening. By this action, the yogin knows that the perfected powers (siddhi) arise from his own body. With this understanding, the thought of hoping or searching for these (siddhis) is cleansed. Knowing that the demons and obstacles to meditation are one’s own path and interdependent origination, then the defects are taken up as qualities. Thus, the intensity (heat: usmagata: drod) of the path, in order or out of order, is accepted for the chaos it is.55
II. D. [The path explained as the four awakenings.]56
As the Devaputra Mara comes on the path for a yogin occupied with insight, he is protected by the four awakenings.57
II. E. [Explanation of the path of the four bases of recollection.]58
Now the four bases of recollection pertaining to undissipated cultivation: As the sensory fields have been obstructed, the yogin thinks of the necessity of summoning and generating one’s chosen divinity} since there must be equal divisions within the meditation.59
II. F. [Fruit of the four bases of recollection]60
At the final coalescence of the essence, the channels are opened as if by [the summer] wind, which is without an ”implement” [harsh bite],61 With the coalescence of the seminal fluid within the six sensesy the yogin correctly cognizes the six recollections (anusmrti).62 He sees some nirmanakayas. Now as to the four correct renunciations (samyakprahdna)63 relating to undissipated cultivation [during the fourth consecration]: The disciple reflects on the cognition arisen following the third consecration by [his guru who is the same as] the nirmanakaya. He seeks for the hidden vein in his consort, a twelve-year-old “padmini”, who is a “happy one”, etc.64 The heart’s A [goes] to the tip of the “nose” of the avadhuti [central channel] and the “leisurely” and “mobile”, etc., forms of the vital wind are pushed within [the central channel] by the intellect with seasoned intelligence.65 By this means, there occurs the vajra posture of the body, speech, and mind.66 Then the vital wind is pressed by the seminal fluid [into the central channel]. Thus, one does not hear the sound of drums, etc., [and becomes unreceptive to the senses]. By these and indicative of them, one overcomes the Maras [obstacles] of thinking “this is sufficient”, etc. At that pointy the path of the internal Buddhas has proceeded to the zenith of existence. Although [previously] tolerance toward unarisen phenomena (anutpattikadharmaksanti) was difficult, now [the yogin experiences] tolerance toward emptiness. In the central channel, his mind returns to the nonconceptual, and even if the mind should migrate, there is tolerance. This is beyond all existential phenomena. Since the phenomena on the path of nirvana is completely perfected, this path constitutes the best of all phenomena (agradharma).
II. G. [Conclusion.]
In that manner – whether the experience is defective or not – the mind and vital wind are brought together into the “A of external form” and moved upward. Those elements arisen on the path are essence, proper nature, and characteristics.67
III. [Teaching the Supermundane Path That Revolves the Cakras.]
III.A 1. On the supermundane pathy by means of the path of external and internal interdependent origination.
The yogin obtains the naturally spontaneous nirmanakaya. Because of the generation stage path, one completes the vase consecration which purifies the body.
Now as to the seven branches of awakening that constitute the sign of this obtainments reality: they are the four citadels of the precious veins and the three ladies.68 Having thus seen the physical mandala, one engages the coming and going of conceptualization.69 He vibrates70 a hundred pure lands of the nirmanakayas, Intern [to the nirmanakayas in these hundred pure lands preach the Dharma], gives a hundred gifts, diffuses a hundred lights, teaches a hundred of those below himself, and becomes able to enter into a hundred different contemplations.71 Having in particular seen the basis for human existence72 in the vein of the six realms of beings, he experiences both happiness and apprehension.73 He is repulsed by [his previous] shameful behavior. At this moment he realizes the doctrines of the indivisibility of samsara and nirvana (‘khor ‘das dbyer med), which the teacher had previously imparted during the causal consecration.74 Then compassion is born, and tears naturally come. The yogin understands the different mentalities of others and bursts into laughter when he sees the various sensory objects. Because he sees the interior pure lands, [he can demonstrate] all the various miracles in a single moment.75 What is not seen internally is likewise not observed externally.At this moment, his penis becomes erect. In the same way as it is experienced when the seminal fluid is held at the tip of the vajra in the natural level,76 his entire body is intoxicated with bliss, and he feels overcome. He does not recognize the differentiation of self or other. The internal sign is that the breaths of inhalation and exhalation are each arrested by an inch.77 The external sign is that half the genital cakra is firm with the seminal fluid. This is the first stage, that of the path of vision.
2. Moreover, from the nirmanakaya the four fourfold consecrations are received.78 From the second staget which is on the path of cultivation, the yogin is able to vibrate, etc., a thousand pure lands of the nirmanakaya, etc. His qualities, etc., increase, and the coming and going [of conceptualization] cease. The internal sign is that inhalation and exhalation are each arrested by six inches. The external sign is that genital, navely and heart cakras are firm with the seminal fluid. He sees some of the sambhogakayas. This is the sixth stage, on the path of cultivation.
III.B. Again, from the sambhogakaya the four fourfold consecrations are received. Through the path on which is practiced the self-consecration, the yogin obtains the naturally spontaneous sambhogakaya. This is the conclusion of the secret consecration that purifies speech. The sign of its reality is that the yogin obtains authority over thejive faculties and over the five vital winds of the jive vitalfluids.79 He is unhindered in jive abilities and unhindered in his use of the gazes.80 He sees the seeds of the six families of beings within the bhagamandala and gains authority over the six seed syllables.81 He is able to teach the Dharma to beings in their own languages, and [his understanding] is unhindered toward the general and specific characteristics of phenomena,82 Having seen the eight source letters in the navel as [i.e., transform into] the vowels and consonants, he becomes unhindered toward the twelve branches of the Dharma announced by the Buddha and contained in the sutrapitaka.83 He is able to enjoy the jive nectars and the six flavors. The “pure sounds” are clarified by the six verse feet of “the syllable A”, etc.84 From the seventh stage up, he is able to vibrate, etc., the 108 pure lands of the sambhogakaya, etc., sealed within the four cakras.85 The internal sign is that inhalation and exhalation are each arrested by fully ten inches. The external sign is that as far as the throat and eyebrow cakras,the cakras are firm with the seminal fluid. This is the tenth stagey on the path of cultivation.
III.C. Again, from the dharmakaya the four fourfold consecrations are received. The path on which is practiced the method of the mandalacakra, purifies the mind.86 By means of that path, the yogin obtains the naturally spontaneous dharmakaya; this is the conclusion of the insight-gnosis consecration. The sign of its reality is that the yogin sees the fundamental bodhicittamandalay which is the quintessential essence that control the five powers and the five vital winds of bodhicitta; with the vision the signs become apparent.87 Having obtained the consecration of the three bodies of the Buddha and the five forms of gnosis, etc.y if one sees the Jive nectars coalescing into the appropriate vein, then one views the Buddhas working for the benefit of others.88 If one is sees the seminal fluid coalesced into [central channel from] the nirmanacakra [in the navel] to the mahasukhacakra [in the fontanel], then he sees the Buddhas subtly residing in the locus of Akanistha. If he sees the jive nectars and the five vital winds coalesce into the nirmanacakra in the navels then he sees the five families of the sambhogakaya, who. resident in the mothers’ bhaga, disseminate the secret [mantra path] to worthy bodhisattvas.89 If he sees the mudras quintessential essence, then he becomes unhindered toward the supercognitions.90 If he leads the essence into the letters inside the veins, then be will be unhindered toward magical powers. If he is subsequently reincarnated, then he will remember his previous existences. The internal sign is that inhalation and exhalation are each arrested by all twelve inches.91 The external sign is that the entire fontanel cakra is firm with the seminal fluid. This is the twelfth stage, on the path of cultivation.
III.D
1. Again, there is the four fourfold consecration. Through this path of culmination there is the ultimate purification by means of the ultimate interdependent origination. Through this path of the adamantine wave (rdo rje rba rlabs), there is the highest perfection of the Great Seal (mahdmudrd). It is the knowledge being (vidyapurusa), the path of the purification of ordinary existence. With this, the yogin obtains the naturally spontaneous svabhavikakaya. This stage is the culmination of the fourth consecration of the body, speech, and mind. The sign of its reality is that the eightfold noble path consists of the obtainment of the two fruits with the purification of the eight consciousnesses.92 Then this great earth is happy, delighted, and overjoyed, so that it quakes in six different ways.93 Sound [of defeat] resounds in the residence of Mara.94 The yogin sees the triple world in the place of the mudrd.95 Dakas assemble coming from distant areas. The eight varieties of dominion arise: minuteness and the rest.96 The internal sign is that both the vital winds of inhalation and exhalation enter into the central channel. The external sign is that half the usnisa is firm with the seminal fluid. This is the twelfth and a half stage.
2. Proceeding to the culmination of the fourth,or mental, consecration, the yogin obtains the unique fruity which is the sign of its reality,97 By means of bodhicitta, he breaks open the realm of existence which is the city of the Vindhya prince (*vindhyakumaranagaradharmadhatu).98 The yogin is able to vibrate, etc., myriads (prasuta) of the fruitional dharmakaya pure lands, etc.99 As soon as he obtains the thirteenth stage, he attracts consorts of the tenth stage, etc. The coalescence of the savor of the Tathagatas of the three times becomes the preceptor. By means of the interdependent origination that obtaim accomplishment in the vagina through the indivisibility of the chosen divinity and the teachery there is the path that completely purifies existence. Obtaining the naturally spontaneous exceedingly pure svabhavikakaya is the culmination of the fruit. The sign of its reality is that he is able to vibrate, etc., the fruitional svabhavikakaya pure lands without exception, etc. The internal sign is that the vital winds of inspiration and expiration are arrested in the central channel. The external sign is that the entire usnha is firm with seminal fluid. By means of the dissolution of the four gradations (gros bzhi thims) – which constitute the interdependent originations of exterior and interior – since there is a transformation and elimination of defects in the experience of cultivation that has previously occurred, the yogin arrives at the thirteenth stage100. Then he becomes omniscient.
3. On this thirteenth stage, that of Vajradhara, interdependent origination appears as if in complete conformity. At the point at which he becomes a Buddha, all bis retinue also become Buddhas as a unit.
IV A. Now the adamantine vehicle of secret spells is really constituted by consecrations: those of the cause, the path, and the fruit. Although it is marked by conceptual thought, it realizes nonconceptual reality. Accordingly, there is the appearance of gnosis.
B. [The Deep Path, Middling Path, and Abbreviated Path]
The deep path of the teacher, the esoteric commitment, and the individual suppression through the physical body (*vapuhpratisamkhyanirodha).
[Colophon]
The Instructions on the Path, Together with Its Fruity Along with Technical Directions is completed. Finished.
Lam ‘bras bu dang bcas pa’i gdams ngag dang man ngag du bcas pa1 bla ma dam pa’i zhabs pad la2 btud de | lam ‘bras gsung mdo bri bar bya |
[Lam rgyas pa]3
[l. ‘Khor ‘das thun monggi lam bstan pa]
A. [sNang ba gsum du bstan pa’i lam]
1. sems can la | nyon mongs pa la | ma dag pa’i snang ba4 |
2. rnal ‘byor pa la5 | ting nge ‘dzin la6 | nyams kyi snang ba |
3. bde bar gshegs pa la7 | sku gsung thugs mi zad pa rgyan gyi8 ‘khor lo la | dag pa’i snang bao ||
B. [rGyud gsum du bstan pa’i lam]
1. kun gzhi rgyu rgyud la ‘khor ‘das tshang has9 rtsa rgyud |
2. lus thabs rgyud stsogs10 | a a. gdan stsogs stsogs11 gsum pa bzhis12 rgyui dbang | b. lam du bskyed rim stsogs13 lnga pa bzhis bstan | c. mnyam gzhaggi dam tshig stsogs bsrung | d. rdo rje mkha’ 3gro stsogs kyi14 nyams chag15 bskang | ‘dod yon stsogs lngas16 mnyes pa stsogs [11] bya | e. lam gyi thun bzhi la dbang bzhi bsgoms17 pas lus la brten nas bde chen gyi sgrib pa ‘gag18 cing ‘tshang rgya bar gsal has bshad rgyud |
3. phyag rgya chenpo ‘bras but rgyud ni ‘bras bu’i dbang bzhis thams cad mkhyen to |
C. [Tskad ma bzhi ru bstan pa’i lam]
tshad ma bzhis ‘bras bu gtan la phab nas |
D. [gDams ngag drug tu bstan pa’i lam]
1. ‘gal ‘dus19 skyon med stsogs gsum gyis bsam gtan gyi dug dbyung |
2. a. zas J spyod lam | rlung | thig le | phyag rgya ma bsten | b. dwangs ma20 lnga’i bde ba dang | c. dbang po lnga nyams dang ma bral bus bdud rtsi21 bsten |
3.a. ‘khor ba’i rtsa bzhi dang | ‘khor lo rnams dang22 | gzhan rnams dang | b. sa thog mtha la23 re re | gsum pa bcus24 bar gyi rtsa mdud dral bus la dor |
4. ‘jug pa sel ba’i lam yid ‘dag pa’i rnam rtog bsgoms25 pas ha ba’i26 dug dbyung|
5. mam shes lngas yul lnga ma [12] spangs has27 bdud rtsi bsten |
6. dag pa’i chos rnams gdod nas stong par shar has la dor |
E. [sNyan brgyud bzhir bstan pa’i lam]
gsang sngags snyan brgyud28 stsogs bzhi ma chad pa29 |
F. [rTen ‘brel lngar bstan pa’i lam]
1. lus khyad par can la brten nas |
2. dngos30 po’i mtha’rten cing’brel bar ‘byung ba|
3. gzhan dbang rten ‘brel |
4. byang chub chen po’i lam |
5. chos thams cad rten cing ‘brel bar ‘byung ba lo rgyus kyi tshad ma31 |
6. kun gzhi’i32 mam shes dag pa’i byang chub chenpo |
7. rten cing ‘brel bar ‘byung ba lngas lam yongs su rdzogs pa’o |33
G. [Thabs shes kyi phyogs su lhung ba’i lam gyi bar chad srung ba’i bye brag bstan pa34]
1. thabs kyi phyogs su lhung ba’i rnal ‘byor pa’i lam gyi bar chad ni | dadpd brtan pos bsrung35 | srung ba’i ‘khor lo36 | sngags zlos | sngags mdud37 | chos rnams sems nyid snang ba | gzhan dbang rten ‘brel | gzugs brnyan yin phyir de kho na nyid rgya mtsho i don dang ma bral has bsrung |
2. shes rab la phyi’i bdud la38 lam gnyis | lta grub39 brgyad bsgyur ba ‘ong40 | nang lam41 stsogs bcu dang brda ma shes na ‘ong | shes pas42 bsrung |
3. grib dang sgrib pa thig le ‘dzag pa bsrung ||
II. [‘Khor lo “cham pa ‘jig rten pa’i lam bstan pa]
A. [Ting nge ‘dzin skye ba’i rgyu mdor bstan pa]
1. tshogs lam nas tha malpdi lus ngagytddang bralbcii43 ‘bras bu bzhi44 thob nas45 |
2. khams ‘du lugs gsum gyis46 phyogs med rnams dang |
3. rlung sems bdag byin gyis brlabs47 nas | byang chub kyi phyogs dang mthun pa’i chos sum cu rtsa48 bdun ltar lam bgrod na |
4. bsgom pa49 mi ‘chor ba’i rdzu ‘phrulgyi rkang pa bzhi ni50 | las kyi rlung | pho | mo | ma ninggi rlung | thod rgalye shes51 kyi me ‘bar has khams ‘dus pa dangpo dgun gyi rlungpo52 lag cha can gyis rtsa dral | sems gnas | rta rmi | rtsa lung gi zug ‘byung | rtsa sna [13] tshogs mdud stsogs |
5. gzhi rtsa ba’i rlung stsogs bcu53 | zin pa’i bye brag bdun gyis yan lag gi rlung rim gyis nang du ‘gag54 | thig le55 mang du kha ‘bu | rten mnyam du ‘dre56 | de la brten nas sems nang du gnas | mam shes lnga nang du57 ‘dus | phungpo lnga dul | ye shes kyi ‘gro ldog byed |
6. bsgom pa mi ‘chor ba’i mthong snang | rmi lam | nyams gsum gsum ni rnam rtog sngon du song ba ltar khams gsum kun du snang ngo |
7.a. sa chu la thim na smig rgyu | chu me la thim na du ba | me rlung la thim na srin bu me khyer | rlung rnam par shes pa la thim na mar me ‘bar ba | rnam par shes pa ‘od gsal la thim na nam mkha spnn med58 lta bu | sa chu me rlung dang rlung sems mnyam par ‘dus na khams gsum kun tu me lta bur snang ngo |59 chu rlung dang60 spu lus grang | rlung gt rlung ‘du ‘phro dang | rang ‘phur | bya ‘byung | ‘byung bzhi’i61 rlung mnyam rgyu dang | lha mo sna tshogs kyis gar mchod | ‘byung bzhi’i rlung sna tshogs dang dri ro | nam mkha’62 dang mnyam pa dang spu lu63 bde |
b. bdud rtsi lnga dang de64 bzhin gshegs sku stshogs | sihla dang nyi ma | ‘ga’ bur dang zla ba | rtsa bran65 rnams su thig phran66 dang skar ma |
c.i. rtsa ‘dzin stsogs su shing sdong stsogs | chags sdang rnam pa lnga dang | nyam nga67 lmya ngan | ‘dre i rtsa | mchi ma’i68 rtsar g.yal dang mchi ma | ii. lte bar dang po chags pa’i rigs drug giyi ger rlung sems mnyam par ‘dus na | rigs drug gi gar | sngags | der khrid pa | rmi lam | nyams lta bur khams gsum kun tu snang ngo69 | iii. OM las bsam gtan stsogs kyi ting nge ‘dzin | yum gyi mkha’ AH la70 yang dag par thim na khams [14] gsum nam mkha | yum chert mo shes rab kyipha rol tu phyin ma stsogs kyi pho brang du thim na71 chos sku nyams su myong zhinggzung ‘dzin72 grol | HUM las gsal zhing yang la73 rang byung74 giye shes nam mkha shin tu dri ma med | khams ‘dus pa bar pa rlung po75 lag cha bri has rtsa dral | thig le’i zug76 dang mthong snang brtan no |
B. [Ting nge ‘dzin skye ba’i rgyu rgyas par bstan pa’i lam bstan pa]
mdor na raksa stsogs su srinpo stsogs | dril77 can gyi sgra | lha’i mig mam par dag pa bzhin | srid pa’i rise mo man cad ting nge ‘dzin gyi nyams su ‘byung ba snyam byed pa | bshad kyis mi lang ba78 mtshon cing | lnga bcu la gsang |
C. [Re dogs dang bral ba’i lam bstan pa]
bsgom pa mi ‘chor ba’i phyi’i79 rten ‘brel rlung log80 stsogs gsum gsum ni | nanggi mkha ‘gro lnga81 | de bzhin gshegs pa’i sku lnga byang chub chert po’i rten ‘brel mdzad pas | dngos grub rnams rang las82 ‘byung bar shes shing | shes pas83 re zhing rtsol ba’i84 blo sel to | bdud dang go | sa rnams rang gi lam85 dang rten ‘brel du shes pas sky on yon tan du bslang zhing | rim pa yin min du skye ba’i drod86 byung rgyal du gtang ngo87 |
D. [Sad pa bzhir bstan pa’i lam bstan pa]
shes rab kyi phyogs su lhung ba’i lam la lha’i but bdud ‘ong has88 sad pa bzhis bsrung |
E. [Dran pa nyer gzhag gi lam bstan pa]
bsgom pa mi ‘chor ba’i89 dran pa nye bar gzhag pa bzhi ni |yul ‘gags pas90 rangyi dam gyi lha dang gug skyed kyi dgos pa bsam zhing | ting nge ‘dzin cha mnyam pas91 |
F. [(Dran pa nyer gzhag) dei ‘bras bu bstan pa]
khams ‘dus pa tha ma rlungpo lag cha bral has rtsa dral |92 skye mched drug gi nang du thig le ‘dus pas rjes su dran pa drug yang dag par shes | sprul sku ‘ga’ mthong | bsgom pa mi ‘chor ba’iy cing dag par spong ba bzhi ni | sprul sku las | dbang gsum gyi rjes la93 ‘byung ba’i94 shes pa bsam zhing | dgyes95 stsogs pad can bcu gnyis mat rtsa btsal [15] zhing | snying po’i A kun ‘dar96 gyi sna rtser dal rgyu97 stsogs rigs pas98 yid ‘jug pas | lus ngag yid rdo rje’i99 skyil krung bcas100 | thig les101 rlung non pas rnga sgra stsogs mi thos pas | chog shes pa stsogs kyi bdud choms has so102 | nang gi103 sangs rgyas rnams kyi lam srid pa’i rtse mor phyin cing | ma skyes pa’i104 chos la bzod par dka’ ba105 stong pa nyid kyi bzod pa106 | dbu mar sems rtog med log sems ‘phos na107 bzod pa | ‘khor ba’i chos las ‘das shing | my a ngan las ‘das pa’i lam chos rnams yongs su108 rdzogs pas chos rnams kyi nang na109 mchog go |
G. [mJug bsdud bstan pa]
de ltar nyams sky on can dang110 | sky on med dang | phyi dbyibs kyi A na111 yar rlung sems mnyam par ‘dus nas | lam du ‘byung ba rnams ngo bo | rang bzhin | mtshan nyid do112 ||
lll. [‘Khor lo bskor ba ‘jig rten las ‘das pa’i lam bstan pa]
A. i. ‘jig rten las ‘das pa’i lam la |
[rgyu] phyi nang rten113 cing ‘brel bar ‘byung ba’i lam gyis
[‘bras bu] sprul sku rang bzhin gyis lhun grub ‘thob par byed pa114 | bskyed pa’i rim pa’i lam nas115 | lus ‘dag par byed pa116 bum pa’i dbang mthar phyin |
[rtags] de kho na nyid kyi rtags byang chub kyi yan lag bdun ni | rtsa rtn po che’i pho brang bzhi | gtso mo117 gsum ste lus kyi dkyil ‘khor mthong nas118 | rtog pa’i119 ‘gro ldog byed | sprul sku’i zhing khams brgya bsgul zhing | nyan120 | sbyin brgya | ‘od brgya ‘gyed | mar brgya ‘ched121 | ting nge ‘dzin mi ‘dra ba brgya la snyoms par ‘jug nus | rigs drug gi rtsar khyad par du mi’i rten mthong na122 | dga ‘la123 g.yang za | ngo tsha la skyug bro | sngon bla mas rgyu dus na bstan pa’i124 ‘khor ‘das dbyer med de tsam na rtogs125 | snying rje skye | mchi ma ltung126 |[16] gzhan gyi sems sna tshogs shes | ‘dod yon sna tshogs mthong has dgod bro127 | rdzu ‘phrul sna tshogs skad cig mas128 ‘byung ba rnams nanggi zhing khams mthong has so | nang ma mthong bar phyi mi mthong | de tsam na lingga brtan | rdo rje’i riser129 lhan cig130 skyes pa’i sar thig le gnas pa ltar131 lus bde bas my os shtng brgyal132 | rang gzhan ngo mi shes | nang rtags rlung sor gcig gag133 | phyi rtags gsang gnas phyed thig les brtan |
[mjug bsdud] mthong lam134 sa | dang po’o ||
2. [rgyu]yang sprul sku las135 dbang bzhi bzhi136 |
[rtags] sgom lam sa gnyis nas137 sprul sku’i138 zhing khams stong la stsogs pa sgul ba139 la stsogs pa nus | yon tan stsogs ‘phel | ‘gro ldog stsogs ‘gag140 | nang rtags rlung sor drug ‘gag | phyi rtags gsang gnas lte snying141 thig les brtan | longs sku ‘ga’ mthong | [mjug bsdud] sgom lam sa drug pa’o142 |
B. [rgyu] yang longs sku las dbang bzhi bzhi |
[‘bras bu] bdag byin gyis rlabs143 pa’i rim pa’i lam nas longs sku rang bzhin gyis144 lhun grub ‘thob par byed pa | ngag ‘dag par byed pa gsang bat145 dbang mthar phytn | [rtags] de kho na nyid kyi rtags dbangpo lnga dang | dwangs ma lnga’i rlung lnga la146 mnga’ brnyes | nus pa lnga dang | lta stangs rnams147 la thogs pa med | bha ga’i dkyil ‘khor du148 rigs drug gi149 sa bon mthong | sa bon drug la mnga’ brnyes | sems can rnams kyi skad du chos ston cing | chos spyi dang rang gi mtshan nyid la thogs pa med | lte baryi ge i phyi mo150 brgyad A LI KA LIr mthong nas151 | mdo sde’i chos gsung rab yang lag bcu gnyis la thogs pa med | bdud rtsi lnga dang ro drug la longs spyod nus | tshangs pa’i dbyangs su gyur pa rnams A ni [17] yig ‘bru zhes stsogs152 drug gis gsal lo | sa bdun payan chad longs sku’i zhing khams ‘khor bzhi’i rgya dung phyur153 la stsogs pa sgul ba154 la stsogs pa nus | nang rtags rlung sor bcu ‘gag155 |phyi rtags mgrin156 smin thig les brtan |
[mjug bsdud] sgom lam sa bcu pa’o157 ||
C. [rgyu] yang chos sku las158 dbang bzhi bzhi |
[‘bras bu] sems ‘dag par byed pa159 dkyil ‘khor’khor lo’i thabs160 kyi lam nas chos sku rang bzhin gyis161 lhun grub ‘thob par byed pa shes rab ye shes162 kyi dbang mthar phyin |
[rtags] de kho na nyid kyi rtags stobs lnga dang163 byang chub kyi164 sems kyi rlung lnga spyod pai’i165 dwangs ma’i dwangs ma rtsa ba byang chub sems kyi dkyil ‘khor mthong nas rtags bstan pa166 | sku gsum ye shes lnga stsogs dban167 thob nas | bdud rtsi lnga rtsa gar ‘du ba mthong na168 | sangs rgyas rnams gzhan don mdzadpa mthong | sprul pa bde chen du169 thig le ‘du ba mthong na | sangs rgyas rnams ‘og min gyi gnas na xab mo la bzhugs pa mthong | lte ba sprul par bdud rtsi lnga dang rlung lnga ‘du ba170 mthong na | longs sku171 rigs lnga yum gyi bha ga na bzhugs nas skal ldan byang chub sems dpa’ la172 gsang ba sgrogs pa mthong | phyag rgya ma’i dwangs ma’i dwangs ma mthong na mngon shes la thogs pa med | rtsa yig rnams su dwangs ma ‘drongs na rdzu ‘phrul la173 thogs pa med [ de nyid slad spos na174 sngon gyignas rjes su dran | nang rtags rlung sor bcu gnyis ‘gag175 ] phyi rtags spyi gtsug hril thig les brtan176 |
[mjug bsdud] sgom lam177 sa bcu gnyis pa’o ||
D. 1. [rgyu]yang dhang bzhi bzhi178 |
[‘bras bu] mtharphytn gyi lam nas179 | mthar thug rten ‘brel gyis mthar thug [18] ‘dag par byed pa180 | rdo rje rba rlabs kyi lam nas181 | phyag rgya chen po mchog gi dngos grub | rig ma’i skyes bu srid pa mam par dag pa’i lam | ngo bo nyid kyi sku rang bzhin gyis182 lhun grub ‘thob par byed pa | bzhi pa lus ngagyid kyi183 dbang mthar phyin |
[rtags] de kho na nyid kyi rtags ‘phags pa’i lamyan lag brgyad ni | mam shes brgyad ‘dag kar ‘bras bu gnyis thob ste184 | sa chen ‘di ni185 dga’ zhing rangs la mgu | de mam pa drug tu g.yos186 | bdud gnas su sgra grag | phya rgya ma’i gnas su khams gsum mthong | mkha’ ‘gro rnams187 ring nas ‘du | HA RI MA la stsogspa dbang phyug gi don brgyad ‘char | nang rtags srog rtsol A VA DHU TIr ‘jug188 | phyi rtags gtsug tor phyed thig les brtan |
[mjug bsdud] sa phyed dang bcu gsum pa’o ||
2. bzhi pay id kyi dbang mthar phyin | de kho na nyid kyi rtags ‘bras bu gcig thob ste189 | ‘bigs byed gzhon nu’i gron khyer chos kyi dbyings byang chub sems kyis ni ‘bigs | ‘bras bu chos sku’i190 zhing khams rab bkram la stsogs pa sgul ba191 la sogs pa nus | sa bcu gsum thob kar sa bcu ma la stsogs pa yid kyis bkug ste | slob dpon dus gsum bder gshegs bcud ‘dus yin192 | yi dam lha dang bla ma dbyer med las193 bha gar194 dngos grub len pa’i rten ‘brel gyis | srid pa mam par dag pa’i lam | ngo ho nyid kyi sku shin tu mam par dag pa rang bzhin gyis195 lhun grub196 ‘thob par byed pa197 ‘bras bu mthar phyin | de kho na nyid kyi rtags ‘bras bu ngo bo nyid kyi skui zhing khams197 ma lus pa la stsogs pa sgul ba198 la sogs pa nus199 | nang rtags srog rtsol A VA DHU TIr ‘gag200 | phyi rtags gtsug tor hril [19] thig les brtan201 | phyi dang202 nang gi rten ‘brel ‘gros bzhi203 thim pa rnams kyis sgom nyams204 skyon yod med phyed pas205 | sa bcu gsum pa’o206 | thams cad mkhyen to |
3. bcu gsum rdo rje ‘dzin sar207 rten ‘brel ‘grigs pa ltar snang208 | ‘tshang rgya kar ‘khor tshom bu gcig dang bcas te ‘tshang rgya209 |
lV. A. gsang sngags rdo rje theg pa ni210 | rgyu dang lam dang ‘bras bu’i dbang | rtog pas brtags kyang rtog med rtogs211 | ye shes snang ba de bzhin no |
B. [Lam zab ‘bring gsum du bstan pa]
lam zab bla ma | dam tskig| lus so sor brtags pa’i’ gogpa |
[Colophon] lam ‘bras bu dang bcas pa’i gdams ngag dang man ngag du212 bcas pa rdzogs sho || samaptam ithi ||
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Хотя Сачен Кунга Ньингпо написал много интересных работ, не будет преувеличением утверждать, что основное внимание он уделял комментариям к «Коренному тексту *маргапхалы». Этот факт несколько затеняется тем, что произведения Сачена печатались в ряде отдельных изданий: в томах комментариев ламдре; в виде работ, включенных им в «Собрание сочинений наставников сакьи» (Sasky a bka’ ’bum); в недавно опубликованном приложении к этому сборнику, а также в виде отдельных текстов, приписываемых Сачену и опубликованных в двух сборниках ламдре: «Желтой книге» (Pod ser) и «Малой красной книге» (Pusti dmar chung). Даже принимая во внимание спорный характер некоторых их этих материалов, общее количество текстов Сачена, связанных с ламдре, составляет примерно 60÷65 процентов его общепризнанного творческого наследия, или около четырех с половиной тибетских томов добротного формата. Однако, эта впечатляющая пропорция в какой-то мере иллюзорна, поскольку, как уже отмечалось ранее, многочисленные комментарии Сачена к одному и тому же тексту демонстрируют заметную избыточность, т.к. некоторые работы во многом выглядят как повторение уже достаточно хорошо обоснованных тем.
Не вызывает сомнений, что несколько коротких текстов Сачена, детализирующих или разъясняющих разделы «Коренного текста *маргапхалы», были собраны воедино еще при его жизни и унаследованы Дракпой Гьелценом в качестве первоначального сборника отдельных текстов ламдре. В Главе 9 обсуждается переработка Дракпой Гьелценом этого материала в полноценный корпус ламдре и отмечается, что существуют сомнения в том, что Сачен действительно является автором всех двадцать четырех произведений, перечисленных в «Содержании» Дракпа Гьелцена (gLegs bam kyi dkar chags)112. Два из них уже упоминались: «Асенгма» и «Ньягма», причем Дракпа Гьелцен конкретно называет только первый, но также заявляет, что использовался и другой, безымянный комментарий Сачена, и здесь, по всей видимости, речь идет о «Ньягме».
Помимо комментариев, мы располагаем еще тремя группами текстов. Первая включает в себя тринадцать коротких (иногда очень коротких) заметок, разъясняющих малопонятые места в «Коренном тексте *маргапхалы» или практические моменты его применения113. Данная группа начинается с обсуждения визуализации тела в виде мандалы, причем здесь ламдре использует несколько необычный подход: физические атрибуты тела представляются как физические атрибуты дворца мандалы, а кожа выступает в роли и защитной сферы, и части самого дворца114. Хотя такое представление в поздних писаниях эзотерического буддизма встречается достаточно редко, оно ни в коем случае не уникально для ламдре, кроме того эта разновидность структуры мандалы стала предметом разногласий между сакьяпой и гелугпинским автором пятнадцатого столетия Кхедрупдже115. Шесть работ посвящены аспектам четырех посвящений. В них Сачен представляет «наставления о моменте смерти», даруемые во время «посвящения сосуда»; детали созерцания четырех внутренних центров, передаваемые при «тайном посвящении»; характеристики подходящей супруги, используемой в процессе «посвящения мудрости-знания», а также «наставления о моменте смерти» для четвертого посвящения, в которых Сачен связывает между собой многие из предыдущих разъяснений.
Другие работы первой группы содержат обсуждение отдельных аспектов продвинутых посвящений. В одной из них рассматривается сложная для понимания фраза в III.B «Коренного текста *маргапхалы»: «запечатанной в четырех чакрах», а в другой – восемь форм владычества, успешно обретенных в четвертом посвящении117. Поскольку, как мы уже могли заметить, учение о промежуточном состоянии напрямую не вписывается в схематизацию на основе «четырех пятичастных структур», Сачен посвятил отдельный текст разрешению этой проблемы118. Довольно туманно описаны и «пять форм взаимозависимого происхождения» в I.F «Коренного текста *маргапхалы», поэтому Сачен составил небольшую заметку с толкованием этого материала119. Темами еще двух текстов первой группа являются очищение, обряд огненного жертвоприношения и наставления по правильным способам рецитации стослоговой мантры Ваджрасаттвы/Ваджрахеруки, которое выполняется несколько иначе, чем в большинстве других традиций120. Наконец, в этой группе кратких заметок присутствуют еще две теоретические работы, одна из которых разъясняет смысл крайне важных четырнадцати букв в «бхага-мандале», располагающейся в области гениталий, а другая обсуждает эзотерические моменты на заключительном пути во время перехода между двенадцатой с половиной и тринадцатой стадиями данного пути121. В пятнадцатом столетии эта тринадцатая стадия, являющаяся высшей сакьяпинской целью на пути к конечной стадии Ваджрадхары, также подверглась критике со стороны противников сакьяпы122.
Вторая группа текстов отражает особый упор Сачена на очищение и состоит из трех несколько более длинных работ, посвященных практикам устранения конкретных психофизических препятствий123. За ними следуют две короткие работы по глубокому пути, среднему пути и сокращенному пути (IV.B), согласующиеся со стандартным категориям124. Наконец, существует группа более разрозненных текстов и несколько материалов неопределенного авторства, заимствованных из колофонов. Тем не менее, большинство этих произведений также подвергнуты Саченом и Дракпой Гьелценом категоризации и разделены на «четыре великих пояснительных текста» (gzhung shing chen po bzhi, по крайней мере один из них написан самим Дракпой Гьелценом) и «пять учений, ускоряющих реализацию» (rtogs pa bskyed pa’i chos lnga)125. Здесь также присутствует своеобразная попытка йогической герменевтики, пытающаяся увязать двенадцать деяний Будды с моментами йогического опыта, т.е. Сачен таким образом поддерживает идеализацию внутренних йогических компонентов126.
Усилия Сачена по сведению воедино буддийского повествования и йогического опыта указывают на наличие внутренних противоречий, с которыми постоянно сталкивались ранние учителя клана Кхон в своих институциональных и доктринальных изысканиях. Суть его заключается в том, что по мере того, как ламдре превращалось во всё более эзотерическое и вместе с тем в более комплексное учение, становилось все сложнее объяснять объединение в одной системе базовых аспектов недвойственности и интегральной совокупности всех элементов реальности. В общих чертах этот вопрос рассматривается в трех текстах, включенных в соответствующий раздел «Желтой книги», и поэтому они по факту могут рассматриваться вкупе с другим сочинениями Сачена, которые не были непосредственно включены в ламдре. В одной из этих работ, носящей название «Пересечение пути» (Lam bsre ba), обсуждается проблема второго из ряда определений ламдре: наставление, в котором плод одновременно включает и путь127. Здесь Сачен разъясняет, как ламдре старается связать блага, обретаемые благодаря наставлениям, ассоциируемым с путем, с комплексными структурами, формально ассоциируемыми с каждым из схематических представлений этого пути: мирскими/надмирными путями, пятью путями махаяны, тринадцатью уровнями бодхисатвы, различными посвящениями, телами Будды и т.п. Этим Сачен попытался внести ясность в обескураживающую массу одновременно действующих структур, которыми насыщен «Коренной текст *маргапхалы», содержащий в себе скорее наборы кратких заметок об их взаимоотношениях, нежели исчерпывающий анализ.
По всей видимости, преподавание практической структуры этой сложной системы становилось все более и более затруднительным, и поэтому Сачен создал произведение, посвященное педагогическим методам ламдре: «Текст, представляющий систематизацию в точном соответствии с книгой [ламдре] и личностью ученика» (Gang zag gzhung ji lta ba bzhin du dkri ba’i gzhung shing)128. Данная работа приобрела огромное влияние, и именно она дает нам хотя и смутное, но все же какое-то представление о том, как Сачен обучал «Коренному тексту *маргапхалы». Очевидно, что написание «Текста, представляющего систематизацию» стало ответом на пожелания аудитории Сачена, поскольку считается, что он был создан по запросу одного из его учеников Картона Джосе Чакьи Дордже из Лходрака. В целом можно говорить о том, что наставники ламдре располагали двумя разными стратегиями преподавания, применявшимися в зависимости от того, требовалось ли обучать человека основам буддийской доктрины, или же он был способен справиться с более продвинутыми посвящениями, наставлениями и медитациями ваджраяны. Такой подход полностью аналогичен использованию Гампопой «одновременного» или «постепенного» путей. Похоже, это что стандартными методами преподавания Саченом ламдре были опора на тройственное проявление при обучении основам буддизма и тройственная непрерывность при обучении эзотерическому пути. Для ученика, обладающего способностями для вступления на эзотерический путь, текст раскрывает тройственную непрерывность, включающую в себя основу, путь и цель согласно ваджраяне. Основа обеспечивает философский и психологический анализ личности, мира и внутренней природы пробуждения. Путь кратко формализует материал «четырех пятичастных структур» из раздела I.B.2.b «Коренного текста *маргапхала», а цель формулирует окончательную природу пробуждения на тринадцатом уровне изначального будды Ваджрадхары.
Если «Текст, представляющий систематизацию в точном соответствии с книгой [ламдре] и личностью ученика» описывает практическую связь между экзотерическими и эзотерическими формами буддийской практики, то в двух других работах Сачена излагается теория, которая разъясняет основные различия между ними. Его «Вступление на путь и начало следования по нему» (Lam ’jug dang ldog pa) является частью более широкой дискуссии между сторонниками фундаментального махаянского метода «совершенств» и поборниками ваджраяны129. Не все в Центральном Тибете одиннадцатого и двенадцатого столетий были в восторге от кажущейся победы эзотерического буддизма, причем против него выступали и некоторые весьма авторитетные деятели того времени. В этой очень короткой работе Сачен затрагивает вопросы точного позиционирования эзотерической системы на этапах пути, а также в общих чертах описывает взаимосвязь между двумя подходами к буддизму, указывая на то, что в эзотерической системе обязательным требованием является постижение концепции пустоты экзотерических «совершенств», особенно на начальных этапах практики.
Я полагаю, что данная работа, а также развернувшиеся в У-Цанге дискуссии, которые и провели к ее появлению, фактически стали прелюдией к созданию Саченом другого очень значимого произведения: «Кратких основных принципов тантрического канона» (rGyud sde spyi’i rnam bzhag chung ngu)130. Возможно, что это самое раннее из сохранившихся до наших дней творений подобного рода, хотя ряд авторов, начиная с жившего в восьмом столетии Буддхагухьи, уже обсуждал такие вопросы в многословных введениях своих комментариев к конкретным тантрам131. По общему мнению, у Го-лоцавы Кхукпы Лхеце также было сочинение, посвященное этой же самой теме, и, вполне возможно, что в своей работе Сачен следовал его структуре. В этом тексте Сачен рассматривает ту же проблему, что и в своем «Вступлении на путь и начале следования по нему», но здесь его подход гораздо более формальный: он ищет ответ на вопрос, каковы фундаментальные различия между двумя колесницами (махаяна и ваджраяна) с точки зрения их исходных положений, их путей и их целей. Следует отметить, что подоплекой всех этих изысканий Сачена являлась очень значимая интеллектуальную проблема, которую в те времена пытались разрешить по всему Тибету: если эти две колесницы фундаментально различаются во всех этих областях, по какому праву они обе претендуют на звание буддийских? Или же, если они обе являются буддийскими, то что можно сказать о самом Будде?
В ответе Сачена на все эти вопросы, изложенном в «Кратких общих принципах тантрического канона», утверждается, что оба направления имеют единую цель: абсолютное пробуждение, но при этом указывается на психологические и практические различия между приверженцами данных систем. Адепт махаяны отвергает основы материальной жизни, поэтому все его устремления к объектам чувственного восприятия искусно ограничиваются, и они считаются ядовитыми, как листья ядовитых растений. Накапливая объем заслуг и знание, махаянист практикует шесть или десять «совершенств» и главным образом сосредоточен на том, как правильно привести себя в состояние, позволяющее обуздать чувственное восприятия обыденного существования. Вот почему метод «совершенств» называют «причинной колесницей», указывая при этом на то, что в данном случае человеку для того, чтобы обрести пробуждение, необходимо в течение длительного периода времени пройти через все основополагающие стадии. Мантрин же, напротив, использует устремления к объектам чувственного восприятия, не отвергая основы человеческого бытия, а правильно взращивая их. Следуя этим путем, он применяет тайные заклинания для скорейшего продвижения к оплоту пробуждения – тринадцатой стадии пути, стадии Ваджрадхары. Поскольку в данном случае плод неотъемлем от пути, этот метод называется «равнодействующей» колесницей. Для Сачена эта работа создала благоприятную возможность продолжить систематизацию эзотерических писаний, а так же обсудить четырехчастную систему категорий, которая приобрела особую популярность у некоторых индийских экзегетов и практически у всех тибетцев132.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Мало того, что Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен были близки по возрасту и связаны общей судьбой, но и в своем творчестве они действовали тандемом как истинные братья. Это можно признать беспрецедентным явлением в тибетской литературной жизни, и, возможно, в дальнейшем ничего подобного никогда не встречалось вплоть до совместной работы в семнадцатом столетии ньингмапинцев Ургьена Тердака Лингпы и Ло-чена Дхарма-шри. Не вызывает сомнений, кто был лидером в этих отношениях, поскольку Сонам Цемо сильно рисковал, погружаясь в неизведанный мир Сангпу Нейтока и оставляя своего брата работать с членами окружения Сачена. А Дракпа Гьелцен, похоже, считал себя ведомым, признавая ведущую роль своего брата и неоднократно заявляя о своем долге перед ним как братом и учителем. Тем не менее, было бы заблуждением как-либо принижать младшего брата перед старшим, поскольку Дракпа Гьелцен прожил почти на тридцать лет дольше своего старшего брата и в течение этого времени продолжал пополнять литературное наследие, сохранявшееся в монастырях сакьяпа до середины двадцатого столетия. Их совместное влияние на литературный облик сакьяпы выглядит просто подавляющим. К примеру, наставники из нгорпы говорили мне, что настоятель их элитного монастыря в Цанге был обязан знать наизусть четыре основополагающих произведения: одно Сонама Цемо, одно Сакья Пандиты и два Дракпы Гьелцена104.
Это не означает, что работы двух братьев были настолько похожи, что их невозможно было отличить, хотя каждый из них порой дополнял, а иногда и продолжал тему другого, придерживаясь при этом как его стиля, так и содержания. Однако, если произведения Сонама Цемо отличались особой заботой о соблюдении индийских стандартов стиля и вниманием к нормам стихосложения, а работы Сакья Пандита были известны своей неоконсервативной приверженностью индийской ортодоксальности, то сочинения Дракпы Гьелцена славились своей легкостью для понимания и доступностью105. Действительно, из всего наследия сакьяпы двенадцатого и тринадцатого столетий единственными произведениями, сохранившимися в памяти тибетского народа, являются песни постижения, сочиненные Дракпой Гьелценом, и «Сокровищница благонравных высказываний» Сакья Пандиты (Sa skya legf bshad gter) (этакий тибетский «Poor Richard’s Almanac»). Я видел их довольно свежие современные издания и слышал, как тибетцы декламируют стихи из обоих этих произведений.
Самой сложной задачей, за решение которой взялись эти братья, была комплексная адаптация ламдре к реалиям тибетской действительности. Как мы уже знаем, «Коренной текст *маргапхалы» представляет собой узкоспециализированное, во многом загадочное и при этом детально формализованное изложение внутренних йогических систем, являвшихся ключевой составляющей культуры сиддхов раннесредневековой Индии. Более того, все девять циклов практики (lam skor dgu), изначальным держателем которых был Дрокми и которые в таком виде передавались членами клана Кхон, отражали именно этот вид йогической техники. Данные системы возникли в среде, проникнутой культурой странствий и личных прав на источники духовности, поэтому в процессе развития они без труда порождали такие явления, как «безумная» линии преемственности Падампы или радикальные поступки ламы Жанга Ю-драк-пы. В целом, культура сиддхов редко способствовала развитию сильных буддистских институтов, поскольку это являлось прерогативой институционального эзотеризма. Это более позднее движение создавало и поддерживало свои институции посредством сакрализации иерархических отношений и саманта-феодализма в ритуальной системе буддийской мандалы и обрядах посвящения для вхождения в такие мандалы. Хотя системы сиддхов также использовали мандалы, их конечной целью было уничтожение, оставление практикующим, деконструирование или же изменение первичного смысла этих представлений, поскольку в их понимании они являлись прямым отображением институциональной идеологии, которую сиддхи считали низшей по отношению к своим собственным внутренним йогическим процессам и порождаемым ими психическим способностям.
В противоположность этому система тибетских аристократических ценностей была нацелена на защиту институционального долголетия, поскольку в сознании тибетцев еще были свежи вспоминания о хаосе начала периода раздробленности. Тем не менее, принимая на вооружение йогические системы, кланы получали огромную выгоду, поскольку их религиозный престиж, харизматичная сложность, а также привносимый ими образ могущества и авторитета проецировались на всех их последователей из числа членов данного клана. Кроме того, тибетцев всегда приводили в восторг повествования о безумных поступках и чудесных явлениях, поэтому можно сказать, что магический компонент религиозной жизни уже настойчиво стучался в двери консервативной Сакьи. Однако, процесс адаптации требовал, чтобы любое поведение, способствующее институциональной нестабильности укрощалось, пресекалось, ниспровергалось, интерпретировалось нужным образом или просто отвергалось. Это «институциональное одомашнивание» было осуществлено с помощью нескольких очень мощных средств, которые мы далее рассмотрим в порядке их значимости.
Наставники ламдре считали, что главная роль в учении принадлежит агиографиям, поскольку жития святых праведников помимо прочего содержат в себе и описания йогических практик. Агиография Сарорухаваджры за авторством Сачена является одним из самых ранних сохранившихся жизнеописаний этого индийского святого подвижника. Сонам Цемо контекстуализировал изучение Дхармы в свете общепризнанного повествования о жизни и деятельности Будды, а также посвятил одну из своих работ индийской линии передачи Амогхапаши106. Кроме того, он является автором короткой, но очень значимой для традиции агиографии Бари-лоцавы, с которым он сам никогда не встречался. Совместно с Дракпой Гьелценом им также были записаны самые ранние из сохранившихся до ныне генеалогий старой династии и ранняя генеалогия клана Кхон107. Дракпа Гьелцен тоже преуспел в искусстве составления жизнеописаний: его повествование о жизни и деятельности Вирупы стало основополагающим вариантом этой истории, с которым впоследствии сопоставлялись все остальные подобные произведения. Помимо этого, его перу принадлежат довольно обширные материалы о Канхе и линиях передачи Чакрасамвары, а также заметки о сиддхах и их практиках. Отдельно следует отметить, что работы Дракпы Гьелцена представляют собой настоящий кладезь любопытных сведений об Индии тех времен108. Он также является автором наиболее полного раннего списка распространения общин Восточной винаи (sde-pa/tsho) по провинции Цанг начиная с десятого века, а также описания связей этих групп с монашескими сообществами Индии109. Что касается линии ламдре в Тибете, то Дракпа Гьелцен представил предварительные наброски историй о Дрокми, Сетоне и Жанге Гонпаве (см. перевод «Хроники Тибета: линия наставников» в разделе 5.2 данной книги), а также написал первую часть повествования о жизни своих деда и отца.
Агиографии, сопутствующие специализированной литературе учений сиддхов, такие как, например, история Вирупы, являющаяся неотъемлемой частью ламдре, представляют этих йогинов личностями, преисполненными враждебности по отношению к небуддистам и предающимися различным развлечениям, но в тоже время считают их монахами, причем даже в тех случаях, когда ортодоксальные буддистские священнослужители изгоняли их из своих монастырей. Видимо по этой причине в сакьяпинских агиографиях в конечном счете все же все наступает торжество гражданских добродетелей. Авалокитешвара обуздал Вирупу, имевшего дурную славу разрушителя индуистских священных мест, и заставил его прекратить эту деструктивную деятельность. Гаядхара, солгавший Го-лоцаве о своей личности, в конце концов все же был разоблачен. Дрокми, не в силах выплатить свой долг Гаядхаре, заручился помощью Зура Шакьи Джунгне, обменяв одно из очень значимых учений на чистое золото.
К этим социальным и повествовательным факторам можно добавить тот факт, что ламдре не имело обязательной привязки к какой-либо конкретной мандале. В комментариях Сачена признается, что данный текст можно использовать как с мандалами Чакрасамвары, так и Хеваджры, хотя он и не во всем согласуется с йогическими системами, предписанными этими тантрами. На самом деле, популярность во второй половине одиннадцатого столетия кратких содержательных наставлений по медитации отчасти объяснялась тем, что эти тексты позиционировались как более целенаправленные и в некотором смысле превосходящие по своей действенности сами тантры. Таким образом, тантрические мандалы просто служили учебными пособиями, своего рода инструментами на пути медитации и практик, связанных с низшим посвящением. В противоположность им, йогические трактаты представали траекторией освобождения, летящей звездой, которая уносила йогина прямо в центр космоса. Грандиозные схематические представления визуализируемых внешних мандал могли способствовать вступлению йогина на путь бодхисатвы, но только формы высшей йоги являлись для него проводником в оплот самого Ваджрадхары.
Но для того, чтобы ламдре окончательно укоренилось в Сакье, его было необходимо встроить в некую церемониальную сферу, где были бы четко сформулированы ритуальные требования и поведенческие ограничения, налагаемые на практикующих это учение. Согласно хронике четырнадцатого столетия, самое первое собрание текстов ламдре появилось на свет в результате того, что Сачен поместил свой заключительный комментарий к «Коренному тексту *маргапхалы» под названием «Ньягма» вместе с несколькими короткими медитативными работами в специальный книжный шкаф из козьей шкуры, запиравшийся на замок. По этой причине, это изначальное собрание текстов стало называться «Саг-шубма» (Sag-shubma, Ящик из козьей шкуры)110. Сачен, вероятно, был знаком с подобным собранием, хранившимся у его наставника Жанга Гонпавы, однако, традиция отрицает, что Сачен когда-либо получал данные материалы, хотя в действительности эта группа текстов могла быть преподнесена ему вдовой Жанга Гонпавы.
Как бы то ни было, на данный момент мы не располагаем достаточными свидетельствами, которые бы позволили нам оценить традицию, основанную на материалах «Ящика из козьей шкуры». Однако, в собрании сочинений наставников сакьяпы сохранилась еще одна подборка медитативных произведений Сачена, что служит подтверждением практики Сачена составлять сборники своих текстов. Речь идет о «Четках из драгоценных камней, драгоценном собрании наставлений сакьи» (dPal sa skya pa’i man ngag gees pa btus pa rin po che’i phreng ba), включающем в себя сокращенные описания сорока девяти практик, который в общих чертах был рассмотрен в Главе 8111. Уже намного позже времен Дракпы Гьелцена традиция отказывалась признавать значимость этого весьма специфического сборника, однако, результаты исследований одиннадцати комментариев, приписываемых Сачену Кунге Ньингпо, указывают на то, что некоторые из этих сокращенных описаний практик, судя по всему, были инкорпорированы в его экзегезу «Коренного текста *маргапхалы»112. Также вполне очевидно, что это собрание сорока девяти текстов имело определенную значимость и для Дракпы Гьелцена, поскольку он, основываясь на прецеденте своего отца, составил свой собственный сборник, состоящий из тридцати двух коротких текстов113.
В буддистских медитативных традициях такого рода сборники имели давнюю историю и по факту являли собой изложение в сжатой форме основной сути канонических материалов. Особое внимание таким компендиумам уделялось в медитативных системах, где часто наблюдалось объединение ритуальных, медитативных и экзегетических материалов в единый текст, имевший чрезвычайную значимость для данного направления. Более того, другие линии передачи также оказались вовлечены в подобные процессы, и именно в эти времена по тем же самым причинам кадампа начала составлять свою собственную «Книгу кадампы» (hKa’ gdams glegs ‘ham)114.
Независимо от того, какие ранние сборники материалов ламдре существовали в действительности, для нас самым ранним из них является сохранившаяся до наших времен «Желтая книга» Дракпы Гьелцена. На наше счастье, этот текст дошел до нас в том виде, как он был задуман его создателем, поскольку состав и порядок следования частей в «Желтой книге» соответствует краткому «Содержанию компендиума» (gLegs ham gyi dkar chags), помещенному в ее начало. Дракпа Гьелцен так сформулировал свою цель написания «Содержания»: «Для того, чтобы исключить увеличение или уменьшение [количества] работ, включенных в этот том, я написал это оглавление»115. Для своего сборника Дракпа Гьелцен привлек материалы из нескольких источников, а название «Желтая книга» является ее обиходным прозвищем, возникшим из-за того, что оригинал рукописи был завернут в желто-золотистую ткань116. Сам Дракпа Гьелцен с юмором признает свою леность, проявленную им при создании «Желтой книги»: только когда половина первой ее версии была случайно утрачена, он, наконец, собрался и закончил «Содержание», причем главным побудительным мотивом для него стали постоянные просьбы об этом его заносчивого, невысокого, толстого, но очень умного ученика Шакья-драка117. Поскольку его автокомментарий к своему стихотворному рассуждению о нераздельности существования и нирваны (Rin chen snang ha shlo ka nyi shu pa’i rnam par ‘grel pa) датирован 1212 годом и упоминается в его же «Содержании», то оно, должно быть, было составлено где-то между 1212 годом и кончиной Дракпа Гьелцена в 1216 году. Таким образом, «Желтая книга», как это указано в «Содержании», являлась итоговой работой всей его жизни, которую он посвятил обучению ламдре.
Из всех известных мне материалов «Содержание» Дракпы Гьелцена действительно является самой ранней работой подобного рода. По своей сути это самодостаточный, составленный в виде отдельного текста перечень коротких произведений, объединенных в единое целое в соответствии с неким духовным планом и обретших неоспоримую аутентичность благодаря тому, что посредством их реализуются его сокровенные идеи. Позднее в Тибете было продолжено создание тщательно проработанных каталогов подобных компендиумов. К примеру, они присутствуют в работах кхамских писателей конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий Джамьянга Лотера Вангпо и Конгтрула Лотро Тайе, чьи высказывания о ритуальных сборниках и принципах их организации являются весьма поучительными118. Однако, если говорить о начале тринадцатого столетия, то для тех времен эта работа Дракпы Гьелцена явно казалась новаторской.
На самом деле «Содержание» полностью не исключает незначительные корректировки самого сборника, хотя в нем и содержится утверждение, что целью его создания было предотвращение подобных действий. Оно включает в себя высказывание, согласно которому можно не обращать внимания на тексты разделов IV и VIII, что, по всей видимости, и происходило на практике. Однако, соблюдение этих ограничений явно не входило в планы более поздних редакторов. Все современные издания «Желтой книги» далеки от того, чтобы следовать заветам Дракпы Гьелцена, и на самом деле содержат гораздо большее число материалов, чем он предписывает в своем «Содержании», причем точный перечень текстов, входящих в состав сборника, является предметом споров, как минимум, с семнадцатого столетия119. Каким бы ни были состав и порядок следования материалов в различных рукописных и печатных версиях, в «Содержание» указывается на обязательное присутствие следующих разделов:
|
Категория
|
Порядковый номер текста
|
Страницы в LL II
|
|
I. Содержание «Желтой книги»
|
1 автор Дракпа Гьелцен
|
1-8
|
|
II. «Коренной текст» и «Ньягма»
|
2 – 1 припис. Вирупе; 1 автор Сачен
|
11-19, 21-128
|
|
III. gsal ba’i yi ge nyi shu rtsa gsum
|
24: 13 автор Сачен (плюс «Асенгма» становится 14); 10 автор Дракпа Гьелцен
|
128-91
|
|
IV. gsung ba’i yi ge dum bu bcu bdun (присутствует не все)
|
17: автор Сачен; 2 автор Сонам Цемо; 12 автор Дракпа Гьелцен
|
191-292
|
|
V. lam bring bsdus
|
2 автор Сачен
|
292-99
|
|
VI. gzhung shing chen po bzhi
|
4: 2 или 3 автор Сачен; 1 или 2 автор Дракпа Гьелцен
|
300-32
|
|
VII. rtogs pa bskyed pa’i chos lnga
|
5: 4 или 5 автор Сачен; 1 или ничего автор Дракпа Гьелцен
|
323-44
|
|
VIII. dpe chung (присутствует не все)
|
9: 6 автор Сачен; 3 автор Дракпа Гьелцен
|
481-581
|
|
IX. bla ma brgyud pa’i lo rgyus
|
2 автор Дракпа Гьелцен
|
581- 99
|
Благодаря «Содержанию» мы можем представить данный сборник в виде совокупности девяти крупных разделов, игнорируя при этом включения из более поздних материалов120. Первый раздел – это само «Содержание» (I). Далее следует «Коренной текст *маргапхалы» и его комментарий «Ньягма» (II) (такое соседство, возможно, стало одним из ключевых факторов, способствующих устойчивой популярности «Ньягмы»)121. Следующий крупный раздел (III) включает в себя двадцать три короткие работы, разъясняющие отдельные части «Коренного текста *маргапхалы» и заканчивается «Асенгмой» – кратким изложением «Коренного текста *маргапхалы». Во многих из этих коротких работ раскрывается сущность отдельных дискуссий, описанных в комментариях Сачена, а также объясняется, как данные комментарии были созданы. Тринадцать из этих работ принадлежит Сачену, и их можно довольно легко идентифицировать и отличить от сочинений его сына122.
Следующий раздел (IV) содержит семнадцать наименований работ, семь из которых не представлены в нынешнем издании. Эти семь произведений посвящены всестороннему посвящению, практике процесса зарождения, тантрическим обетам, тантрическому пиршеству, жертвоприношению хома и ряду других вопросов. Дракпа Гьелцен утверждал, что их можно либо включить в данный сборник, либо использовать отдельно, поскольку они подходят как для начинающих, так и для продвинутых учеников123. В начале списка этих семнадцати работ находятся два самых влиятельных трактата сакьяпы: стихотворный текст Дракпа Гьелцена и его же комментарий к точке зрения на нераздельность существования и нирваны (‘khor ‘das dbyer med), основанный на принципах совершенно отличных о тех, что придерживаются, к примеру, ньингма или же экзегеты «Гухьясамджа-тантры»124. В его трактовке эта взаимосвязь структурируется посредством процесса завершения (sampannakrama) системы ламдре, в которой внутренним мандалам ваджрного тела отводится доминирующая роль в отождествлении неволи и освобождения. Начиная с шестнадцатого столетия и далее глубоким анализом одного из ответвлений этой системы занималась сакьяпинская подшкола цар-па (Tsar-pa), и их работы считаются одним из ценных вкладов сакьяпы в эзотерическую доктрину125. Вслед за первыми двумя произведениями следуют тексты, относящиеся к конкретным вопросам практики, а также четыре кратких обсуждения, посвященных прояснению психофизических препятствий, три из которых написаны Саченом126.
Раздел V содержит работы, конкретизирующие идею среднего и сокращенного пути, о которых лишь только упоминается в конце «Коренного текста *маргапхалы». Шестой раздел (VI) состоит из «четырех великих центральных столпов». Здесь в общих чертах излагаются наиболее важные теоретические соображения, не вошедшие в материалы о нераздельности существования и нирваны. Поскольку большинство из них приписывается Сачену (однако, насколько точно они принадлежит его перу неясно), мы уже рассмотрели их в Главе 8. Седьмой и восьмой (VII и VIII) разделы возвращают нас к конкретным практикам, которые описаны в «Коренном тексте *маргапхалы» лишь частично. Сюда относятся наставления по сексуальным практикам и практикам психического тепла, а также многие тексты, которые перечислены в «Содержании», но исключены из нынешнего издания. Три текста Дракпы Гьелцена, включенные в эти разделы, демонстрируют нам экзегетические устремления их автора127, который не оставляет попыток использовать общепризнанные священные тексты в качестве обоснования практик, присутствующих в «Коренном тексте *маргапхалы». Однако, вопреки своим намерениям он лишь демонстрирует нам, что некоторые практики могут быть внедрены в канон только посредством выдающейся интерпретационной эквилибристики. Наконец, раздел IX содержит агиографические материалы, касающиеся истории Вирупы, а также описание деятельности Дрокми в Индии и Тибете, которые были переведены в Главе 5.
Как уже упоминалось выше, в разделе IV признается, что некоторые его материалы подходят и для начинающих. В их число входят работы, посвященные мандале «Хеваджры», ее обрядам инициации, а также связанным с ними ритуалами, т.е. то, что было необходимо ламдре для стабилизации ее институциональной базы в соответствии с эзотерическими принципами. Сачен уделял повышенное внимание медитативным наставлениям (sadhana) и в особенности тем, что относились либо к линии передачи «Чакрасамвары» Канхи, либо к мандале «Хеваджры» Сарорухаваджры. Последнее Сачен, похоже, считал эталонным материалом по медитации «Хеваджры». Нет сомнений, что этой же оценки придерживались и его предшественники в линии передачи ламдре, и можно смело предположить, что мандала Сарорухаваджры начала тесно ассоциироваться с ламдре еще во времена Дрокми. Судя по всему, Сачен создавал тексты посвящения для «Хеваджры», в которых были полностью учтены специфические особенности ламдре, поскольку его краткие тексты по этой же тематике присутствуют не только в «Желтой книге», но также встречаются и в других материалах, принадлежащих перу Сачена128. Большинство из них посвящено вопросу представления тела в виде мандалы, наблюдаемой практикующим в процессе завершения, и лишь изредка они затрагивают внешнюю формальную мандалу, используемую в процессе зарождения. Хотя некоторые из этих работ рассматривают вопросы интеграции ламдре во всеохватное институциональное движение, похоже, что Сачен так и не создал единого унифицированного текста посвящения или специального ритуального руководства, которые можно было бы использовать для этой цели.
Однако, ко второй половине двенадцатого столетия сакья, по всей видимости, уже представляла собой совершенно иной институт, и братья явно ощущали потребность в таких текстах. Как уже упоминалось ранее, самым ранним идентифицируемым текстом Сонама Цемо был краткий конспект посвящения Найратмьи (bDag med ma’i dbang gi tho yig), которое тесно связано с посвящением Хеваджры, поскольку Найратмья считается мифической супругой Хеваджры и иерофантом Вирупы. Повзрослев, Сонам Цемо начал создавать свои первые специализированные систематические тексты как для посвящения, так и для медитации на Хеваджру, основанные на принципах ламдре. В то время как тексты посвящения его отца по большей части описывали внутренние телесные мандалы и были весьма лаконичны, работы Сонама Цемо были посвящены внешней формальной мандале (phyi dbyibs dkyil ‘khor) и предлагали обширную ритуальную систему, соответствующую подходам ламдре. Похоже, что большинство произведений Сонама Цемо, связывающих ламдре с базовой ритуальной моделью, основываются на предшествующих им работах Сарорухаваджры. К примеру, в основном медитативном тексте используется четырехчастная систематизация, при которой процесс зарождения делится на четыре стадии в виде четверного ваджры (vajracatuska): служение (seva), предварительное достижение (upasadhana), достижение (sadhana) и великое достижение (mahasadhana). Эта стратегия медитации, которую использовал и Сарорухаваджра, была общепринятой моделью еще со времен «Гухьясамаджа-тантры»129.
Вклад Дракпы Гьелцена в это направление был несколько иным, поскольку он, очевидно, понимал, что, несмотря на свое сокращенное изложение, на практике четырехчастный ритуал получается довольно длинным. Похоже, что побудительным мотивом для создания им более короткой версии, а также выбора метода ее разработки, стало его стремление максимально ассимилировать ламдре в местную среду, поскольку, если бы Дракпа Гьелцен подобно Дрокми окружал себя лишь небольшой группой учеников, то маловероятно, чтобы он был заинтересован в распространении более короткого текста. В своем сочинении Дракпа Гьелцен отказался от четырехчастной структуры ритуала и обратился к его шестичастной форме. Для этого он решил использовать сравнительно малоизвестную работу, автор которой сыграл важную роль в формализации экзегетического метода ламдре: «Садангасадхану» Дурджаячандры (To. 1239), переведеную Ратнашриджняной и Дрокми. В основу медитативного текста Дурджаячандры положена идея шести стадий, описанных в четвертой главе «Ваджрапанджара-тантры», т.е. его работа опиралась на общепризнанный канонический источник130. Эти шесть стадий определяют порядок визуализаций нормативного процесса зарождения: дворец; страстное желание обрести божественное состояние; посвящение собранными перед собой «мистическими сущностями»; вкушение нектара пяти серозных субстанций; подношения Хеваджре и его свите; восхваление сопровождающими его богинями. Выбирая работу Дурджаячандры, Дракпа Гьелцен, очевидно, хотел не только подчеркнуть связь между двумя линиями передачи ламдре, но и способствовать популяризации трудов Дурджаячандры, чьи сочинения оказали весьма значительное влияние на его собственное развитие131. Это ярко выраженное предпочтение Дракпа Гьелцена способствовало тому, что шестисекторная форма мандалы Хеваджры с той поры в сакьяпе считается нормативной, следствием чего стало появление множества других разработок по данной тематике, а также возникновение некоторых спорных вопросов132.
Все эти работы в наилучшей степени отображают грандиозные усилия сыновей Сачена по созданию авторитетной текстовой основы ритуалов, необходимых для полной интеграции ламдре в институциональную среду своей традиции. Кроме того, были созданы независимые работы о подношениях торма (ячменных лепешек), широкое разнообразие наставлений по огненным жертвоприношениям, а также тексты по другим родственным ритуалам. Все эти разработки опирались на предшествующие ритуальные материалы, переведенных Дрокми или другими авторами, ассоциируемыми с линиями передачи у истоков которых стоял сам Сачен. В рамках этой деятельности подвергся обработке даже метанарратив дисциплинарного кодекса магов (vidyadhara samvara), что выразилось в составлении Дракпой Гьелценом очень пространного и авторитетного изложения четырнадцати коренных тантрических обетов и восьми дополнительных обязательств133.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
1. Pakpa’s letter to Khubilai, ca. 1255-59, rGyal bu byang chub sems dpa la gnang ba’i bka’ yig, SKB VU.238.3.2-4. This letter was noticed by Szerb 1985, p. 165, n. 2. He is undoubtedly right in identifying this letter as addressed to Khubilai, and it was written to Khubilai before he achieved his election as Khan on May 5, 1260; Rossabi 1988, pp. 51-52; Ruegg 1995, pp. 38-40. In his new years’ greetings of 1255-58 to Khubilai, ‘Phags-pa generally uses the phrase “Prince- Bodhisattva” when addressing Khubilai, once adding Khubilai’s name (Tib: go pe la); see rGyal po go pe la sras dang btsun mor hcas lashing mo yos sogs la gnang ha’i bkra shis kyi tshigs bead rnams, SKB VIl. 30 0 .3.7 (1255), 301.1.4 (1256), 301.4.7 (1258); the undated text between 1256 and 1258 has bsod rnams dbang phyug rgyal ba’i sras po go pe la instead (301.2.1). One of ‘Phagspa’s other compositions addressed to Khubilai Khan, his bsNgags par ‘os pa”i rah tu byed pa, written in response to Khubilai’s successes against the Song dynasty in 12751 is almost as obsequious.
2. The consequence of Sa-skya Pal).Qita’s effective imprisonment was that he produced virtually nothing while in Mongol internment; Jackson 19871 vol. 11 pp. 28-29, 68. Tucci 1949, vol. 1, pp. ro – 12, translated a letter to Tibetans attributed to Sa-skya Pandita on their dire position; its authenticity was challenged in Jackson 1986.
3. Petech 1990, pp. 16-22. On the office of national preceptor, see Ruegg 1995, pp. 18-19, 46-52. On the antecedents of the imperial preceptor, see Dunnell 1992; Sperling 1987.
4. Franke 1981, pp. 58-69; Heissig 1980, p. 24. It is difficult to follow Ruegg 1997, p. 865, that neither Sa-skya Pandita nor ‘Phags-pa was “in a position to compose a full theoretical treatise on the ‘constitutional’ relation between the two orders represented by the Officiant/Spiritual Preceptor and the Donor-Ruler” because of excessive responsibilities. I would instead argue that such an idea was without Indic precedent and would have proved extraordinarily problematic in both theory and practice. Compare rGyal po la gdams pa ‘i rah tu hyed pa ‘i rnam par hshad pa gsung rah gsal ba’i rgyan, esp. SKB VI l. 95.1.6- 4.11 on the esoteric vows between master/disciple. Szerb 1985, p. 168, indicates that the work was by Shes-rab gzhon-nu but supervised by ‘Phags-pa.
5. Franke 1978, pp. 58-61; Szerb 1980, p. 290; Rossabi 1988, p. 143; Crupper 1980, pp. 47-63, app. 1; and Sperling 1991 and 1994, most of whom emphasized the role of Mahakala rituals in the Mongol and Tangut worlds; Sperling 1994, p. 804, observed that “one pivotal element in the relationship was a shared belief in the efficacy of rituals linked to Mahakala as a means for manifesting powers that could be harnessed to the Mongol imperium.” While the statement is doubtlessly the case, the texts cited are from the sixteenth and seventeenth centuries, a time when Mahakala became especially important. Heissig 1980, pp. 26-27, 56, shows that Mahakala became for later Mongols a ritual system devoted to mediating relationships with animals, which was perhaps also true for the early Mongols.
6. Rossabi 1988, pp. 145-47.
7. For a summary, see Petech 1990, pp. 39-140.
8. Petech 1990, p. 9. Like most modern historians, Petech glosses over the availability of descendants of the royal family to be taken by the Mongols as Tibetan representatives and their hostages.
9. Rossabi 1988, pp. 143-44.
10. Jagchid 1970, pp. 121-24.
11. Wylie 1977, pp. 113-14.
12. Rossabi 1988, pp. 16, 41. Crupper 1980, pp. 53-54, app. 1, cites the 1739 Altan Kurdun Mingyan Gegesutu Bic’ ‘ig.
13. Szerb 1980, p. 290, sums up the difficulty of this fuctionalist-reductionist supposition: “The primary reasons for the growing influence of the Sa-skya sect were no doubt political. But as Mongol rulers were generally enthusiastic about magic … “
14. Ratchnevsky 1991, pp. 96-101; Cleaves 1967.
15. Meyvaert 1980, pp. 252-53.
16. Boyle 1968, pp. 538-42; Petech 1990, pp. 11-12.
17. Heissig 1980, pp. 26-28; Jagchid and Hyer 1979, pp. 180-82.
18. Szerb 1985; Sperling 1994; and Ruegg 1995 have made contributions in this direction.
19. For example, Petech 1990, p. 2; Wylie 1977, p. 103. We may note that even as late as Ruegg 1995, who is certainly not a functionalist, the early (1283) ‘Phags-pa hagiography in the Lam ‘bras slob bshad collection, bLa ma dam pa chos kyi rgyal po rin po che i rnam par thar pa rin po che”i phreng ba, by Ye-shes rgyal-mtshan, was overlooked.
20. On the Mongol patronage of the Kashmiri master Na-mo, see Jagchid 1970, pp. 117- 20; 1980, pp. 80-84.
21. For a translation of the biography of Kuma rajiva’s captor, Ltiguang, see Mather 1959, esp. pp. 4-6, 35, 86- 87; on Kumarajiva’s life and position, see Robin son 1967, pp. 71-95.
22. Wright 1990 , pp. 34-67 (originally published in HJAS 11 [1948]: 321-71). Wright’s analysis of Fotudeng’s relationship to Shile and the Shi clan is somewhat more sophisticated than most later proposals of ‘P hags-pa’s interaction with Khubilai. Wright maintained that the Kuchean monk demonstrated the “fetish power of Buddhism in four fields”: rain making, military advice, medicine, and politics.
23. For a list of the Mongols and their Tibetan teachers, see Wylie 1977, p. 108, n. 16.
24. Heissig 1980, p. 25: “Not only Chinese sources but also Mongolian sources describe the orgies celebrated at the Mongol court as the result of the profane misunderstanding of this doctrine, and the degeneration of the Mongolian ruling class which went along with this, as one of the most important causes of the collapse of Mongol rule over China (1368).”
25. For a recent assessment of the process, see Ehrhard 1997.
26.The problem of Bon sources is discussed by Martin 2001b, pp. 40-55. I have perused most of the literature he mentions, but with such meager results that I feel the topic would be better pursued by Bon specialists.
27. This date has been consistently represented as 1253 or 1258; see Szerb 1985, p. 166; Ruegg 1995, pp. 33, n. 42 (1258, relying on the mKhas pa’i dga’ ston, pp. 1414-15), pp. 48-49, nn. 88, 54. Most scholars apparently follow the 1736 Sa skya gsung rah dkar chag, p. 316.4.2, which gives 1253. The early hagiography in the Lam ‘bras slob bshad collection, bLa ma dam pa chos kyi rgyal po rin po che ‘i rnam par thar pa rin po che’i phreng baby Yes-shes rgyal-mtshan is entirely silent about the ostensible three consecrations (‘Phags-pa’s relationship to Khubilai is specified on pp. 304-6, 327-29), but ‘Phags-pa’s own bsTod pa rnam dag gi phreng ba SKB VII.143.3.2 gives the date of Khubilai’s initiation as 1263 (chu mo phag). The rGya bod yig tshang chen mo of 1434 gives the date of the consecration sometime after the fifth month of 1255 (p. 326.8) and before ‘Phags-pa’s return to Tibet in 1256 ( p. 328.4). The tradition that Tibet was a consecration gift (dbang yon) from Khubilai to ‘Phags-pa seems first to appear in the rGya bod yig tshang chen mo, p. 327, and is possibly a post Yuan Sa-skya attempt to claim continued authority in Tibet, long after actual political dominion had been lost to Phag-ma gru-pa Byang-chub rgyal-mtshan. My suspicion is that the consecration was given only once, in 1263, but that it kept getting conflated with other events, eventually to be combined with the myth of Tibet as a gift for consecration.
28. Stearns 2001 is referenced throughout, and our differences in reading the material will be apparent .
29. Davidson 2002c, pp. 1-24, is devoted to this issue. Intellectuals in traditional societies perceive their agenda as the reaffirmation of the religious culture, by gloss ing over difficult issues of discontinuity, innovation, and unethical conduct and by restricting the questions asked to those already affirmed by the tradition. For traditionalists, the preferred method of treating modern, critical history is to launch an ad hominem attack discounting the historian and his or her motives, behavior, or psychology.
30. Davidson, Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement.
31. Spitz 1987, vol. 1, p. 2; Cochrane 1981, pp. 14-20.
32. See Green 1988, pp. 120-21; See Maristella Lorch, “Petrarch, Cicero, and the Classical Pagan Tradition, ” in Rabil 1988, vol. r, pp. 71-114.
33. The social position of medieval artisans is treated in Mayamata, chap. 5; compare Dubois 1897, pp. 34-35, 63, who believes the problems of bad government are at fault. A good modern study is that by Kumar 1988, pp. 12-62, which looks at the social status of artisans in Banaras. For the rise in artists’ status in sixteenth century Europe, see Martines 1988, pp. 244-59; Burke 1986, pp. 74-87- The relationship of medicine to religion took some time to emerge; the Deb ther sngon po, for example, does not mention the rGyud bzhi or the other medical or artisan works. There is material on medicine and other arts in the 1434 rGya bod yig tshang chen mo, yet the author seems to indicate that, as in the case of his discussion of swords ( p. 232), precious little had been written earlier. Earlier works on medical history seem to stem from the twelfth century; see Martin 1997, nos. 17, 35-37, 105, etc. The twelfth century is the time we also see medicine in the Sa-skya, and Crags-pa rgyal-mtshan devoted a work to the science, which is conspicuously placed as the last item in his collected works; gSo dpyad rgyal po’i dkor mdzod, SKB IV.354.3.1-396.1.6.
34. An example of the application of these categories to the visual arts in Tibet is Klimburg-Salter 1987.
35. Stark and Bainbridge 1985. More recent interesting studies on emerging religions phenomena include Barrett 2001; Dawson 2001; and Fink and Stark 2001, among many others.
36. Gould 2002, pp. 745-1022, is an extended treatise on this model and its application to culture.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В период фрагментации аристократические кланы и региональные властители стали центрами как политической, так и религиозной власти, а иногда обеими ими сразу был облечен один и тот же человек. Тибетское общество было очень сильно сегментированным, т.к. аристократия (sku drag или sger pa) имела в своей собственности разнообразные земельные владения, как большие, так и очень маленькие, которые были разбросаны по всему Тибету 84. Демонстрация ими своих прав на земельные владения выглядела следующим образом: когда какому-либо клану удавалось закрепить за собой территорию в определенной местности, он часто брал географическое названия его основных или первых владений в качестве наименования всего клана. Таким образом, многие из старых аристократических кланов династического периода начинали как местные властители, имевшие земельные владения в Чиме, Нупе, Ле, Ча и т.д., а затем это топонимы становились наименованиями их кланов. Члены одного и того же клана считались потомками общего божественного предка, при этом они, как и везде в аристократических домах, заключали брачные союзы руководствуясь социальным статусом и предполагаемой выгодой. В более поздних документах сохранился список владений кланов в последние годы имперской династии (Таблица 2), однако, географическое положение некоторых из перечисленных в нем территорий неясно. Более того, в нем не представлены многие из наиболее значимых кланов конца десятого и начала одиннадцатого столетий. О других кланах нам известно из дуньхуанских документов и записей, цитируемых тибетскими историками последующих периодов85.
Таблица 2. Владения кланов периода имперской династии
|
Гражданская и военная администрация
|
|
Уру: кланы Нанам, Бе, Нон и Шобу.
Йору: кланы Ньянг, Чим, Е и Со.
Йеру: кланы Кхьюнгпо, Го, Па-цап и Лангпа.
Рулак: кланы Дро (‘Бро), Кхьюнгпо, Намде и Чим.
|
|
Земельные владения
|
|
Местность
|
Кланы
|
|
Ярлунг сог-ха
Ямдрок нак-хим
Чинг-нга, Чинг-ю
Ча-ук са-цик
Дре (Брад) и Жонг-па
Драг-рум то-ме
Цанг то-ме
Лунг-шо нампо
Пен-юл
Ньянг-ро, Дромпа
Шанг, Ле
Юнг-ва че-чунг
Жа-гэ десум
Нам-ра, Чаг-гонг
Дам-шо карма
|
Кху, Ньяк
Куринг де-нга
Го, Нуп
Дранг-дже па-нга
Нанам
Чепонг
Дро (‘Бро), Кхьюнгпо
Дру (‘Дру), Чук-цам
Дро (sGro), Ма
Дре, Че
Чири, Ле
Дранка
Бе
Дринг, Чаг
Ча (Пхья), Ра
|
Источник: mKhas pa’i dga’ ston , стр. 186-91.
Дополнительный список показывает перемещение кланов вследствие восстаний: Дро и Чог-ро ушли в район Дромпа/Лхаце; Ньянг и Нанг удерживали Дранг-хар Че-чен; Шупу и Ньива захватили Ча-цанг гунг-нанг; Кху и Ньяк контролировали Намо шампо; а Це и еще одни Шупу заняли По-гю цехар86. Здесь мы видим, что ветви клана могли одновременно владеть территориями в различных географических областях, к примеру, Дро имели земельные владения в таких разных местах, как северо-восточный Тибет (Амдо) и Ладакх.
Несмотря на то, что указанные кланы обладали огромной властью, это вовсе не означает, что клановые структуры были закостеневшими подобно кастовой системе, поскольку тибетская социальная динамика в целом поддерживала ограниченную мобильность с возвышением в особых обстоятельствах новых кланов и, соответственно, уходом в тень других87.
Конечно, некоторые кланы из числа старых династий, такие как Кхьюнгпо или Ньо, в итоге смогли сохранить себя до наших дней, однако множество других полностью исчезло. Следует также отметить, что возвышение многих аристократических домов современного Тибета произошло в результате воздействия ряда факторов88. К ним можно отнести накопление чрезмерных богатств благодаря обладанию деловой хваткой, признание воплощенцем ламы (особенно Далай-ламы) кого-либо из обычной семьи или же возвышение человека с исключительными способностями, которое могло произойти по разным причинам. В нашем случае, когда в Тибете миновал период «темных времен», как старые (Нгок, Чим, Че и пр.), так и новые кланы (Марпа и пр.) стали частью процесса возрождения и смогли продемонстрировать свою способность к дальнейшему развитию.
Более того, порядок вступления в брачные отношения в десятом и одиннадцатом столетиях выглядел более гибким в сравнении с ранними временами, когда брачные ограничения, порожденные системой аристократической градации, действовали достаточно жестко89. Хотя аристократические семейства периода возрождения, как правило, выбирали себе супругов из других аристократических семейств, иногда представители разных линий одного и того же клана вступали в смешанные браки. Были даже примеры женитьбы выдающихся простолюдинов на дочерях аристократов, как в случае с великим переводчиком Дрокми. Иногда кланы делились на вторичные аристократические дома и даже меняли свои названия. Например, член одной из ветвей клана Чим, древнего дворянского рода, в десятом столетии изменил свое именование на Жанг, хотя причина этого изменения не указывается. В имперский период такое имя присуждалось наиболее значимым министрам, как правило, за то, что они выдавали своих дочерей за членов императорского дома. Поэтому, вполне возможно, что этот человек служил в качестве министра в одной из уцелевших ветвей династии90. Другие ветви кланов употребляли вторичный термин «угол» (zur), используя строительную метафору для обозначения субклана, точно так же, как мы используем садоводческую метафору (к примеру, «ветвь»). Так что вполне возможно, что хорошо известные сторонники ньингмы клан Зур из провинции Цанг получили свое наименование именно таким образом.
Клану Зур принадлежала одна нестандартная практика: усыновление молодого человека – близкого или дальнего родственника – с целью сделать его наследником одной из ветвей клана91. Со временем такая форма усыновления стала важнейшей правовой системой, поддерживающей стабильность более поздней тибетской аристократической структуры, а свидетельства об ее существовании в одиннадцатом столетии указывают нам на то, что, по всей вероятности, она также практиковалась и в ранних традициях. Усыновление иногда было необходимо в случае целибата наставника, являющегося землевладельцем, т.к. для сохранения собственности после его кончины ему мог понадобиться наследник из его же клана, чтобы храмовые постройки и любые относящиеся к ним земли не были оспорены или конфискованы местным правителем. В то время как некоторые древние храмы неоспоримо считались собственностью общины, обязанной вносить плату (khral tsho) за их содержание и собирать средства, идущие на оплату организационных расходов, другие содержались как частная собственность или часть поместья, и время от времени этот вид храмов становился предметом споров. В таких случаях члены аристократического дома могли сохранить свои права собственности посредством усыновления.
Несмотря на все вышеизложенное, на самом деле мы очень мало знаем о структурах и организации кланов в периоды ранней раздробленности и раннего возрождения. Их состав, специфика брачных отношений, формирующее их население, особенности распределения, а также множество других вопросов до сих пор покрыты для нас пеленой исторического тумана. Иногда – как в случае с кланами Че, Ньянг, Ньяк, Кхан и Ланг – сохранились некоторые скудные записи, но они редки и часто неинформативны в части десятого и одиннадцатого столетий92. Другие фамильные документы известны нам только по слухам, как, например, семейная летопись клана Нгок, и пока попадаются только в виде названий рукописей, встречающихся в других источниках93. Тем не менее, ясно, что к концу десятого столетия одни кланы расширяли свои владения и сферы деятельности, а другие оставались статичными, причем такие попытки расширения чаще всего перетекали и в область религии94. К примеру, кланы Че и Нгок в конечном счете стали активно участвовать в различных буддистских линиях передачи, и эта модель доминирования кланов в религиозных делах продолжала существовать в качестве постоянной темы на протяжении всей истории Тибета. Вследствие этого, мы постоянно возвращаемся к обсуждению кланов, поскольку формирование стабильных тибетских буддистских институтов в конечном счете зависело от глубины вовлеченности и чувства ответственности великих кланов за этот процесс.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Затем молодой наставник Рало приступил к деятельности, которой посвятил большую часть своей последующей жизни: обучению новому откровению Ваджрабхайравы, участию в магических противоборствах, а также обеспечению мира и процветания в различных частях Тибета. Проводя циклы публичных презентаций этой (считавшейся тайной) традиции и повсеместно продвигая ее ритуалы, Рало, по-видимому, следовал лишь минимальным ограничениям, хотя согласно агиографии его наставник не раз предостерегал Рало как раз от таких поступков61. В то время как невары продолжали хранить свою ритуальную жизнь в глубокой тайне, именно с одиннадцатого столетия тибетцы (за малым исключением) начали проявлять готовность к компромиссу в вопросе тайной сущности эзотерической системы. К примеру, противники Рало, судя по всему, имели полную информация о его ритуальной жизни, а центральным элементом этого противостояния было их враждебное отношение к его публичным выступлениям.
Вопросы норм поведения и неуместной публичности выдвигал на передний план и первый оппонент Рало из числа священнослужителей Кхон Шакья Лотра из расположенного в Цанге Мугулунга (о нем см. далее в обсуждении находившейся там резиденции Дрокми), который проникся завистью к успехам и славе Рало. В литературе Шакья Лотро описывается как член семейства Кхон из Цанга, и, вполне вероятно, что он был истинным отцом Кхона Кончока Гьелпо, предполагаемого основателя монастыря Сакья. В соответствие с тем, что мы знаем о клане Кхон, Шакья Лотро мог быть наставником ритуальных и медитационных практик Ваджракилы и Янгдака Херуки – двух хорошо известных систем ньингмы, которые практиковал и сам отец Рало. Говорят, что пытаясь противодействовать успеху Рало Кхон Шакья Лотро распространил заявление, согласно которому молодой переводчик «запросил у тиртхика по имени Бхаро [ритуал] божества тиртхиков с головой животного. Выполняя его, он сбивает с толку всех этих людей, и даже встреча с ним приведет вас в ад!»62. Услышав об этом, Рало решил во избежание конфликта покинуть Тибета и отправиться в Непал.
Однако, от имени всего тибетского народа в дело вмешался Авалокитешвара, указав на то, что даже ему, бодхисатве сострадания, приходится использовать крайние меры для усмирения совсем уж неуживчивой клиентуры: «Особенно на этом острове тьмы, известном как страна Тибет, где люди делают всевозможные заявления о величии своего учения, своей личности и своего доктринального воззрения, понося при этом других, накапливается злая карма, но ведь это страна черной магии (abhicara)!»63. Следуя приказу этого защитника Тибета Рало был вынужден вступить в бой со своим врагом. С помощью ритуалов умерщвления (abhicara) системы Ваджрабхайравы он лишил жизни Кхона Шакью Лотро, и все увидели как Ваджрабхайрава, несущий мандалу пятидесяти восьми божеств Янгдака в чаше из черепа в качестве демонстрации своего превосходства над ним, слился с Рало64. Покровители и ученики Шакья Лотро решили отмстить и собрали для этого армию, но Рало с помощью заклинаний вызвал сильный ветер, который разбросал ее во все стороны. После этого, согласно источнику, ученики Кхона Шакьи Лотро стали учениками Рало, а его феодальные подданные (‘bangs) сделались подданными победителя.
Слава Рало разнеслась по всему Тибету, при этом согласно агиографии большую часть своего времени он отдавал ремонту старых храмов в Дингри, Лато и других местах, как это делали до него монахи, прибывшие в Центральный Тибет из Цонгкхи. Рало повсеместно финансировал копирование священных писаний, принимал участие в создании и ремонте статуй, запрещал охоту и рыбную ловлю, ограничивал движение по дорогам и рекам для защиты от бандитов, освобождал заключенных, томившихся в тюрьмах капризных тибетских правителей, и кроме этого совершал множество других добродетельных поступков65. Однажды он отправился к знаменитому наставнику ньингмапинской системы Ваджракилы Ланглапу Джангчубу Дордже, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Однако, Ланглап осудил Рало, предъявив ему уже известные обвинения в том, что Ваджрабхайрава и Бхаро являются порождением тиртхиков и вообще не имеют никакого отношения к подлинной буддистской линии передачи учения. Не придя к согласию, стороны вступили в противоборство с использованием магии. Но на этот раз Рало не смог одержать победу и едва спасся от смерти. Кроме того он был вынужден с помощью магии оживлять своих учеников после того, как Ланглап наслал на них дождь из молний в форме ваджракилы. Затем Рало явилась богиня Тара и посоветовала немедленно возвращаться в Непал, поскольку для того, чтобы победить столь могущественного противника, ему необходимо было пройти углубленное обучение под руководством Бхаро. В соответствии с этим указанием, Рало вернулся в Непал, где получил от Бхаро новое учение, дополнив его руководствами других наставников долины Катманду, таких как Пхамтхингпа, индийский Ваджрапани и Хаду Карпо66. Здесь он посетил известные места паломничества, а затем в составе большой группы торговцев отправился из Патана в Индию. Там он, согласно источнику, направился в Наланду, где получил монашеское посвящение, после чего прошел обширное обучение у непальца Мандзу-лингпы, бывшего в то время настоятелем этого монастыря. Спустя какое-то время Рало вернулся сначала в Непал, а затем и в Тибет. Здесь он снова бросил вызов Ланглапу Джангчубу Дордже, в итоге одержав над ним верх в магическом сражении67.
С тех пор и до самой смерти Рало продолжал обучать системе Ваджрабхайравы все возрастающую аудиторию своих последователей, попутно убивая своих врагов в магических состязаниях, возрождая старые храмы (включая Самье) и периодически соблазняя молодых женщин. Ближе к концу агиографии Рало бросает вызов (подобно тому, как он это делал ранее) Геше Треу-чоку. «Если, – спросил добрый геше, – вы следуете обетам бхикшу, то не боитесь ли вы, что ваша увлеченность убийствами и сексом (sbyor sgrol) приведет вас в ад?»68. Рало ответил, что на его совести убийство тринадцати ваджрадхар, включая сына Марпы Дарму Доде, а также наличие пяти супруг, включая одиннадцатилетнюю дочь Конгпо Агьяла69. При этом, он утверждал, что ни в чем не раскаивается, даже несмотря на то, что эта последняя выходка привела его в тюрьму, и что в целом он рисковал переродиться в аду. Он также не раскаивался и в том, что сто двенадцать храмов, в том числе Самье и Трандрук, были отремонтированы ценою жизни множества людей, умерших от голода. Ничто из того, что другие назвали бы «извращенным», не вызывало у него сомнений, поскольку все это он делал ради умилостивления Ваджрабхайравы. Тибетцы в целом позитивно воспринимают литературный образ Рало, хотя даже апологет ньингмы Согдокпа приписывает Рало убийство тринадцати бодхисатв и тринадцати переводчиков посредством ритуалов абхичары системы Ваджрабхайравы70.
Много чего еще можно было бы рассказать об отдельных высказываниях и сюжетах этого замечательного образца агиографической литературы, но пора уже перейти к некоторым размышлениям. Во-первых, в случае с Рало противоречия между недавно переведенными материалами и более старыми ритуальными системами ньингмапинского эзотеризма были лишь частичными. Конечно, агиография Рало нередко представляет его инициатором конфликтов с теми, кто занимал руководящие должности в старых системах. В частности, в ней описывается, как он отправил письмо Сетону Сонаму Осеру, наставнику ритуалов львиноголовой дакини, в котором утверждал, что хотя определенные божества Ваджракумары (Килы) и Янгдака Ваджрахеруки возможно и являются великими, тем не менее они не имеют над ним власти71. Но кроме этого, в ней также показано, что Рало испытывал особые чувства к традиции Падмасамбхавы: он медитировал в пещере Падмасамбхавы недалеко от Пхамтхинга, в результате чего ему являлись видения. Кроме того, существует мнение, что он обнаружил «сокровища», сокрытые этим индийским магом; и эти утверждения о существовании системы «текстов-сокровищ», приписываемой Рало, позднее получат широкое распространение благодаря великому апологету ньингмы Ратне Лингпе72. Следует отметить, что Рало не имел своей целью очернение древней системы как таковой, и даже сложно представить наличие у него таких намерений, поскольку вполне очевидно, что его отец и родственники продолжали практиковать тантрические системы ньингмы. Кроме того, Рало так же часто конфликтовал с представителями новых систем и монахами, которые сомневались в его праве представлять себя монахом при наличии нескольких жен.
Возможно, что еще более интересным было соперничество между Рало и Го-лоцавой Кхукпой Лхеце, переводчиком «Гухьясамаджи» и одной из самых беспокойных личностей того периода73. Настоящее имя Го-лоцавы Кхукпа Лхеце (которое не было его монашеским именем) стало центром дискуссии об истории его семьи. В «Синей летописи» говорится, что «Го Кхукпа» означает, что он родился в деревне Танак-пу, расположенной в верховьях долины Танак, в семье членов клана Го74. Даты его жизнедеятельности, приводимые в доступных источниках, не точны, однако, известно, что он был современником Рало и Зурчунга Шерапа Дракпы (1014–1074)75. Также сообщается, что, поскольку мать Го-лоцавы была эманацией богини Тары, его называли Лхеце, т.е. «защищаемый божеством». Автор «Синей летописи» Голо Жону-пел замечал, что только глупец согласится с мнением, что он родился (btsas pa) в загоне для скота (lhas ra)76. Однако, другие утверждали, что отец и мать ученого переводчика действительно были выходцами из аристократического клана Го, но при этом являлись братом и сестрой. И Го-лоцава родился в загоне для скота по той причине, что его отец и мать, сгорая от стыда, пытались таким образом скрыть результат своих кровосмесительных отношений77.
Большинство источников сходятся во мнении, что в юности Го-лоцава сначала отправился учиться к знаменитому Зурпоче, уважаемому ньингмапинскому наставнику из Цанга, но не получил наставлений в Дхарме, что, похоже, подтверждает наличие некоторых сложностей, связанных с прошлым Го-лоцавы. Затем он отправился к Дрокми, но мало что узнал, несмотря на понесенные им большие расходы, поскольку Дрокми был одержим жаждой стяжательства. Наконец, он объединил свои усилия с Гьиджо Даве Осером, который сам впоследствии стал великим переводчиком. Они вместе путешествовали и много учились в Непале и Индии. Также говорят, что Го-лоцава принимал у себя Гаядхару во время второго путешествия индийца в Тибет78. Согласно источникам, после того, как он утвердился в своей репутации, между Го-лоцавой и наставниками из клана Зур установились сердечные отношения. Гало Жону-пел утверждал, что Зурчунг приезжал в Танак-пу, чтобы изучать Хеваджру вместе с этим великим переводчиком, и что в другой раз Го-лоцава даже простерся перед Зурчунгом79. Тем не менее, со временем Го-лоцава изменил свое отношение к клану Зур, обвинив их в фабрикации священных писаний. Возможно, что это произошло в результате того, что он имел возможность лично наблюдать как появляются на свет священные писания ньингмы.
Его противостояние с Рало началось с того, что Го-лоцава, как пишут источники, своими высказываниями бросил тень на учителей Рало, а дальше события развивалось по уже знакомой схеме. По словам агиографа Го-лоцава выполнил ряд ритуалов абхичары, направленных против Рало, которые принадлежали к системе Гухьясамаджи, являвшейся линией передачи Го-лоцавы. Рало, конечно же, не мог оставить такие действия без последствий и ответил средствами собственной черной магии. К этому времени в их ссору было вовлечено триста деревень долины Танака, и семьдесят из них в конечном счете бросили вызов Рало, выступив против него маршем, но были поражены тауматургическим перекрестным огнем. Затем он обуздал этих деревенских жителей с помощью магии, так что их вырвало кровью, после чего скатал их доспехи и оружие в шар.
Из всего этого становится ясным, что оправдание Рало своей антиномианистский позиции является результатом буквального прочтения им отдельных разделов махайога-тантр, согласно которым для пробужденного практика никакое зло не является грехом. Мы также должны отметить, что в то время считалось, что Рало продолжает давать посвящения новым монахам, по-видимому, полагая, что практики, связанные с убийствами и сексуальной распущенностью, не нарушают его монашеских обетов. Неясно, существовал ли индийский прецедент, оправдывающий такую позицию, поскольку в известных нам описаниях жизни и деятельности индийских учителей, совершавших подобные действия, (таких как, например, превращение Махачарьи Дхармапалы в сиддху Вирупу) всегда подразумевалось изгнание нарушителя обетов из монашеского анклава.
Их агиографы, напротив, представляли таких, как Рало, людьми, достигшими совершенства в монашеской религиозной деятельности, которая, во благо или во зло, выплеснулась в сферу светской жизни. Хотя вольное отношение к религиозным нормам и обладание светским влиянием по большей части были прерогативой дворян-землевладельцев, религиозная ученость переводчиков позволяла им претендовать на новые социально-экономические права, которых ранее не имели их семейные объединения, в особенности на накопление капитала и владение землей, а также на возможность принудительно изымать ресурсы для строительных проектов. Описание поражения Го-лоцавы служит подтверждением того, что лоцавы обладали определенной политической властью над долинами, в которых они проживали, и со смертью Кхукпы Лхеце деревня Танак-пу лишилась главы светской или религиозной власти. В таких местах переводчики учреждали свою «денсу» (gdan sa), т.е. «место власти». Это слово семантически связано с термином «земля» из «Старой тибетской хронике» (skya sa, sngo sa), а также с термином «монаршего собрания» из доступных редакций «Заветов клана Ба» (mdun sa), но ближе всего оно к термину «монарший престол» (rgyal sa).
Некоторые эзотерические переводчики закончили свою карьеру, отказавшись от монашеских обетов (Дрокми), заведя незаконнорожденных детей (Рало) или организовав для себя небольшой гарем из добровольных учениц (Марпа и Рало). При выборе своих наследников они, подражая феодальному дворянству, в основном следовали принципу патрилинейного первородства. В частности, по мере того, как линии передачи учения множились и развивались, многие эзотерические наставники одиннадцатого столетия стали наделять правами держателя линии своих прямых потомков или членов своего клана. Тем самым они создавали сплав клановых отношений и религии, закрепляя его путем переписывания с приданием буддистского вида семейных документов, которые теперь должны были сопровождать новые практики80. Но даже без таких документов в этих линиях повсеместно присутствовала вездесущая метафора строительной конструкции: четыре колонны, восемь брусьев и т.п., указывающая на особую значимость категории места. Результатом такого подхода стало то, что линии передачи мантраяны одиннадцатого и двенадцатого столетий чаще всего обозначались с использованием наименований кланов (Rong lugs, ‘Khan lugs, rNgog lugs, lCe lugs, Rwa lugs и т.д.) и лишь изредка – по имени личности (‘Brog lugs). А присвоение им географических названий (например, Sa lugs) чаще всего являлось продолжением политики создания денс (религиозных центров) как опорных мест владычества.
Поразительная способность переводчиков (и других духовных лиц) одиннадцатого столетия добиваться общественного признания даже при всей неоднозначности своей деятельности, объяснятся тибетской моделью совмещения религиозной и светской власти, позволявшей им в своих интересах использовать первую для расширения второй81. В одном из эпизодов агиографии Рало бывший монах Пон Гьел-ле признается, как он превратился из монаха в местного авторитета:
«Сначала я был монахом и слушал Дхарму от многих учителей. Позднее, из-за влияния прошлой дурной кармы я не смог практиковать Дхарму, а вместо этого устроил много войн и беспорядков ради женщин. Я убил много людей и лошадей. Поскольку эти средства были необходимы мне для того, чтобы занять должность местного правителя, я непомерно грабил и избивал многих фермеров-арендаторов и других. С этим грехом, похоже, мне больше некуда деваться, кроме как оправиться прямо в ад, так пусть лама охватит меня своим состраданием!»82
Возможно, что возникновению этой специфической тибетской модели способствовал секулярный характер неварских эзотерических центров, в которых такие учителя, как *Кунда Бхаро, были и наставниками ритуалов (vajracarya), и титулованными аристократами с земельными владениями, занимающими определенное место в непальской феодальной иерархии. С другой стороны эту же самую схему мы уже видели в Цонгкхе, когда ламы становились феодальными князьями на китайской службе и получали признание за свои воинские способности. К концу двенадцатого столетия данная парадигма окончательно обрела форму социальной модели, в которой лама выступал в роли обладателя всей полноты власти, а наглядным примером ее реализации является деятельность ламы Жанга, который занимался и набором монахов, и наймом солдат83.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Не вызывает сомнений, что самым выдающимся переводчиком из всех индийцев, работавших с Дрокми в Мугулунге, являлся Гаядхара. Вероятно, он был уроженцем Бенгалии и представлял собой весьма неоднозначную личность, а его наследие включает в себя участие в работе над некоторыми из наиболее значимых тантрических переводов одиннадцатого столетия. Поступки Гаядхары выглядели настоль же сомнительными, насколько блестящими были его познания, и даже самые благочестивые источники упоминают об этих его недостатках. Считается, что в общей сложности Гаядхара трижды посещал Тибет. С Дрокми он работал в течение своего первого визита, длившегося по сведениям различных источников от трех до пяти лет и увенчавшегося созданием множества выдающихся переводов. Во всех источниках Гаядхара описывается как человек, склонный к вымыслам и обману, поскольку во время своего второго путешествия в Тибет он представился Майтрипой, и таким образом какое-то время вводил в заблуждение переводчика системы Гухьясамаджи Го-лоцаву Кхукпу Лхеце. Однако, в конечном счете он был опознан одним из собственных учеников, обучавшимся у него во время предыдущего визита, и заклеймен как человек обманувший своего покровителя. С самых первых строк повествования изображают Гаядхару как явно сомнительную личность, трепетно оберегавшую свой мирской статус и, очевидно, дурно влиявшую на Дрокми в этом направлении. Как и все наши агиографические сюжеты, история Гаядхары со временем стала обрастать все новыми и новыми подробностями, и более поздние источники дополняют ее обширной предысторией сомнительной достоверности.
Мы знаем, что Гаядхара был членом касты каястха, сформировавшейся в Северной Индии в начале раннего средневековья на базе сообщества профессиональных писцов (karana). При этом термин «каястха» упоминается как должность (а не как каста) еще в эпиграфической надписи из Матхуры, датируемой первым веком н.э.52 Несмотря на различные мифологические версии самих каястхов, эпиграфические и литературные источники сходятся во мнении, что каястхи ведут свое происхождение из одного из трех регионов: Северной Индии, Бенгалии или Западной Индии (Махараштры или Гуджарата)53. Что касается родных краев Гаядхары, то в этом случае западная ветвь наиболее маловероятна из-за особенностей литературы, которую он переводил и передавал, поскольку нет свидетельств того, что материалы Хеваджры когда-либо распространялись на западе. Кроме того, в разговорном произношении различных слов и стихов на апабхрамше, которые Гаядхара, как считается, принес с собою в Тибет, судя по всему, отсутствует фонетическое сходство со старо-бенгальским языком «Чарьягитикоши», что ставит под сомнение попытки идентифицировать его как бенгальца54. Известно, что бенгальская ветвь каястхов обладала определенным влияниям и за пределами Бенгалии, в особенности в Ориссе, но эта область также не фигурирует ни в мифах, ни в литературе, ассоциируемой с Гаядхарой.
Даже если бы было убедительно доказано, что его родиной является какая-то часть Бенгалии, мы могли бы задаться вопросом: а не принадлежал ли Гаядхара к северо-индийской ветви каястхов, или, по крайней мере, не обучался он преимущественно бихарским традициям. Среди каястхов северо-индийская ветвь была самой влиятельной и включала в себя двенадцать субкаст55. При этом одна из субкаст носила название «гауда», что, вероятно, указывает на ее связь или даже на основное место пребывания в одноименной столице паловской Бенгалии, хотя источники каястхов делают различие между гаудами и бангала-каястхами56. Эта северо-индийская ветвь считает себя действительной пятой варной, отличной от остальных четырех. В то время как четыре основные варны были созданы изо рта творца мира Брахмы (брахманы), его рук (кшатрии), его бедер (вайшьи) и его ног (шудры), северо-индийские каястхи утверждают, что они были созданы из тела Брахмы и поэтому духовно связаны (stha) с его телом (kaya). Их изначальный прародитель и великий предок Читрагупта, возникший из тела Брахмы, явился свету с пером и чернильницей и уже обладал всеми способностями для выполнения роли личного писца Брахмы. В антропологической литературе, посвященной каястхам, особо отмечается культовая значимость этого великого предка и его орудий труда57.
Деятельность буддистских монахов в качестве писцов (divira) упоминается в документах, выполненных письмом кхарошхти, которые были обнаружены в оазисе Ния Таримского бассейна58 Т.е. еще за несколько столетий до описываемых нами событий буддистские священнослужители уже выполняли такие обязанности. Особо следует отметить, что тех, кого называли «писцами», не просто записывали тексты под диктовку, а выполняли широкий круг должностных обязанностей, которым лучше всего соответствует термин «секретарь». В наше время он может использоваться для обозначения любого должностного уровня: от рядового клерка до Генерального секретаря ООН, включая массу промежуточных позиций, и то же самое можно сказать о термине «писец» тех времен. Писцы обладали знаниями в области юриспруденции, литературы, придворного языка, бухгалтерского учета. Они помогали в составлении контрактов и завещаний, принимали участие в судебных тяжбах и оформляли приговоры, а также привлекались в качестве специалистов к составлению множества других документов. Каястхи также исполняли все эти обязанности, и мы нередко встречаем упоминания об их деятельности в качестве средневекового должностного лица, носившего название «секретарь (министр) мира и войны» (mahasandhivigrahin)59 (примерное соответствие: «министр иностранных дел» – прим. shus).
Однако, из-за своей сомнительной деятельности по учету налогов и составлению правовых документов в сельской местности каястхи приобрели репутацию людей, погрязших в обмане, коррупции и воровстве60. Гупта (Gupta) отмечал, что каястхи представляли собой средневековую загадку: с одной стороны они были «высокообразованными и покровительствовали искусству и культуре», а с другой «простые люди, платящие налоги, относились к каястхам с большим подозрением, поскольку обман таился как в их устах, так и в их документах»61. Хотя подобные высказывания отмечаются еще со времен драматурга Шудраки (Шудрака называл каястхов «змеями» и заявлял, что даже преступники не будут жить рядом с ними), наиболее резко осуждали каястхов Кшемендра и Калхана62, жившие примерно в то же самое временя, что и Гаядхара. К примеру, Кшемендра, утверждал, что каястхи изобрели свое особое письма, чтобы им было легче обманывать людей, а благонравные правители, даже зная, что каястхи «жаждут убивать и являются грабителями чужого имущества, мошенниками и демонами», старались поддерживать с ними дружбу ради пополнения казны63.
Гаядхара также обладал рядом противоречивых качеств: в нем без особых проблем уживались неоспоримая ученость, моральная нечистоплотность и откровенная скупость. Согласно анналам ламдре от 1344 года, принадлежащим перу ламы Дампы, Гаядхара был членом семьи придворных писцов бенгальского правителя64. В шестнадцатом столетии Кхьенце Вангчук называл этого монарха Чандрарупой, однако, достоверность данного имени ничем не подтверждается65. Считается, что Гаядхара встретил своего учителя Авадхути на берегу реки Лохита, которая несет свои воды из Аруначал-Прадеша и впадает в Брахмапутру в Ассаме. Здесь Авадхути практиковал в качестве обнаженного аскета (avadhutacarya), являя собой наглядный пример сиддхи, обитающего на племенных территориях66. Согласно все тем же источникам, Гаядхара, получив ламдре от этого учителя, отправился в Тибет искать ученика, который бы продолжил его учение в соответствии с предсказанием бодхисатвы Авалокитешвары67. В Тибете он встретил переводчика Пуранг-лоцаву Жону Шерапа, который уже освоил некоторые учения и был крайне заинтересован в большем, но Гаядхара продолжил свой путь в провинцию Цанг в поисках предопределенного ему ученика. Во время пребывания в пещере для медитации он услышал, как водный поток издает звук освобождения (mu gu), а поскольку этот поток оканчивался в Мугулунге, он решил обучать ламдре именно там68. Ему приснился Дрокми, и он отправил ему письмо с просьбой о встрече, которая состоялась в Лхаце-драке, где у Гаядхары впоследствии появилась собственная пещера для медитации, существующая до сих пор69. Как уверяет нас Мангто Лудруп Гьямцо, ко времени их встречи Гаядхаре было уже 288 лет70.
Понимая, что для него это является уникальным шансом, Дрокми обхаживал Гаядхару в течение трех или более лет, и они вместе перевели невероятное количество разнообразного материала. Все это время Дрокми обещал Гаядхаре пятьсот унций (srang) золота в оплату за его учения, в особенности за ламдре, которому суждено было стать центральной медитативной системой Дрокми и его самых близких учеников. В качестве ответной услуги за такое щедрое подношение Дрокми попросил предоставить ему исключительные права на использование текста и преподавание этой системы в Тибете. Гаядхара согласился и пообещал, что после Дрокми он больше не будет никого посвящать в ламдре. Однако, вскоре у Дрокми возникла проблема: он не смог собрать нужное количество обещанного золота к тому моменту, когда Гаядхара захотел вернуться в Индию. Он попросил своего коллегу из школы ньингма Зура Шакью Джунгне прервать свой затвор в Тагьяпе и привезти ему побольше золота. Зурпоче это сделал, несмотря на возражения своих учеников71. Они заявили, что выход из затвора создаст непреодолимые препятствия в его практике. На что Зурпоче им ответил, что Дрокми является великим переводчиком, и поэтому у него обязательно должны быть особенные медитативные руководства (man ngag). В результате Зурпоче обрел наставления по «Ачинтьядваякрамопадеше» (будут рассмотрены нами позже) и указания по медитации на Хеваджру.
Отдельные детали истории с золотом и соглашением о правах на ламдре различные источники описывают по-разному. К примеру, несакьяпинские источники утверждают, что человеком, которого пригласил Дрокми, был не сам Зурпоче, а его приемный сын Зурчунг Шерап Дракпа, хотя это и маловероятно72. А сакьяпинские авторы неизменно заканчивают свое повествование юмористическим сюжетом, где в главной роли выступает сам Гаядхара. Не веря, что полученное им богатство на самом деле является золотом, Гаядхара отправляется на базар в Мангкхар с мешком, полным подношений Дрокми. Там он, переходя от одного человека к другому, спрашивает, действительно ли то, что он получил, является золотом. Все в один голос уверяют его, что это настоящее золото, после чего он возвращается к Дрокми и обещает обучать ламдре только его и никого более. Однако, во время своего третьего путешествия в Тибет Гаядхара узнает, что Дрокми скончался, и таким образом его обязательство, похоже, утратило силу. По этой причине, Гаядхара, очевидно, повторно перевел (или воссоздал по памяти) текст ламдре совместно с Гьиджо Дове Осером73. Однако, к шестнадцатому столетию, когда Кхьенце Вангчук писал свою историю традиции, этот второй перевод, по-видимому, был или уже утерян, или же чрезвычайно редок74.
Авторы кагьюпы представляли Гаядхару совершенно в другом свете, поскольку в их среде он был известен главным образом как отец индийского наставника Речунгпы сиддхи Типупы75. По мнению некоторых из них, Типупа был реинкарнацией сына Марпы Дармы Доде, которого Рало считал своим врагом, и которого он, согласно агиографии Рало, убил с помощью черной магии76. Поскольку Дарма Доде владел искусством оживления мертвых (grongs ‘jug), он со временем вошел в труп сына Гаядхары и стал брахманом Типупой. Одна из неувязок в этой истории связана с датами жизни Наропы, поскольку считается, что Типупа был учеником великого сиддхи, который умер где-то 1040-1042 годах, когда Марпе должно было быть около двадцати лет, т.е. меньше, чем его сыну Дарме Доде, который согласно источникам в момент своей смерти был уже взрослым человеком.
Одной из главных составляющих успешного творчества Дрокми было его сотрудничество с индийскими учеными, которые в разные времена посещали Цанг и останавливались в его обители. По общему мнению, Дрокми работал с такими известными наставниками, как Амогхаваджра, Ратнаваджра, Праджнягупта, Праджнендраручи, а также с интригующей йогини Чандрамалой из Шри Ланки, о которой практически ничего не известно77. На протяжении большей части этого сотрудничества Дрокми оставался монахом, однако ближе к концу своей работы с Гаядхарой он перестал декларировать свой монашеский статус в колофонах их совместных переводов. Из пятидесяти девяти канонических и одного неканонического текста, у которых сохранились колофоны, Дрокми называет себя монахом пятьдесят пять раз, то есть в подавляющем большинстве случаев. Что касается остальных пяти работ, то вполне очевидно, что в это время у него уже был какой-то другой статус, поскольку он отказался от монашеских одежд ради мирской жизни. Три из этих более поздних переводов были выполнены им совместно с Гаядхарой (To. 381, 385, 1220), включая их главный труд, перевод «Сампуты», который, безусловно, является самой длинной из всех переводческих работ Дрокми. Кроме того, Дрокми не указан в качестве монаха в колофоне к одному короткому тантрическому комментарию к Домби (To. 1416), переведенному им совместно с Ратнаваджрой, и в коротком ритуальном тексте Тары (To. 1705), который был переведен самим Дрокми.
Должно быть со временем Дрокми не на шутку возгордился своим статусом авторитетной персоны, поскольку по окончанию перевода «Сампуты» он уже сам называл себя «великой личностью» (bdag nyid chen po)78. Источники сообщают, что он приглашал Атишу и Дромтона в Мугулунг, что, по-видимому, имело место где-то в 1046/47 годах, когда бенгальский ученый находился на пути в Центральный Тибет79. В конце концов, во время проживания в Гампе-дзонге Дрокми женился на девушке из аристократического семейства80. Ее звали Дзеден Очак, и она была сестрой одного из его лучших учеников Лхацуна Кали. Судя по всему, она родила ему как минимум двух сыновей: Индру и Дордже, хотя, возможно, что у них были и другие дети81. Добившись таких выдающихся успехов, Дрокми умер еще до того, как Гаядхара в третий раз вернулся в Тибет, на этот раз для работы с Гьиджо Дове Осером82. По всей видимости, Дрокми попросил, чтобы после смерти его тело никуда не перемещали в течение семи дней, и, считается, что в течение этого времени он достиг высшего совершенства Великой печати83. Хотя мы не располагаем точной датой смерти Дрокми, скорее всего, он умер не далее третьей четверти одиннадцатого столетия, поскольку ничто не указывает на то, что он был жив во времена великого собрания переводчиков, созванного в 1076 году под покровительством Нгадака Цеде84. «Синяя летопись» дает еще более точные ориентиры, сообщая, что Дрокми скончался примерно в то же самое время, что и Дромтон Гьелве Джунгне, умерший в 1064 году85.
Сам Гаядхара прожил немногим дольше своего знаменитого ученика. Во время второго посещения Тибета он выдавал себя за великого сиддху Майтрипу, и ему даже удалось ввести в заблуждение Го-лоцаву Кхукпу Лхеце, хотя вскоре этот обман был раскрыт. В своем последнем путешествии он провел большую часть времени в Западном Тибете, и в те времена он уже был хорошо известной (а, возможно, что и печально известной) личностью. Основатель шангпа-кагьюпы Кхьюнгпо Нелджор утверждал, что они вместе путешествовали в Толинг. Однако, у нас нет подтверждений того, что Гаядхара когда-либо посещал этот великий храм Гуге86. Поработав некоторое время с Гьиджо Дове Осером и его учеником Ньо-лоцавой, Гаядхара понял, что его конец уже близок. Он захотел закончить свой путь рядом с учениками Дрокми87 и поэтому перебрался в Кхарак Топу, где жили два его ученика: Се и Шенгом Рокпо88. Почувствовав близость смерти, он скрестил ноги в традиционной медитативной позе, взял в руки ваджру и колокольчик и провозгласил: «Вот как умирает мантрин!» Он вошел в созерцание переноса сознания, перейдя в промежуточное состояние в виде шарика света, выходящего из его родничка89. Более поздние историки уверяют нас, что ваджра и колокольчик Гаядхары вместе с его реликварием, книгами и картиной находятся Сакье, куда они попали различными путями90.
|
Ka chu
Ka tshal
Keju Krigong
dKar sna
sKul gyi khe ldir
Kha rag labs so
Kha rag so gcig
Khams gsum
Kho lha khang
Khyim phu’i dge dgon
Khra sna’i gnyan po gnas
Khra pa’i gnang khang
Khra’i sgom ra
Khra’i dben chen
Khrig gi sgang bu
Khris kyi kha chad dgon pa
Khrol ma
‘Khor re skyi sgang
‘Khor re ba khor
mKhan gyi zu ra phug
Gangs bar lha khang
Gan pa’i she btsun gnas
Go ro mtshar ma
Go shul lha rtag
Gya ba’i dang gnya’
Gye re glang ra
Gye re’i mda’ grong
Grang chung
Gra’i se lung
Gri phug
Gru gu sgang
Gru shul cha khrod
Gro mo che
Grom pa rgyang
gLang mda’
dGe rgyas
dGon ser
mGur mo lha khang
mGos ston
rGya gar
rGya thang
rGyags mda’i lha khang
rGyan gong ri phug
rGyal sar sgang
rGyal lug blangs lha khang
rGyud kyi ber chung
sGa thang skar ma thang
sGa ra sgal po kha
sGyi’i khrig
sGre mkhar
Ngan lam pa’i dbyi mo
Ngur smrig
sNgo gling
bsNgur gyi ste dkyus
lCags mkhar
lCe pa’i la’i gnas
Cha khrod
Cha chung ‘gur
Cha tog
Cha rags gong pa kha
Chags ra sgang Chag sa Chang sdong
Chu mig ring mo
Chu shul na bo
mChil ka’i rgyal thang
Jo mo
‘Jed kyi gnas brgyad
rJem gyi gnas
Nyang ro bud mdo
Nyangs smad khri’u gnas
Nyan po dgon pa
Nyan rdzing skam
Nyi rang khan ba rkyang
Nyug gi ‘U lung
gNyal gyi bzang ru s
Nyan btsun gnas
sNye thang brag sna
sNye mo sgo mo
bsNyems
Ta mo ra
|
gTam shul gyi mda’i dgon po
rTa nag phu’i bya tshang
lTu i rgyan gong
sTag gi gras po che
sTag tshal dkyus thang
sTag tshal gyi bya cha mkhar po che
sTag lo lha khang
sTod lung yab kyi ra tshag sTod lungs cha thog
sTod lungs thag ma
Thag ma lha khang
Thang skya
Thang chung
Dug chung
De kha rgal
Do la ri mo
Dong mkhar phug
Don mo ri
Drung gi sgo ‘dul
gDang gi drug spyid
‘Dal chung
‘Dres tshe stag nag bye tshang
lDan gyi dre shod
lDing pa’i gnas
bsDag gi gad lnga
bsDag gi gral Inga
Nang khol gyi gral ma thang Ne’u’i gnas
gNam khang
gNam gyi rtse ldeng
gNas rnying
gNas gzhi gNas gsar
sNa nam ‘dre brdes
sNa bzhi lha khang
sNang gsal lha khang
Pa tshab kyi mjo phug lha khang
sPa ra rte dkyus
sPang dkar lha lung
sPun gsum
sPyil gyi ‘dzim pa lung
Pho ‘gal
Phyag gi kham khung
Phyi nas thang sgrong dgon pa
Phyi lung
‘Phan yul ‘jog po’i klu gong ‘Phan yul gyi brag rgya
‘Phan yul
‘Tshar sna
Phrang ‘og gi lha khang ‘Phrang
Ba shi
Ban gyi bya tsha
Ban pa thib spyi
Ban pa drug ral
Ban pa’i sgro ba
Ba ang kyi ra gor
Bar thang bye Bu tshal
Bum thang
Bur gyi ‘dzangs pa
Bya rgyus
Byang thang Wal gnas
Byang phyi’i sribs mda’ gnas
Brag rgyab
Brag dmar
Brag rum gnas gsar
Brang gi chu bskor gnas
Brang ra mo che
Bran ma sgang
dbUs sde lto gong
dbYe’i lha khang
sBu sde lho gong
sBre lha khang
Mang mkhar mu gu lung
Man lung chu ngu
Mar la thad
Mi chos kyi sa khul du ba gnas
lam Mu shangs kyi ro skam
Mes phreng
Mon mkhar ‘gan
Mon gra
Myang ro ‘dre brdas
|
Myu gu sna’i gyang ra dmar po
Mrug gi gnas gsar
dMar sgang
dMe ru at ‘Bro sa thang
sMa ris gong ma
sMon gro gTsang ‘gram
gTsang gzhug gnas
bTsan po ldings
rTsis kyi yang dben
rTsis lha khang
rTswa thang
Tsha mig mTsal chung
mTshur gyi snyan dmar
mTsho smad lha khang
rDzing stag
rD i’i skyer lung
Zha phu
Zha lu
Zhal gyi bsnams khangZhal gyi tshul chen
Zho brang
Zhog pa
Zhwa’i lha khang
gZha’i spang ri
gZhu po
gZhung sgre mkhar
gZhu’i kun dga’ ra ba
gZhu’i zangs can
gZho’i ‘chad kha
bZang yul spang bzangs
bZad kyi lding ba
bZad kyi sogs pa ri
bZad bu’i rog dom
Yugs kyi zham tshong stengs Yungs ‘gur
Yer pa
Yer pa Bab rang
Yol thang
g.Yag sde’i sog po dgon pa
g.Yu sgro khang dmar
g.Yo ru gra thang
‘U yug mda’i ra shag
‘O yug gi spen phug
‘Om phug
‘Ol tshal grags pa de
Ra chag
Ra sog mtshar la
Rab btsun gnas
Ri mer chad thib
Re lha khang
La chung
La stod ma la thang
La mo chag lde’u
La mo ze sna
Lan ‘gro ba’i stag tshang
Lan pa spyil bu
Lan pa’i pho brang
Lab so
Las stod seng rtser
Lung kha phu
Shangs kyi bye phug bzung
Shangs mkhar lung
Shab kyi ‘dar sgang
Shab kyi lha mo lung
Sa la tshugs
Ser gyi brag shong
So kha
Sol nag Thang po che
Srad kyi gung gsum
Srad kyi ltang ldang
Sri’i rgya phibs
gSas khang
gSer gyi sgong thog
bSam yas dbU rtse
bSam yas dbU tshal
Lha khang rma ru
Lha mdo
Lhan gyi ba so thang
Lhas kyi lku mgon
Lhing pa’i gnasi
|
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В истории ламдре, записанной Нгоропой в пятнадцатом столетии, ее автор очень гордится «явленными» откровениями, переданными сиддхой Вирупой Сачену. При этом он утверждает, что данные откровения являются ключевым элементом, демонстрирующим превосходство системы ламдре клана Кхон над другими линиями передачи, в особенности Дрома и Жамы, а также над более поздними родственными им системами133. Также в ней сообщается, что последнее откровение Вирупы стало кульминацией череды видений, представших пред Саченом после довольно сложной последовательности событий, в результате чего он получил определенные наставления, которых не имели другие наставники ламдре. Именно эти видения легли в основу «короткой передачи» (nye brgyud), при получении которой Сачен имел прямой доступ к великому сиддхе, которому, в свою очередь, «Коренной текст *маргапхалы» был передан самой Найратмьей. А это означает, что в данной линии передачи Сачен отстоит всего лишь на одну ступень от женской ипостаси изначального будды Ваджрадхары. Однако, документы и суждения, подтверждающие и освещающие этот эпизод, сами по себе довольно необычны и, вероятно, апокрифичны. Помимо прочего, они свидетельствуют о влиянии литературы «текстов-сокровищ» на традицию сакьяпы в период с середины тринадцатого по пятнадцатое столетия, а также о стремлении продемонстрировать превосходство системы клана Кхон над другими линиями передачи ламдре. Хотя середина тринадцатого столетия и выходит за рамки хронологических параметров нашего исследования, здесь мы можем сделать некоторое исключение, т.к. данные утверждения так или иначе касаются провидческого и текстуального наследия Сачена.
Первое исторически идентифицируемое упоминание об этом событии присутствует в анналах Мартона, созданных им, вероятно, во второй четверти тринадцатого столетия134. Мартон, кратко описывая этот эпизод, утверждает, что после смерти ламы Мелы и до истечения срока запрета Жанга Гонпавы Сачен отправился в Барпук-ронг, где был поражен очень тяжелой болезнью ( snyung nad drag po ), из-за которой забыл все полученные им учения. Вернувшись в Сакью, он обратился с молитвой к Дже Гонпаве, после чего ему в видениях явились сначала Дже Гонпава, а затем и сам Вирупа, который передал Сачену все семьдесят две тантрические питаки, тайное разъяснение чакр в четвертом посвящении (lam sbas bshad), учение о десяти достижениях, а также толкования Вирупы и ритуалы «Ваджравидарана-дхарани». Мартон заявляет, что данное событие никому не оглашалось и что полное повествование о нем можно найти в других источниках. Также он утверждает, что все, что включено в его анналы, было одобрено самим Сакья Пандитой135.
Мы не знаем точно, что имел в виду Мартон, говоря о «других источниках», но «Малая красная книга» пятнадцатого столетия (Pusti dmar chung), принадлежащая перу четвертого настоятеля расположенного в Цанге монастыря Нгор Кунги Вангчука (1424–1478), включала текст, якобы являющийся письмом Дракпы Гьелцена Кьокпо Гатенгу (из Гатенгмы) – эпитет, указывающий на хромоту Гатенга136. В письме говорится, что в возрасте семнадцати лет Дракпа Гьелцен отправился в Гунгтанг, где встретил Лобпона Джодена Ронг-гома, который заметил: «Кажется, существует история о встрече Вашего отца с Вирупой. Разве Вы не слышали о ней? ” Дракпа Гьелцен умолял его рассказать все, что ему известно, однако, Джоден Ронг-гом сообщил ему, что слышал об этом от безумного человека (yid yengs pa) и не знает никаких подробностей. При этом он направил Дракпу Гьелцена к геше Ньену Пул-джунгве, который надзирал за Сакьей после смерти Сачена, поскольку тот сказал, что не будет рассказывать эту историю Джодену Ронг-гому, а раскроет ее только самому Дракпе Гьелцену. Дракпа Гьелцен вернулся в Сакью, и Пул-джунгва рассказал ему, что Сачен однажды отправился в Гунгтанг, где его поразила губительная болезнь (dug nad), вследствие которой он потерял память. Он выздоровел только через месяц, но последствия болезни продолжали воздействовать на него в течение трех лет. Когда другие что-то прослушивали и запоминали, Сачен не мог делать то же самое. Он был не в состоянии вспомнить написанное им и не узнавал своих друзей. Поняв, что даже если он отправится в Индию, то и там не получит помощи, он стал взывать к Дже Гонпаве, который в конце концов явился ему во сне и даровал свои наставления. Он начал молиться с еще большей энергией, после чего ему во сне явился уже сам Вирупа и снова преподал все свои учения.
Со временем количество включенных в учение работ стало возрастать, а датировки становились все более точными. Ко времени написания анналов ламы Дампы, созданных им 1344 году и включенных в его «Черную книгу» (Pod nag), данный список стал уже довольно длинным137. Кроме того, в собрании сочинений Сакья Пандиты помимо несколько текстов, претендующих на принадлежность к учению, также присутствует произведение анонимного автора, содержащее развитие и детализацию истории Сачена. В совокупности эти несколько текстов именуются «Особым учением Сакья Пандиты» (Sa skya pandi ta’i khyad par gyi gdams pa) или «Исключительным наставлением Сакья Пандиты» (Sa skya pandi ta’i thun mong ma yin pa’i gdams ngag)138. Кроме агиографического эпизода, здесь также находятся описания двух чудесных событий: первого, когда Сачена видели в двух местах одновременно, и второго, когда в момент его смерти Сачена видели сразу в четырех местах (еще более поздние авторы утверждают, что Сачена видели сразу в шести местах)139. В качестве дополнения, анонимное заключение к восхвалению Саченом Вирупы (переведенному нами в Главе 1), предполагает, что данный панегирик был сочинен Саченом именно в тот момент, когда Вирупа предстал перед ним140. Аме-шеп пришел к выводу, что к 1629 году существовало две различные традиции датирования этого события: одни авторы утверждают, что оно произошло в 1135 году, когда Сачену было сорок три года, тогда как другие указывают на 1138 год, когда ему было сорок шесть лет141.
Мы имеем возможность оценить эти записи, во-первых, с точки зрения их стиля, во-вторых, с точки зрения соответствия их тому, что нам известно обо всем этом из других имеющихся в нашем распоряжении источников, и, наконец, с точки зрения общей обстановки того периода. Лучшим выбором для начала нашего исследования является уже упомянутое ранее «письмо», поскольку все материалы Дракпы Гьелцена общедоступны, и при этом они включают в себя несколько его писем. Даже если принять во внимание соображение, согласно которому в момент написания данного письма Дракпа Гьелцен был предположительно молод, почти все в нем кажется весьма сомнительным. Его стиль сильно отличается от известного стиля Дракпы Гьелцена, т.к. в нем присутствует нехарактерное для него использование повествования от первого лица (nga, что звучит здесь безграмотно с социальной точки зрения), тогда как в других его работах почти всегда используются либо смиренные литературные формы (например, kho bo), либо более неофициальное «я» (bdag)142. Кроме того, письмо подписано «Великим повелителем» (Jetsun chenpo), что является весьма необычным видом подписи, тем более, что Дракпа Гьелцен обычно использовал такие фразы, как «мирянин, практикующий традицию Шакьев, йогин высшей колесницы Дракпа Гьелцен» (Shakya’i dge bsnyen theg pa mchog gi rnal ‘byor pa Crags pa rgyal mtshan).
Более того, поскольку на тот момент Дракпе Гьелцену было семнадцать, а его старшему брату Сонаму Цемо двадцать два года, то он, несомненно, поделились бы с ним новостью о столь знаменательном событии, однако, в их работах, судя по всему, полностью отсутствуют какие-либо упоминания об этом. У обоих братьев впереди были долгие годы литературного творчества, и это повествование о видении наверняка бы появилось в каком-либо из их произведений. Наконец, данный эпизод с письмом является наглядным примером заблуждений, от которых Дракпа Гьелцен предостерегает читателей в своем «Содержании Желтой книги». Там он заявляет, что одной из причин, по которой он составил список материалов ламдре, принадлежащих перу Сачена, было то, что он видел работы, приписываемые его отцу, к которым великий лама не имел никакого отношения143. После внимательного изучения доступных нам источников сам собой напрашивается вывод, что эти более поздние атрибуции учений и связанной с ними истории «явленных» откровений были нацелены на расширение фундаментального корпуса писаний Сачена, что также подтверждается и предостережением Дракпа Гьелцена. Попытки включения данного материалы в сборники Сакья Пандиты преследовали аналогичные цели: использование имен Сачена, Дракпы Гьелцена и Сакья Пандиты в интересах апокрифической литературы сакьяпы.
Все это вовсе не означает, что жизнь Сачена не была отмечена ни одним провидческим или чудодейственным событием, ведь видение Манджушри сыграло очень важную роль на заре его религиозной карьеры. Более того, признавая факт видения Манджушри, Дракпа Гьелцен также указывает на то, что имели место еще две убедительные истории с чудодейственными событиями, но время для их оглашения еще не пришло144. Хотя в подлинных произведениях Дракпы Гьелцена нет упоминаний о видении Вирупы, ведущем к «короткой передаче», он сообщает о других видениях, в том числе и одном с Вирупой:
«Однажды, когда ты давал учение ламдре,
В центре Собрания подношений, парившем в небесах,
Манджушри, Вирупа и Авалокитешвара, все трое, явили себя.
Почтение тебе, ставшему чистым проявлением девятнадцати [божеств]».
Именно такой сценарий ритуальной визуализации в конечном счете стал использоваться при описании эпизода «короткой передачи». Согласно более поздним текстам Сачену явилось воплощение самого великого владыки йогинов (Вирупы), который предстал перед ним на фоне подобия белой завесы, его огромная фигура заслоняла собой весь южный Тибет между Непалом и Моном146, а руки были сложены в жесте проповедника Дхармы. Справа от него располагался Канха, держащий трубу из рога и череп с нектаром; слева – Гаядхара, одетый в развевающуюся белую ткань и прижимающий к сердцу ваджру и колокольчик; позади – Куддалапада, держащий зонт; а впереди – Бинаса, перед которым находился Шабара, преподносивший ему нектар. Умы их всех были погружены в глубокое созерцание, и, находясь в коллективном трансе, они произносили слова восхваления, звучащие как «А-ла-ла!».
Вполне вероятно, что нормативный процесс накопления и кодификации корпуса учений имел какое-то отношение и к окончательному объединению литературы, посвященной этому апокрифическому видению. Как правило, в среде наставников медитации всегда витало несколько не вполне формализованных учений. Их лекции и наставления передавались из уст в уста и в конечном счете объединялись в сборники. Порой такого рода компиляции подтверждали свой авторитет посредством мифологии откровений, и в то же время в других случаях они обходились без применения данного агиографического инструмента. Вполне очевидно, что для развивающейся мифологии «короткой передачи» особую значимость имели два таких сборника. Первый представлял собой собрание из сорока девяти кратких наставлений, составление которого приписывается самому Сачену, что по большому счету не вызывает сомнений. В этой работе, озаглавленной «Четки из драгоценных камней, драгоценное собрание наставлений сакьи» (dPal sa skya pa’i man ngag gces btus pa rin po che’i phreng ba), собрано воедино множество материалов, подобных тем, что содержатся в сочинениях, посвященных видению: описание визуализации Вирупы как выдающегося учителя, работы с акцентом на защитные ритуалы, вероучительные тексты, особые наставления по психическому теплу и т.п. Автором некоторых из них считается пандит Ваджрасана, работавший с Бари-лоцавой, тогда как другие принадлежат перу различных непальцев или других авторов, работавших в одиннадцатом и двенадцатом столетиях. Ощущению подлинности всех этих текстов в целом способствует тот факт, что стиль и фразеология данного сборника иногда очень близки комментариям к «Коренному тексту *маргапхалы», приписываемым Сачену147. Аутентичность данного собрания текстов дополнительно подтверждается тем, что он был по сути переформулирован Дракпой Гьелценом, составившим собственное «Драгоценное собрание наставлений Махамудры» (Phy ag rgya chen po gces pa btus pa’i man ngag)148.
Однако, два места в «Четках из драгоценных камней» содержат гораздо более поздние вставки, поскольку в этом сборнике имя Сакья Пандиты присутствует в одном из списков линии передачи, и этот же ученый монах цитируется как автор другой работы, краткого текста по алхимии (bcud len)149. Появление Сакья Пандиты в «Четках из драгоценных камней» его деда является довольно показательным, поскольку некоторые из работ (или наставлений), приписываемых видению Вирупы, известны под собирательным названием «особое учение Сакья Пандита». Вторым сборником медитативных текстов, который, судя по всему, оказал влияние на формирование мифологии «короткой передачи» является «Особое учение Сакья Пандиты». Большая часть текстов этого сборника, вероятно, написана самим Сакья Пандитой, и именно они не идентифицируются как связанные с откровением Вирупы. Обширная работа Сакья Пандиты, посвященная гуру-йоге (одной из тем, якобы переданных Вирупой Сачену) указывает на то, что это особое учение гуру-йоги в ламдре преподавалось в чрезвычайно тайной манере, и его язык во многом подобен языку самого «Коренного текста *маргапхалы»150. В другом месте, в своем объяснении основополагающей мантры Хеваджры Ашты (еще одной темы «короткой передачи» Вирупы) Сакья Пандита говорит, что это учение было частью наставлений, исходивших от Сачена (и действительно, у Сачена в «Четках из драгоценных камней» есть одно такое наставление), и что изначально оно было получено от Вирупы151. Такие достаточно мягкие утверждения, направленные на подтверждение подлинности линии передачи, с исторической точки зрения весьма далеки от эпизода с видением, но эмоционально близки тем, кто пытается сформулировать грандиозный нарратив, в котором сливаются воедино традиционные видения, изменчивые тексты и утверждение, что все ламы традиции в любом случае являются самим Ваджрадхарой.
Почему в такой достаточно консервативной тибетской буддистской линии передачи смогла появиться на свет эта апокрифическая история? Ответ заключается в том, что на самом деле буддистские институциональные системы достаточно часто применяли подобные приемы для разработки и подтверждения подлинности новых практик. Действительно, восемь вспомогательных практик использовали во многом один и тот же подход: более поздний текст, основанный на уже существующих учениях, приписывался более раннему учителю. Кроме того, двенадцатое столетие на Центральном Тибете было отмечено пышным расцвета ламдре с множеством различных традиций, в т.ч. Жамы, Дрома, Пхагмо Друпы, которые либо самостоятельно распространились по Южному Тибету, либо откололись от Сакьи. Считается, что основатель линии передачи Дром, Дром Депа Тончунг, открыл терма в Самье, а Жама Мачик опиралась на откровения Падампы, переданные ее братом. Эти времена также были периодом расцвета литературы «текстов-сокровищ», активному продвижению которой во многом способствовали Ньянг-рел, Гуру Чо-ванг и ряд других деятелей. Подобным образом и большинство направлений сармы оказались вовлеченными в деятельность, связанную с различными видами «явленной» литературы. Основатель Друкпы Кагьюпы Цангпа Гьяре (1161-1211) в 1189 году обнаружил «текст-сокровище», который, как говорят, было написан Нампой и сокрыт Марпой152. В тринадцатом столетии в кадампе получила распространение апокрифическая литература за мнимым авторством Дромтона и Атиши, причем бенгальскому ученому даже приписывалось создание «Колонного завета»153. Видения сиддхов стали ценным подтверждением аутентичности любой линии преемственности, а более поздний ученый традиции ламдре Чаген Вангчук Гьелцен использовал собственное видение Вирупы в качестве важного дополнения к своему заявлению о подлинности линии передачи154.
По всей вероятности, в целях развития и поддержки мифологии «явленного» происхождения учений, дарованных великим учителем (учителями) монастыря Сакья, ученики Сакья Пандиты стали уделять особое внимание подтверждению близкой связи между Сакья Пандитой и Саченом Кунгой Ньингпо. Вера в эту связь еще больше окрепла благодаря череде снов и видений Дракпы Гьелцена, в которых ему являлся Вирупа, и которые, судя по всему, были довольно многочисленны в психической жизни сына Сачена и дяди и учителя Сакья Пандиты. Со временем эти сны и видения стали называться «очень короткой передачей» (shin tu nye brgyud), и мы рассмотрим ее содержание и сущность в следующей главе. Цель создания всех этих мифологий была вполне очевидна: полное устранение промежуточных стадий между Вирупой, Саченом и Дракпой Гьелценом, чтобы Сакья Пандита был всего лишь на несколько ступеней удален от самого будды Ваджрадхары. Задолго до этого кагьюпа уже использовала подобную тактику для сближения по линии передачи Марпы и Наропы. Помимо прочего, повествование о явлениях Вирупы наглядно демонстрировало превосходство ламдре клана Кхон над другими линиями передачи этой традиции, а также подтверждало, что «явленные» откровения могут принадлежать не только различным системам сармы и ньингмы, но и отдельно взятому клану Кхон. Его члены оказались очень успешны в своих начинаниях, поскольку с тринадцатого столетия и далее все летописцы ламдре расширяли и развивали именно системы «короткой передачи», основанные на видениях.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Если целью предыдущих работ являлась интеграция образовательных методик ламдре в обширный институциональный мир ритуалистики, то эта задача была выполнена лишь только наполовину. Сакьяпинские авторы двенадцатого столетия считали экзегетическую систему такой же легитимной линией передачи, восходящей к Вирупе, хотя на деле она оказалась намного более многогранной как по своей форме, так и по своим границам. Соответственно, для клана Кхон «бестекстовое» ламдре (как его иногда называли) было важно ничуть не менее всех остальных направлений, поскольку включало в себя комментарии к Хеваджре и родственные им эзотерические писания. В рамках данного процесса братья обычно занимались всеобъемлющими вопросами, касающимися тантрического канона в целом, что подтверждается ранним каталогом тантр Дракпы Гьелцена134. Однако, на этом фоне можно выделить еще два специфических направления экзегетических устремлений братьев, дополнявших их основную деятельность: создание комментариев к конкретным тантрам, в особенности к «Хеваджре», а также развитие жанра «Основные принципы тантрического канона». Довольно интересно, что в обоих случаях Дракпа Гьелцен задумывал эти работы только как дополнение к текстам своего отца и старшего брата, однако, для традиции его произведения со временем стали эталонными, и также, как в случае с его же ритуальными текстами, по сути вытеснили труды его предшественников.
Создание тантрических комментариев является очень непростой задачей, поскольку обычно они опираются сразу на несколько источников. Тем не менее, мы видим, что тибетские линии передачи, подобные линиям клана Кхон, не щадили своих сил в деле создания экзегетических сочинений. Рассматривая это явление, мы должны понимать, что поддержка традицией процесса разъяснения своих священных текстов является очевидным признаком ее жизнеспособности. По большей части эти утверждения справедливы и для комментариев сакьяпы, а что касается происхождения ее экзегетических текстов «Хеваджры», то с ними все более или менее ясно. В качестве фундаментальной основы толкования «Хеваджры» в сакьяпе была принята «Каумудипанджика» Дурджаячандры, переведенная Дрокми и Праджнендраручи. Согласно наставлениям Дрокми, самым продвинутым его учеником в части эзотерической экзегезы был Нгарипа Селве Ньингпо, чей комментарий к «Хеваджра-тантре» до сих пор пользуется высоким авторитетом135. Сачен написал свое собственное разъяснение сложных мест в «Хеваджра-тантре», но это сочинение не для слабых духом, поскольку оно трудно для понимания и требует достаточно хорошего знания «Хеваджры»136. Комментарий Сонама Цемо 1174 года к «Хеваджра-тантре» содержит всеобъемлющую проработку идей, относящихся к герменевтическому методу тантрической экзегетики, которые он постоянно отстаивал и большую часть которых он почерпнул из более ранней работы Нгарипы137. Дракпа Гьелцен написал свой собственный комментарий к «Хеваджре» в 1204 г., т.е. через тридцать лет после создания версии своего брата, на которую он опирался в плане общей композиции и методе разделения на главы138. В этом произведении он лишь частично соблюдает индийские стандарты композиции и стихосложения, что делало его работы более понятными для обычных тибетцев.
Однако сами по себе тантрические комментарии не могли способствовать целостному пониманию пути, и одним из величайших вкладов братьев в прояснение этого вопроса стала их работа над великой картой эзотерической системы. Сачен уже приступал к этой деятельность, написав свои «Краткие основные принципы тантрического канона» (rGyud sde spyi’i rnam bzhag chung ngu), возможно, созданные им по образу и подобию более раннего текста Го-лоцавы Кхукпы Лхеце. Но со времени написания Саченом этой работы интеллектуальный климат в У-Цанге заметно изменился, и знакомство Сонама Цемо в Сангпу с новыми проблемами и интеллектуальными вызовами, очевидно, убедило его в необходимости расширения и переформулирования некоторых ключевых вопросов, особенно касающихся того, как правильно понимать чрезвычайно драматический и эмоциональный эзотерический язык тантрического канона.
Хотя незаконченная работа Сонама Цемо «Основные принципы тантрического канона» (rGyud sde sphyi’i rnam par gzhag pa) во многих отношениях является развитием идей более короткого трактата его отца, все же в какой-то мере ее можно считать самостоятельным произведением. Данный текст состоит из четырех частей, к трем из которых Сонам Цемо обратился вновь перед самой своей кончиной. Начальная глава «Основных принципов тантрического канона» начинается с обсуждения конечной цели, которой Сонам Цемо также считает уникальное состояние абсолютного пробуждения. Далее он признает, что в махаяне есть два пути, первым из которых является метод совершенств, а вторым – колесница тайных мантр. Затем Сонам Цемо переходит к демонстрации превосходства мантраяны, но делает это не так, как его отец. Он заявляет, что мантраяна не только быстрее нормативного пути совершенств, но и ведет к превосходящему его результату: состоянию будды на тринадцатом уровне Ваджрадхары. В этом утверждении нет ничего необычного, поскольку в свое время махаянисты также делали подобные заявления о своем превосходстве над более ранними школами в вопросах окончательного пробуждения. Однако, это означает, что в учении Сонама Цемо о единообразном состоянии будды присутствуют определенные манипуляции с терминологией, касающейся достижения цели, ибо как может существовать единая цель для обоих махаянских путей, когда эзотерическая система приводит к более высокому результату? Сонам Цемо также классифицирует основные наименования работ тантрического канона и подробно останавливается на «недвойственной» классификации, которую сакьяпинцы используют в своих наиболее значимых работах. В целом можно сказать, что первая главы этой работы Сонама Цемо является развитием идей более раннего произведения Сачена.
В очень короткой второй главе анализируется понятие «тантра», а начинается она с исследования самого названия, опирающегося на хорошо известные утверждения из последней главы «Гухьясамджа-тантры», согласно которым тантра – это триединый континуум основы, природы и неотъемлемости139. Затем Сонам Цемо обсуждает тройственную непрерывность (rgyud gsum), отмечая, что эта категория более подробно будет описана в (отсутствующей) четвертой главе140. Наконец, в третьей главе рассматривается такая сложная категория, как герменевтика (bshad thabs). Буддисты применяли всевозможные герменевтические методы, и Сонам Цемо, собрав воедино шесть основных систем, пригодных для тантрической экзегезы, объяснил способы их применения в соответствии со своим пониманием этого вопроса141. Данные системы включают как хорошо известные методы, представленные в «Сандхивьякарана-тантре» и использовавшиеся тантриком Чандракирти, так и те, что присутствовали в таких тантрах, как «Джнянаваджрасамуччая», «Кхасама-тантрараджа», «Хеваджра-тантра» и «Сампутатилака»142.
Помимо своей значимости в качестве основоположника жанра систематической таксономии тантры, «Основные принципы тантрического канона» также интересны по двум другим причинам, одна из которых относится к истории интеллектуальных разработок двенадцатого столетия, а другая – к уровню человеческих отношений. В интеллектуальном плане данная работа предлагает ряд аргументов, которые различные члены буддистского монашеского сообщества выдвигали против эзотерической системы (в том виде, как они ее понимали). Нет сомнений, что со многими из этих аргументов Сонам Цемо сталкивался на практике во время обучения у Чапы, поскольку у него они почти всегда сформулированы как исходящие от неуказанного «человека, практикующего совершенства» (pha rol tu phyin pa po). В совокупности они указывают на то, что вовсе не факт, что в те времена тибетцы дружно шагали в светлое мистическое будущее, а скорее нередко размышляли (как они это делали и раньше, и позже) как о содержании, так и о последствиях допуска в свою среду потенциально дестабилизирующего тантрического материала. Один из этих аргументов особенно резок в своей деконструкции эзотерической парадигмы143:
«Теперь по поводу точки зрения, в соответствии с которой мы утверждаем, что если эзотерический путь имеет множество методов и не имеет трудностей, то данный путь должен быть ошибочным: [Оппонент] Вы (тантрики) считаете средством осознания реальности множество методов по достижению высших сиддхи (таких как «процесс зарождения» и [процесс завершения], использование каналов, ветра и семени), и поэтому ваши утверждения об этом неверны. «Процесс зарождения» – это явленье формального тела Будды (rupakaya), а его реальность полностью соответствует пути совершенств. «Множество средств» – семя, ветер и каналы – также имеются и на пути тиртхиков, и как же они могут стать «средствами» [к состоянию будды]? Более того, «множество средств» для обыденных сиддхи, таких как средства для убийства живых существ и привлечения особей женского пола, просто демонстрируют враждебность по отношению к живым существам. Как вы можете видеть в них высшее пробуждение, когда даже переход в небесные сферы очень далек от такого рода поведения? Что касается вашего «пути без трудностей», то вы утверждаете, что обретение пробуждения достигается посредством блаженства. Итак, если пробуждение достигается отсутствием сомнений в отношении желаний, тогда его уже достигло каждое обычное живое существо во вселенной. Но если вы утверждаете, что достигнете пробуждения, потому что человек остается незапятнанными, если он исследует объект чувств с пониманием реальности [и не вовлекается в область желаний], то это неприкрытая санкхья, а не буддийский путь!»
Ответ Сонама Цемо на эти возражения является весьма показательным в части исходных предпосылок эзотерической системы: он вновь заявляет об иерархии сфер существования, обосновывает их проявление на разных уровнях реальности и отклоняет все возражения, поскольку используемые в них стандарты сравнения явно уступают его собственной системе. Таким образом, несмотря на их явное сходство, махаянская визуализация формального тела Будды не может быть тем же самым, что и процесс зарождения, поскольку эзотерическая система ведет к пробуждению за одну жизнь и поэтому превосходит ее. А утверждение об очевидной зависимости процесса завершения от шиваитских практик и зависимость эзотерических систем шиваизма и буддизма от теоретических структур санкхьи не может быть в полной мере верным, поскольку буддисты выполняют свои ритуалы в рамках практик принятия прибежища, порождения мысли о пробуждении и т.п. Что касается использования радикальных средств, применяемых для убийства живых существ и контроля над ними, то Сонам Цемо указывает (и ему трудно возразить), что даже махаянисты признавали, что они могут использоваться высшими существами для всеобщего блага, о чем говорится в «Бодхисаттвабхуми» Асанги, и что было применено на практике Лхалунгом Пелгьи Дордже, убившим Дарму в 842 году. По этой причине махаянисты вряд ли должны сильно удивляться эзотерическому развитию созданной ими самими доктрины. В общем и целом Сонам Цемо наглядно демонстрирует нам тот факт, что при разработке раннесредневековых систем защиты своих учений стратегия герменевтической стратификации по-прежнему являлась популярным апологетическим методом.
Человеческий аспект «Основных принципов тантрического канона» со всей очевидностью прослеживается в заключительном разделе последней из глав, завершенных Сонамом Цемо, которая посвящена экзегетическому методу. Данная глава содержит массу шероховатостей даже при том, что она, несомненно, подвергалась последующей шлифовке и свое нынешнее состояние приобрела после ее редактирования Сакья Пандитой, хотя нам и неизвестно, насколько обширными были его правки. Кроме того, заключительный раздел этой главы не заявляется в ее начале, что указывает на то, что Сонам Цемо добавил его, не возвращаясь к началу и не меняя общего плана главы. Он начинается с опровержения возражений неназванных оппонентов, протестовавших против использования этих сложных экзегетических приемов. Как минимум один из них указывал на то, что ценность данных методов весьма сомнительна из-за отсутствия у них единообразия в результатах, поскольку редко когда два эзотерических экзегета могли объяснить один и тот же раздел тантры сходным образом. Однако, Сонам Цемо непримиримо опровергает все аргументы своих оппонентов и сразу же после этого делает трогательное заявление, в котором торжественно сообщает о его преданности своей традиции и о ее верности ему. Здесь же он предлагает и краткий обзор двух линий передачи, берущих начало от Вирупы: через Домби и далее к Праджнендраручи и через Канху далее к Гаядхаре. Эта работа позволяет нам хоть на мгновение заглянуть в мир основополагающих ценностей автора двенадцатого столетия, а также проникнуться его стремлением навечно утвердить наследие своего отца.
Сонамом Цемо только анонсировал заключительную раздел, который согласно авторитетам сакьи должен был быть посвящен практике эзотерической системы, а завершен он был уже Дракпой Гьелценом в виде его работы «Украшенное драгоценностями дерево для постижения тантры» (rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i). Нам точно неизвестно, какого рода общение происходило между двумя братьями по поводу сущности намерений Сонам Цемо в отношении последней части его произведения, поскольку лишь одна строка во вступлении Дракпы Гьелцена к его работе указывает на то, что брат приказал ему написать текст на эту тему144. Также несколько вводит в заблуждение описание «Украшенного драгоценностями дерева» как четвертого раздела «Основных принципов» Сонам Цемо, поскольку этот завершающий работу Сонама Цемо текст почти вдвое длиннее его основного произведения. Из упоминаний в «Основных принципов» мы знаем, что в данной главе Сонам Цемо намеревался обсудить тройственную непрерывность, и поэтому «Украшенное драгоценностями дерево» организовано в соответствии с этой стратегией: всеобщая основа причинной непрерывности (kun gzhi rgyu’i rgyud), путь как непрерывность метода (lam thabs kyi rgyud) завершающая плодотворящая непрерывность (mthar thug gi ‘bras bu rgyud).
Однако эта всеобъемлющая структура несколько обманчива, поскольку первый раздел довольно короткий, последний раздел также имеет весьма скромный объем, в то время как материал, посвященный пути, занимает более восьмидесяти процентов общепризнанного текста, что аналогично разным размерам глав «Краткого изложения Гухьясамаджи» (gSang ‘dus stong thun) Го-лоцавы Кхукпы Лхеце. В разделе, посвященном причинной непрерывности, резюмируется идея о различных категориях людей и рассматривается принцип, согласно которому для определенных типов личностей требуются свои особые методы. Это излюбленная тема буддистских авторов с момента принятия ими на вооружение схоластического анализа, и здесь Дракпа Гьелцен лишь скромно опирается на результаты исследований своих предшественников, причем отчасти и потому, что он намеревался рассмотреть этот вопрос более подробно в разделе, посвященном пути. Раздел, посвященный плодотворящей непрерывности также опирается на знакомую почву и посвящен иерархии уровней бодхисатвы и уровню будды, а также различиям между общепринятыми идеями махаяны и эзотерической системой с ее тринадцатью уровнями. Этот заключительный раздел завершается обсуждением различных перечислений тел Будды, идеи фундаментальной трансформации (asraya-parivrtti), пяти форм мистического знания, концепции нелокализованной нирваны (apratisthita-nirvana), недвойственности и непрерывной деятельность будды на благо всех живых существ.
Однако, с разделом, посвященным пути, все обстоит иначе. В принципе, Дракпа Гьелцен мог бы просто следовать экзегетической методике своего отца, используемой в различных комментариях ламдре и опирающейся на систему с «четырьмя пятичастными структурами», рассмотренную в предыдущей главе. Но, возможно, следуя примеру Го-лоцавы, Дракпа Гьелцен решил использовать совершенно другой подход и структурировал этот объемный раздел в соответствии с характеристиками кандидата на обучение. Таким образом, будущими йогинами становились либо менее удачливые личности, следовавшие поэтапным путем (rim gyis pa), либо обладавшие проницательным восприятием, которые, вступая на путь, охватывали все его аспекты одновременно (cig char ‘jug pa). Этими же провокационными терминами пользовались и такие несхожие между собой буддийские авторитеты, как китайские чаньские наставники, Го-лоцава и Гампопа. Однако, в отличие от чаньских авторов Дракпа Гьелцен использует эту терминологию не в контексте стадии окончательного пробуждения, а при обсуждении вступления на эзотерический путь, и в этом он следует прецеденту, созданному Арьядевой. Соответственно, менее удачливый новичок мог последовательно изучать пути шравака, бодхисатвы и видьядхары, проходя каждый из них по очередности145. И наоборот, более удачливый ученик сразу приступал к практике высшей йоги, изложенной в таких недвойственных тантрах, как «Хеваджра»146.
На самом деле, большую часть данного текста занимают различные материалы, относящиеся к одномоментному вхождению, которые традиционно делятся на описание ритуала посвящения, формально подтверждающего зрелость ученика, и текст основной практики эзотерической системы, ведущей его к освобождению. В разделе, посвященном созреванию, Дракпа Гьелцен представляет очень полезный обзор основных компонентов ритуала абхишеки, практиковавшегося в его времена, из которого становится ясным, что уже в тот период у тибетцев было принято заменять реальную духовную супругу (shes rab dngos) визуализированной партнершей. В разделе, посвященном практике, он сходным образом описывает процесс визуализации мандал как следствие посвящения сосудом, процесс постижения с опорой на психическое тепло как следствие тайного посвящения и процесс постижения с использованием реального или воображаемого сексуального соития как следствие посвящения мудрости-знания.
Этот краткий обзор не в состоянии передать весьма любопытный и во многом необычный характер данного текста. Возможно, наиболее примечательной частью «Украшенного драгоценностями дерева» является длинный раздел, посвященный философским взглядам, который расположен между описаниями посвящений и практик. Под этой, казалось бы, безобидной рубрикой Дракпа Гьелцен дает довольно подробный анализ учений основных буддийских философских школ, завершая его мадхьямакой. В соответствии с духом Чапы и предпочтениями некоторых ученых его времени, он приходит к выводу, что продвигаемый Па-цап-лоцавой крайний скептицизм школы прасангики Буддхапалиты и Чандракирти не может служить опорой для ключевых идей, определяющих суть буддийского мировоззрения. В противовес этому далее он наглядно демонстрирует, что школа сватантрика-мадхьямаки Бхавьи превосходит своих более радикальных собратьев, предлагая более тонкий подход в вопросах истины147.
Почему это так важно? Дракпа Гьелцен был приверженцем системы, в которой конечной природой реальности считалось мистическое знание (jnana) – интересный и захватывающий вектор развития более поздней эзотерической системы, особенно заметный в йогини-тантрах, но которому почти не уделялось внимания во вторичной научной литературе. При этом существуют отдельные разновидности мистического знания, в частности вид мистического знания, порожденный следованием примеру во время посвящения мудрости-знания (mtshon byed dpe ye shes), или же абсолютное мистическое знание, обретаемое йогином во время достижения тринадцатого уровня Ваджрадхары (mtshon bya don gyi ye shes). Точно так же существуют различные типы кандидатов в йогины: те, кто обладает обычным мировоззрением, и те, кто накопил как заслуги, так и знания в прошлых жизнях. Эти категории должны быть зафиксированы на формальном уровне и выражены таким образом, чтобы не возникало желания деконструировать их системную сущность, поскольку корнем отношений между учеником и наставником является доверие, а не подозрительность. Трудно понять, как система прасангики с ее деспотичным отрицанием истинности всей буддийской формальной лексики могла использоваться совместно с какой-либо медитативной практикой. А вот гораздо более изощренная система сватантрики вполне удовлетворяла все возможные потребности Дракпы Гьелцена, выступая в роли интеллектуальной подструктуры эзотерической системы.
Настроив под себя эту подструктуру, Дракпа Гьелцен переходит к изложению представления о нераздельности существования и нирваны (‘khor ‘das dbyer med) – ключевого доктринального постулата ламдре. В нем он подводит читателя к идее, что воспринимаемый мир есть не что иное, как продукт его умственной деятельности, которая по своей сути иллюзорна, а иллюзорная сущность сама по себе пуста. Здесь термин «пустота» не подразумевает невозможности связывания с ним каких-либо утверждений, поскольку Дракпа Гьелцен указывает на то, что с точки зрения здравого смысла широко разрекламированное «отсутствие позиции» мадхьямаки само по себе также является позицией. Далее в процессе представления основных принципов своей эзотерической системы он продолжает опираться на ряд базовых буддийских ценностей. Одной из них является признание существования взаимосвязи между психофизическим континуумом и актом пробуждения. Подобно многим системам йогини-тантр, ламдре считает обычную систему «ум-тело» «ваджрным телом» (vajrakaya), которое уже обладает всем необходимым для окончательного пробуждения, просто оно не функционирует должным образом. Т.е. ветры, каналы, серозные субстанции, резонирующие структуры, ментальные системы и движение мистического знания уже присутствуют внутри каждого человека, однако, они в нем слабо развиты. Таким образом, Дракпа Гьелцен интегрировав эзотерическую идеологию бесконечной череды внутренних процессов в доктринальную структуру большого буддийского мира, создал устойчивую доктринальную систему, являвшую собой наилучший вариант теоретической опоры для практик ламдре. Как в этой, так и в других работах Дракпа Гьелцен не уклоняется от критики, как это сделал его брат в «Основных принципах тантрического канона»148. По ходу своего изложения Дракпа Гьелцен дает нам интересную информацию о напряженных отношениях между монастырями подобными Сакье, заявлявшими о превосходстве ваджраяны, и теми, которые ставили под сомнение эту риторику.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Двенадцатое столетие стало переломным в истории тибетского буддизма. В этот период буддисты Центрального Тибета окончательно сформировали свою собственную точку зрения на архитектуру буддийского пути. Ускорению этого процесса способствовала литература терма предыдущего столетия, и кроме того в двенадцатом столетии тибетцы посредством собственной мифологии утвердили образ Тибета как независимой от других буддистских стран территории, на которую в полной мере распространялась деятельная активность различных будд, и где возвышенные бодхисатвы воплощались в качестве великих императоров местной монаршей династии. Они всерьез взялись за ликвидацию последствий разделения буддийского пути, пытаясь объединить между собой махаяну и ваджраяну. При этом они опирались на методы, совершенно чуждые индийцам, которым было гораздо удобнее использовать сотериологическую стратиграфию, основанную на аналогиях с кастовой системой. Вследствие этого первая половина двенадцатого столетия была ознаменована множеством новых идей в эпистемологии, философии (тантрической и нетантрической) и вероучении. Буддисты Центрального Тибета также начали ускоренно создавать свою собственную литературу по медитации и ритуалам, адаптируя к местным условиям многие материалы сиддхов посредством освященного веками процесса толкования и трактовок.
Наконец, двенадцатый век стал тем временем, когда организация тибетской общественной жизни, продвигаемая клановой системой по всему Центральному Тибету, стала реальностью для большинства монашеских сообществ и великих традиций, преуспевавших в течение этого столетия. Монастыри завещались родственникам, и эзотерическая Дхарма стала восприниматься как часть данного завещания. Это приобрело такую форму, что оскорбление родственника или потомка великого ламы стало считаться оскорблением самого ламы и, соответственно, серьезным нарушение эзотерических обетов – положение, не имевшее аналогов в Индии, и по своей сути являвшееся производным от норм тибетского кланового этикета. Правила эзотерической системы с ее парадигмами царствования и сыновних отношений (ваджрные братья и сестры) распространялись и на последующие поколения семейства (если можно так сказать, на «ваджрных внуков»). Одним из последствий заимствования тантрической системой тибетских семейственных моделей стало то, что теперь женщины могли присутствовать на тантрическом пиршестве на равных правах с мужчинами, что было немыслимым к югу от Гималаев. Женщины в Тибете стали обладать влиянием по большей части недоступным их сестрам в Индии, и отказ Жамы Мачик от потенциальных индийских учеников явно указывает на то, что у себя на родине она имела очень высокое общественное положение. Однако, все эти события открыли и иные двери для инноваций и творчества, и в конце двенадцатого столетия деконструкция поведенческих границ повлекла за собой непредвиденные последствия, спровоцировав кризис доверия к буддийским практикам тибетцев, чьи учения все еще продолжали вызывать всеобщее восхищение, а их аутентичность признавалась на международном уровне.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В то разгорающемся, то затухающем хаосе конца имперского периода жители Центрального Тибета изо всех сил пытались установить хотя бы какое-то подобие порядка, но добиться сколь-либо значимых успехов им так и не удалось. Череда беспорядочных восстаний, разграбление имперских гробниц, бегство монахов (и, как можно предположить, других носителей культуры) и последовательный упадок социальных нравов представляют собой до боли знакомый процесс культурного саморазрушения. Буддистские монашеские учреждения, поддерживавшие Тибетскую империю во всех ее проявлениях, также были и одними из виновников ее гибели, поскольку, как и многие другие религиозные группы Азии, буддисты так и не научились смирять свои устремления к привилегиям и власти. Несмотря на это, в постимперский период всегда расторопные буддисты ухитрились добиться еще более прочного положения, чем при самой империи. Расширив сферу своей ритуальной деятельности до посмертных обрядов, религиозного целительства, магических систем и составления священных писаний, воплощающих в себе специфику тибетского буддизма, религиозные аристократы, смотрители храмов и странствующие проповедники смогли создать для себя в социальной среде обширную, но во многом малопонятную для нас нишу. Однако, за все это пришлось заплатить утратой монашеского буддизма Центрального Тибета. Это означало, что монахи – международные представители буддистского мирового порядка – больше не будут декламировать тексты, обсуждать доктринальные тонкости, приглашать выдающихся монахов из других стран и служить противоядием от тибетского провинциализма. Кроме того, это также означало, что у тибетцев простого происхождения, не входящих в аристократические кланы, больше не было доступа к контролю над законностью, поскольку они больше не имели возможности стать монахами и тем самым приобрести непререкаемый религиозный авторитет. По этой и многим другим причинам тибетцы в конце концов вернулись к поискам путей восстановления жизнеспособности своего общества, которая могло быть обеспечена только монашеством.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Таким образом, переводчики эзотерических текстов иногда были вовлечены сразу в несколько уровней соперничества и потенциальных конфликтов. С одной стороны, эзотерическая модель превосходства, далеко выходящая за рамки старого махаянского идеала бодхисатвы, по-видимому, получила признание большинства индийцев, непальцев и тибетцев. Часто повторяющиеся и порой резкие утверждения о быстром пути ваджраяны, обещающем пробуждение в качестве будды уже в этой жизни, казалось, подтверждались визуализацией индивида в облике будды, располагающегося в центре мандалы. Выбирая эту разновидность буддизма, тибетцы помимо собственной насущной потребности в сложных эвокативных ритуалах также принимали во внимание ее широкую распространенность в Северной Индии, что было для них еще одним подтверждением ее аутентичности. Для представителей наследственной линии старых императоров Тибета одиннадцатого столетия мандала отражала их собственные устремления к установлению контроля и занятию центрального положения, так что изображения мандал Вайрочаны или Манджушри, которые они вешали на стены, должны были служить подтверждением их притязаний на власть в фрагментированном мире тибетской реальной политики. Т.е. в данном случае институциональная форма буддистского эзотеризма служила именно тем целям, для которых она с такой тщательностью и разрабатывалась: сакрализации феодальной власти.
С другой стороны, переводчики, представлявшие буддистский эзотеризм, часто получали свои первые знания в рамках традиции сиддхов, поэтому их понимание религиозно-политических формальностей было в большей степени интуитивным. В действительности их притязания на аутентичность редко основывались на мандалах из великих тантр. Вместо этого они опирались на безусловную веру в наставления совершенного сиддхи, который посредством продвинутых йогических методов может привести хорошо подготовленного ученика к интуитивному постижению абсолютной реальности. В этой субкультуре прямые указания наставника чаще всего рассматривались как способ ухода от трудоемкого освоения материалов священных писаний, т.к. считалось, что йогин может напрямую постичь сущность реальности, не преодолевая препятствий в виде длительного изучения соответствующих текстов и их комментариев. Таким образом, драгоценные наставления, передаваемые по хрупкой линии преемственности от изначального Будды Ваджрадхары напрямую к наставнику того, кто обучал переводчика и далее (или примерно также, но посредством «короткой передачи»), стали пробным камнем в распространении новых аутентичных практик, также ведущих к освобождению. Вследствие того, что наличие линии передачи устных наставлений стало непременным условием для эзотеризма сиддхов, у тибетцев (а, вероятно, также и у индийцев) сложилось устойчивое мнение, что чем короче линия передачи между Ваджрадхарой и тибетским переводчиком, тем менее вероятны искажения в этой системе. Поэтому неудивительно, что в одиннадцатом и двенадцатом столетиях основные противоречия возникали не только в связи со спорами об аутентичности того или иного буддийского писания, но по поводу подлинности и неискаженности линий передачи и устных наставлений.
Нередко мы наблюдаем полное отсутствие какой-либо взаимосвязи между мифическими сюжетами агиографий и тем немногим, что нам известно о реальной жизни переводчика. В данном случае речь пойдет о Марпе-лоцаве Чокьи Лотро, который, безусловно, был одним из великих деятелей того периода, а агиографическое описание его отношений с сиддхой Наропой стало литературным памятником тибетской беллетристики. Агиография Марпы была создана в начале шестнадцатого столетия Цанг-ньеном Херукой (1452–1507). Ее манера описания жизни и деятельности великого переводчика вполне соответствует склонности кагьюпы к беллетризации практически всех аспектов своей линии передачи, с сохранением лишь незначительного количества элементов, имеющих историческую подоплеку. Даже общепризнанные даты жизни Марпы из «Синей летописи» (1012-1097 гг.) не соответствуют более ранним и современным ему источникам и почти наверняка неверны. В то время как во многих источниках вообще не приводится никаких дат – просто указывается возраст Марпы в различные периоды его жизни – другие признают, что он родился в год птицы (bya), что может соответствовать 1009 или 1021 году, причем последняя дата более вероятна из-за его ранних отношений с Дрокми84. Имена отца и матери Марпы приводятся в нескольких вариантах, и это может означать, что ни один из них не является правильным. Данное соображение подкрепляется тем фактом, что ранние источники вообще не указывают имен его родителей.
Возможно, что родители или дедушка и бабушка Марпы действительно эмигрировали из Марьюла (Ладакх) в Лходрак, где он и родился85. Наиболее популярные источники описывают Марпу как просто невероятную личность: постоянно воюющим с другими, влюбленным в пиво и болтающим без умолку. В одной из агиографий отец Марпы полагает, что либо он кого-нибудь убьет, либо кто-нибудь убьет его. Поэтому, его родители, которые, очевидно, были богаты, решили потратить часть своего состояния на образование Марпы, отправив его в одиннадцатилетнем возрасте в дальние края на учебу к Дрокми. Однако, в качестве оплаты за любое учение Дрокми требовал больших подношений, поэтому через три года Марпа решил самостоятельно отправиться в Непал, чтобы учиться напрямую у непальцев и индийцев. Будучи подростком, Марпа путешествовал вместе с пожилым ученым Ньо-лоцавой Йонтеном-драком, и хроники клана Ньо с описанием жизни последнего представляют собой хороший контрапункт к наполненным вымыслами житиям Марпы86.
Согласно рассказу Ньо-лоцавы шестнадцатилетний Марпа присоединился к пятидесятипятилетнему ученому и еще более двадцати юношам, отправившись вместе с ними на учебу в Непал. Следует отметить, что основное обучение Марпа, вероятно, прошел в Пхарпинге, где преподавали два (или четыре) брата Пхамтингпы, которые были учениками Наропы (Илл. 7). Проведя какое-то время в Непале, они вместе отправились в Индию, где и расстались: Марпа направился на запад, а Ньо-лоцава – на восток. Ньо-лоцава повстречал некого Балима Ачарью и изучал с ним тантрическую программу того периода, включающую в себя Хеваджру, Чакрасамвару, Махамайю, Гухьясамаджу и другие тантры, а также их ритуалы и комментарии. По общему мнению источников кагьюпы Марпа отправился на обучение к Наропе в Кашмир, где работал с тринадцатью пандитами, включая мифического эксцентричного Кукурипу, который жил в сексуальной связи со своим собаками на берегу озера, наполненного кипящим ядом болиголова (любопытный выбор места для проживания). По подсчетам Ньо они были в отлучке семь лет и семь месяцев, однако, авторы кагьюпа иногда завышают период обучения Марпы до нескольких десятилетий и каждый раз подчеркивают его превосходство над Ньо-лоцавой87. Летописцы Марпы, по-видимому, было настроены к нему очень враждебно, поскольку изображали Ньо-лоцаву зловредным и завистливым попутчиком, бросающим книги Марпы в реку и занимающимся обманом. Но мы не должны воспринимать на веру такие небылицы и можем отметить, что со своей стороны хроники клана Ньо описывают Марпу с уважением88.
Илл 7. Пхарпинг. Фотография автора (фото неразборчиво, поэтому приводится только подпись – прим. shus).
Одной из проблем, неотрывно сопровождающей жизнеописания Марпы, является тот факт, что Наропа умер примерно в 1040–1042 годах, а согласно источникам Марпа провел с ним двенадцать или более лет во время своих трех поездок в Индию89. Даже если принять за факт раннюю дату рождения Марпы, все равно сложно придумать объяснение такой продолжительности их контактов. Хотя некоторые ученые пытались разрешить эту дилемму, общепринятый подход, похоже, заключался в полном игнорировании данного несоответствия90. Некоторые писатели кагьюпа даже прибегали к уловке, утверждая, что Марпа встречался с Наропой уже после его смерти во время своего третьего путешествия в Индию91. Этот вопрос более чем уместен, учитывая свидетельство знаменитого тибетца Нагцо, который взял на себя большую часть ответственности за приглашение Атиши, а затем провел его через весь Западный и Центральный Тибет. Его история содержится в письме, написанном Дракпой Гьелценом в ответ на три вопроса, заданных ему учителем из Кхама, Джангчубом Сенге в связи с разногласиями относительно того, действительно ли Марпа встречался с Наропой. Ответ Дракпы Гьелцена проливает свет на эту проблему:92
«Теперь отвечаю на Ваш вопрос о том, встречался ли когда-либо Марпа с Владыкой Наропой, поскольку эти традиции [кагьюпы] не имеют исходного текста (lung), они полностью опираются на хронику (lo rgyus) и с трудом воспринимают что-либо, помимо изложенного в хронике. Однако, Нагцо-лоцава сообщил следующее:
“Поскольку я прибыл один как ничтожный монах, чтобы пригласить Владыку Атишу, а также потому, что он должен был задержаться еще на год в Магадхе, я подумал, что смогу повидать Владыку Наропу, репутация которого была столь велика. Я двигался на восток от Магадхи в течение месяца, поскольку слышал, что Владыка находится в монастыре, известном как Пхуллахари. Посещение его порождало величайшую заслугу.
В тот день, когда я прибыл, мне сообщили, что монастырь посетил один феодальный князь, чтобы выразить ему свое почтение. Так что, когда я подошел к месту, великий трон уже был воздвигнут. Я сидел прямо перед ним. Вся толпа начала гудеть: “Владыка прибывает!”. Я посмотрел и увидел, что физически Владыка был довольно тучен, с седыми волосами [окрашенными хной] в ярко-красный цвет и алым тюрбаном поверх них. Его принесли [в паланкине] четверо мужчин, и он жевал бетель. Я попытался охватить его стопы и подумал: “Я должен услышать его выступление!”. Однако, люди сильнее и сильнее выталкивали меня все дальше и дальше от его престола, и в конце концов я был вышвырнут из толпы. Таким образом, там я увидел лицо Владыки, но даже не услышал его голоса.
Затем, вернувшись [в Магадху], Владыка Атиша и я – учитель и ученик – остановились в долине Катманду на год [1041/42]. В то время мы слышали, что Владыка Наропа избавился от бремени своего тела, а его ум перешел к небесным дакини, которые сопровождали его с божественными кимвалами. Даже на месте кремации было много чудесных подношений, таких как звук божественных кимвалов и дождь из цветов. Затем мы пробыли три года в Нгари в Западном Тибете [1042–1045 гг. ], а затем отправились на восток и пробыли в Гунгтанге один год [1045/6]. Я снова спустился на восток к Ньетангу, т.к. Владыка Атиша учил Дхарме. Там Марпа Лотро прослушал несколько сеансов и ушел.
Люди говорили, что, встретив Владыку (Наропу), он долго слушал Дхарму. Я слышал неоспоримую историю из прямого источника, что Марпа этого не говорил. Собственным учеником Марпы, когда он был в Пен-юле, был Цангдар Депа Еше. Он сказал: “Что другие говорят о встрече моего учителя и Владыки Наропы, если он сам сказал: «Я никогда не был там (Пхуллахари)!» Мой учитель [Марпа] слышал все его наставления от прямого ученика Наропы Ганги Метрипы”. Тогда я сам слышал это утверждение от одного из учеников Депа Еше”.
[Дракпа Гьелцен продолжает:] Таким образом, нет уверенности, что Марпа сам сделал эти заявления. Есть песня, которая, как говорят, принадлежит Марпе, и в которой говорится [о встрече с Наропой], но Нгок Чокьи Дордже, Ме-цонпо Сонам Гьелцен и другие не поддерживают эту песню. Вместо этого ее поддерживал йогин из Нгом-шо, который распространял ее повсюду. Многие знают, что она не была написано самим Марпой. Теперь, хотя Мила Репа признал эти стихи, согласно свидетельству Нгендзонга Репаса, не похоже, чтобы песня была написана самим Милой. Те, кто знает, что это не Марпы, возразили бы любому, кто скажет, что это было его, указав на тот факт, что текст песни внутренне противоречив и написан кем-то, не знающим Индии, поскольку в нем встречается много ошибок, касающихся страны.
Поэтому, вполне очевидно, что это не слова Марпы (и что Марпа не посещал Наропу).
Как правило, ложь и искажения отвергают доводы и разума, и текстов.
Если все, что обычно обсуждают, будет свершаться, то, однако,
Тогда будут уделять мало внимания хорошо сказанному [истине].
Поскольку это злое время, варварский [тюркский] царь побеждает в Магадхе.
Он искажает религию и распространяет ее [ислам] повсюду, очерняя истинных практикующих.
Если вы желаете встретить превосходных личностей, но не можете из-за местных бед,
Тогда, если вы будете правильно практиковать истинную Дхарму, вы непременно встретите настоящего слугу Повелителя Мудрецов [Шакьямуни]».
Если Марпа действительно обучался главным образом у неварских и индийских учеников Наропы, то это могло бы помочь найти ответы на многие из часто задаваемых вопросов о несообразностях в жизнеописаниях этих личностей93. Например, в некоторых колофонах переводов Марпы указывается, что они были сделаны в кашмирском убежище Наропы в Пушпахари, в то время как в других просто сообщается, что П[х]уллахари был монастырем Наропы94. Пхуллахари действительно был обителью Наропы, но он находился в Восточной Индии (Бихар или Бенгалия), а не в Кашмире. А тот, кто сочинял такие колофоны, либо не знал об этом факте, либо пытался завоевать доверие читателей, трансформировав «пулла/пхулла» (phulla, т.е. «в цвету») в «puspa» (просто «цветок») и поместив это место в Кашмир. Такая ассоциация могла стать следствием сообщения Ньо-лоцавы о том, что Марпа учился на западе, однако, в летописи Ньо также отсутствуют упоминания о Наропе.
Находясь в окружении кашмирских пандитов, высшие иерархи кагьюпы конца одиннадцатого и начала двенадцатого столетий считали для себя либо немыслимым, либо просто неудобным признание того факта, что Наропа, по всей видимости, был бенгальцем. Цуглак Тренгва считает источником этой кашмирской атрибуции «Наставление по сближению и переносу» (Sre ‘pho’i zhal gdams) Нгока Чокьи Дордже (1023-90) и признает, что это не соответствует традиции «Устной передачи Речунга» (Ras chung snyan rgyud), которая конкретно подтверждает бенгальское местонахождение обители Наропы95. Вполне очевидно, что ранние авторы кагью осознавали призрачность связи между Марпой и бенгальским сиддхой, поэтому, где бы ни жил Наропа, им было важно хотя бы отождествить место учебы Марпы с местонахождением его обители. Как ни странно, но эти усилия увенчались успехом, и Гампопа подтвердил, что монастырем Наропы был кашмирский Пушпахари, даже несмотря на некоторые несуразности, связанные с личностью Тхар-па лам-тона (?*Мокшамарга-пантхаки), располагавшегося в линии преемственности между Наропой и Марпой96. Все эти неуклюжие попытки различных авторитетов разрешить неразрешимое служат еще одним подтверждением достоверности высказываний Нагцо о деятельности Марпы. Кроме того, они наглядно демонстрируют масштаб усилий линии преемственности, направленных на сокращение дистанции между главным сиддхой Наропой и великим переводчиком кагьюпы Марпой.
Можно также отметить, что в письме Дракпы Гьелцена в неявном виде присутствует предположение, что приходящая в Тибет истинная линия передачи сиддхов должна включать в себя три компонента: песню (glu), историю (lo rgyus) и текст (lung). Именно такая структура характерна для сакьяпинского ламдре, и, как кажется, этот же стандарт соблюдался в некоторых других линиях передачи. Дракпа Гьелцен, по-видимому, также считал, что в составе отдельных передач, которые кагьюпа получила через Марпу, отсутствовал некий особенный текст, хотя великий переводчика, несомненно, передавал множество текстов. Таким образом, Дракпа Гьелцен (а, возможно, что и другие) полагал, что полностью устный характер некоторых наставлений может порождать определенные проблемы, и здесь мы снова отмечаем особую значимость для подтверждения аутентичности сопутствующих религиозных атрибутов. Наличие у Рало ритуальных принадлежностей Падмаваджры и статуи Ваджрабхайравы *Кунды Бхаро, наряду с текстом тайных магических наставлений, являлось неоспоримым подтверждением подлинности переданной ему Дхармы. Как мы увидим далее, росту популярности сакьяпинского монастыря в Цанге во многом способствовало усердное собирание реликвий Бари-лоцавой, а торговля реликвиями со временем стала оказывать прямое влияние на религиозную репутацию этих своеобразных священных мест.
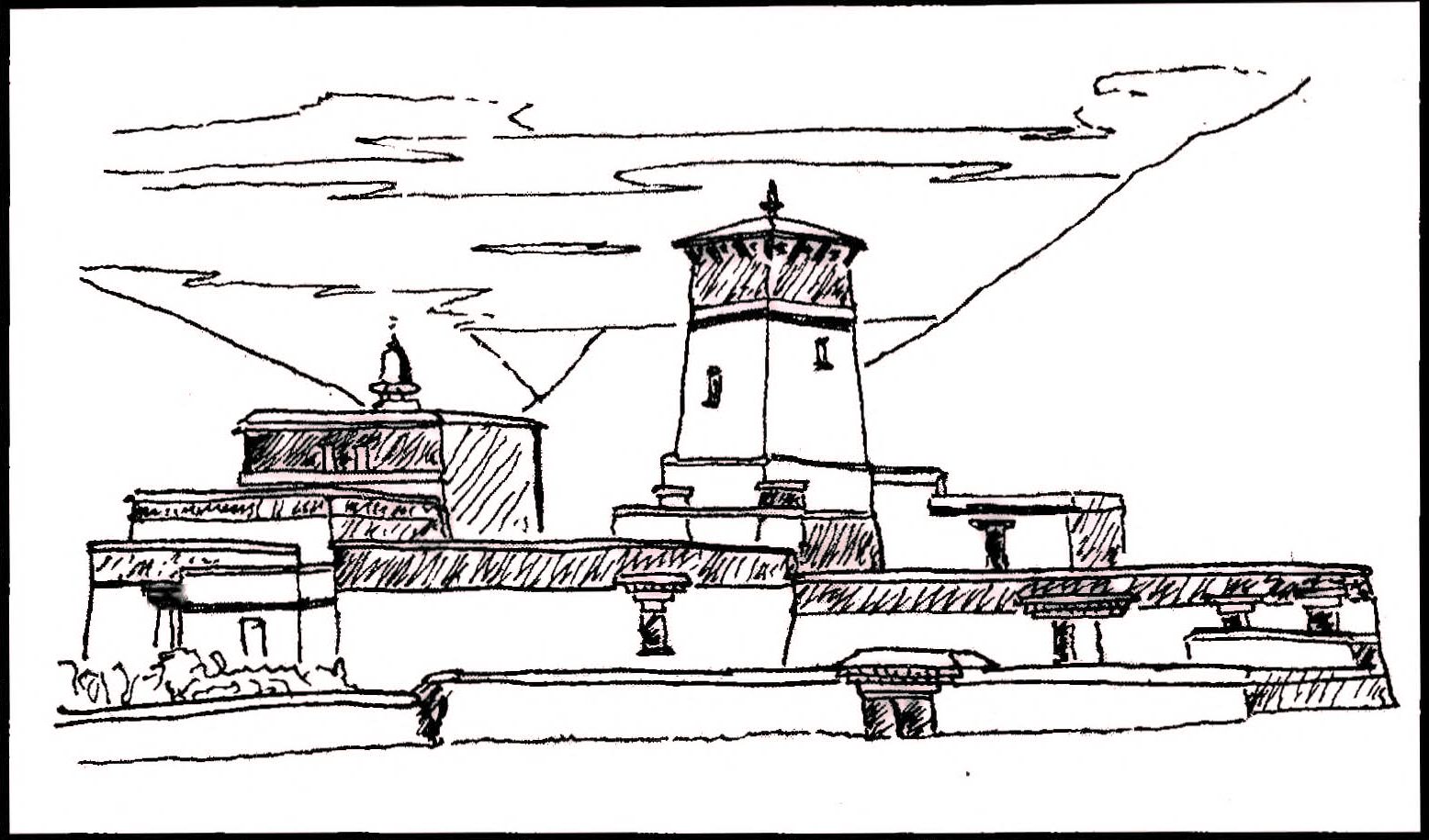 |
|
Илл. 8. Секхар Гуток. Прорисовка по фотографии Ричардсона
|
Каким бы ни был источник приобретенных им знаний, Марпа был очень хорошо принят по возвращению в Лхо-драк, где ему предложили землю на выбор. Он решил обосноваться немного выше по течению древнего храма Кхон-тинг, который был основан первым императором Сонгценом Гампо и играл важную роль в религиозном возрождении благодаря открытию здесь в двенадцатом столетии «текстов-сокровищ». Слава переводчика и положение его семьи в Лхо-драке гарантировали Марпе высокий политический статус, и по возвращении он стал главой (gtso bo) окрестных земель. Со временем он построил две резиденции: свой основной дом в Дрово-лунге и девятиэтажную башню для своих сыновей. Башня, носившая название «Девятиэтажная крепость сыновей» (Sekhar Gutok; Секхар Гуток, см. Илл. 8), свидетельствует о волнениях в Тибете в конце одиннадцатого столетия, поскольку укрепленные цитадели редко строились без особой необходимости. В конце концов, Марпа обзавелся гаремом в мормонском стиле, состоящем из девяти сексуальных партнерш, и стал отцом семерых сыновей. К сожалению, за исключением старшего сына Дармы Доде, который умер в раннем возрасте (ответственность за его смерть взял на себя Рало), его остальные сыновья не проявили способностей в строительстве религиозной империи Марпы. Источники даже описывают отталкивающий образ одного из них, который, увлекаясь азартными играми, проиграл костные реликвии своего отца. Позже их собрал Нгок Доде, взявший на себя ответственность за сооружение мавзолея Марпы. Летописцы кагьюпы признавали ничтожность потомков Марпы, сообщая, что согласно предсказанию Наропы наследственная линия Марпы исчезнет, как призрачный цветок в небе, а его религиозная линия растечется рекой по всему миру, и оба этих утверждения сбылись97.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
В те времена многие святые дхармы, обучающие пути к состоянию будды уже в этой жизни,
Были переведены на благо Его Высочества.
Но принимая во внимание великую занятость правителя,
Даже если Вы не смогли их практиковать, вы создали правильную карму.
Поэтому захороните их как тексты-сокровища
Для того, чтобы по завершении семнадцати жизней правитель снова встретился с ними.
Агиография медного острова Падмасамбхавы, автор Ньянг-рел1
|
Благодаря активной деятельности монахов Восточной винаи и энергичным усилиям переводчиков «позднего распространения» тибетская религиозная вселенная вошла в период непредсказуемых и поэтому весьма волнующих изменений. Сооружая и ремонтируя храмы, создавая новые буддистские сообщества, приумножая сельхозугодья, приглашая лучших зарубежных наставников, демонстрируя выдающиеся достижения в языкознании и высокую социальную мобильность, переводчики стали символом новой религиозной реальности, приходящей на смену прежней духовной основе тибетского общества. Отныне власть и авторитет не нуждались в подтверждении своих полномочий богами гор и полей. А их земные потомки в лице членов императорского семейства и землевладельцев из числа старой аристократии навсегда утратили единоличное право повелевать и владеть тибетскими землями. Старинные храмы, дворцовые алтари, имперские гробницы и горные святилища больше не были главным источником сакрального могущества. Вследствие этого их обитатели – ламы, смотрители храмов, бенде, мантрины (sngags pa) и оракулы (lha pa) – лишились своего статуса главных посредников между богами и людьми. В такой обстановке унаследованная от древних императоров высокопарная речь старой религии почти затерялась в какофонии новых голосов, которые вещали на языках различных богов, явившихся на землю Тибета вместе с такими персонами как Дрокми, нередко не имевшими родственных связей с благородными кланами.
В совершенстве освоив новые для них языки южно-азиатского буддизма, тибетские торговцы и переводчики получили доступ к современным учениям Индии, Непала и Кашмира, вследствие чего была поставлена под сомнение достоверность происхождения многих текстов и практик, являвшихся опорой традиционных лам. С течением времени образованной публике стало ясно, что многие из самых заветных тибетских тантр не прослеживаются до известных индийских источников. Этот корпус текстов получил название ньингмапа (старинная школа) и так бы остался дрейфовать в море текстовой и ритуальной неопределенности, если бы не действия его сторонников. Они не замедлили отреагировать на сложившуюся ситуацию, и для понимания того, чем ответили тибетские нативисты на данные вызовы, мы должны рассмотреть ряд важнейших событий тибетской религиозной жизни периода с десятого по двенадцатое столетие. В целях нашего исследования наиболее значимыми составляющими этой реакции являются: литературный образ «текстов-сокровищ» как части имперского наследия, ответы на критику по поводу их аутентичности, а также защита тибетских доктрин Великого совершенства. Все это повлекло за собой восстановление кланово-аристократического функционала, действия по защите новых текстов и их воззрений, выработанных тибетцами во время и после периода культурных потрясений, а также переоценку имперских (или якобы имперских) мест как источников истинной духовности.
В данной главе мы постараемся ответить на вопросы, каким образом и в каких условиях происходило зарождение и раннее развитие «текстов-сокровищ», которые по-тибетски обозначаются термином «терма» (gter ma), происходящим от тибетского слова «сокровище» (gter)2. Мы рассмотрим различные терма: более детально буддистские и в очень ограниченной степени бонпо. При этом особое внимание мы уделим ранним описаниям их захоронения и обнаружения; легендам, связанным с этими местами и соответствующими богами, а также имперским мифам, воодушевлявшим развитие системы «сокровищ» на протяжении всей эпохи возрождения. Кроме того, в этой главе будет рассмотрена защита школой ньингма своих священных текстов в одиннадцатом столетии, а также ниньгмапинская формализация гносеологического коррелята Великого совершенства – идеологии осознавания (rig-pa), которая представляла собой выдающийся сплав индийских доктрин и тибетской духовности. Ввиду ограничений по объему данной книги мы сможем рассмотреть лишь самые важные моменты истории этого необычайно интересного движения. При этом, поскольку до настоящих времен исследования терма, как правило, старались не касаться периода его возникновения, то основное внимание мы уделим именно этому вопросу.
Ame-shep = A-mes-zhabs
Anchung Namdzong = An-chung gnam-rdzong
An Shakya-kyap = An Shakya-skyabs
Apo Penton= A-pho pha-ston
Aro Yeshe Jungne = A-ro Ye-shes byung-gnas
Aseng = A-seng
Asengma = A seng ma
A-uma = ‘A’u ma
Ba/Be = sBa[s]
Ba Gyelpo tagna = sBa rGyal-po stag-sna
Balam-Lak = Ba-lam-glag
Balam-ne = Ba-lam-gnas
Barompa = ‘Ba’-rom-pa
Bangton = Bang-ston
Bari-lotsawa = Ba-ri lo-tsa-ba
Barpuk-rong = Bar-spug-rong
Ba Selnang = sBa gSal-snang
Ba Tsultrim Lotro = sBa Tshul-khrims blo-gros
Bharo Chagdum = Bha-ro phyag-rdum
Batsun Lotro Yonten = sBa-btsun bLo-gros yon-tan
Batsun Lotro Wangchuk = rBa-btsun bLo-gros dbang-phyug
Be = sBas
Be Gyelwa Lotro = sBas rGyal-ba blo-gros
Bel= ‘Bal
Belpen Zama = ‘Bal-‘ phan bza’- ma
Belpuk = sBal-phug
Belton Senge Gyeltsen = sBal-ston Seng-ge rgyal-mtshan
Bende = ban-de
Bendima = Bande ma
Ben-dziba = ‘ban-dzi-ba / ‘ba’-ji-ba
Bepsa Wamo-shung = ‘Bebs-za Wa-mo-zhung
Besa Kerwa = Be-so Ker- ba
Bon-nag Rewa Dzugu = Bon-nag Re-ba ‘dzu-gu
Buldok -lhak Lhakhang = Bul-rdog-lhag lha-khang
Bumtang = Bum-thang
Buton = Bu-ston
Buton Rinchendrup = Bu-ston Rin-chen-grub
Butsel Serkhang-ling = Bu-tshal gser-khang-gling
Cha= bya
Cha= Phya
Chag = Chag
Chagen Wangchuk Gyeltsen = Cha-gan dBang-phyug rgyal-mtshan
Chag-gong = Chag-gong
Chaglo Choje-pel = Chag-lo Chos-rje dpal
Chalung Dorje-drak = Cha-lung rdo-rje-brag
Changtsa Jerong = Byang-tsha bye-rang gi dgon-pa
Chapa Chokyi Senge = Cha-pa (or Phya-pa) Chos-kyi seng-ge
Char Ratna = Car-rad-na
Cha-tsang gung-nang = Bya-tshang gung-snang
Cha-uk sa-tsik = Bya-‘ug sa-tshigs
Che= lCe
Chegom Nakpo = lCe-sgom Nag-po
Chemo Namkhamo = ‘Phyad-mo Nam-mkha’-mo
Chen-nga Tsultrim-bar = sPyan-snga Tshul-khrim-‘bar
Chen-ngok Lotro Gyelwa = sPyan-rngog bLo-gros rgyal-ba
Chenye = sPyan-g.yas
Chepong = Che-spong
Cheton Sherap Jungne = lCe-ston Shes-rab ‘byung-gnas
Che-tsun Senge Wangchuk = lCe-btsun Seng-ge dbang-phyug
Chidar = Phyi-dar
Chim = mChims
Chimpu = mChims-phu
Ching-nga = ‘Ching-nga
Ching-yul = ‘Ching-yul
Chiri = Phyi-ri
Chiring = sPyi-ring
Cho = gCod
Chog = lCogs
Chog-ro = lCogs-ro
Chog-ro Pelgyi Wangchuk = Cog-ro dPal-gyi dbang-phyug
Chomden Rigrel = bCom-ldan Rig-ral
Chongye = ‘Phyong-rgyas
Chuk-tsam =-Phyugs-mtshams
Chumik Dzinkha = Chu-mig rdzing-kha
Chuwori Gomdra = Chu-bo-ri’i bsgom-grwa
Dagyelma = Zia rgyal ma
Dakla Campo= Dwags-la sgam-po
Dakpo Gomtsul = Dwags-po sCom-tshul
Dakpo Wang-gyel = Dwags-po dbang-rgyal
Dam-sho karmo = ‘Dam-shod dkar-mo
Dangma Lhungyel = lDang-ma lhun-rgyal
Darchen-pel = Dar-chen-dpal
Dar Drongmoche = mDar- grong-mo -che
Darma Dode = Dar-ma mdo-sde
Darma Trih Udum-tsen = Dar-ma Khri ‘U-dum btsan
Dasho-tsel = Zla-shod-tshal
De= lDe
Denbuma = lDan bu ma Denkar = lDan-dkar Denma = lDan-ma Densa = gdan-sa
Densatil = gDan-sa-mthil Dentik = Dan-tig
Detsug- gon = lDe-gtsug-mgon
Deu Jose = lDeu jo-sras
Dharton Shakya Lotro = Dhar-ston Shakya blo-gros
Dingri = Ding-ri
Dogme = mDog-smad
Dogto = mDog-stod
Dolchung Korpon = mDol-chung bskor-dpon
Dong = lDong tribe
Do rje Chukmo = rDo-rje phyug-mo
Dorje-drak = rDo-rje-grags
Dorje Peldzom = rDo-rje dpal-‘dzom
Dorje Purpa = rDo-rje phur-pa
Dorje Raptenma = rDo-rje rab-gtan-ma
Drag-rum to- me = Brag-rum stod-smad
Drakpa Cyeltsen = Grags-pa rgyal-mtshan
Drakpa Sherap = Grags-pa shes-rah
Draktse Sonakpa = Brag-rtse so nag-pa
Drak Yerpa = Brag yer-pa
Dranang = Grwa-nang
Drang-je pa-nga = Drang-rje pha-lnga
Drang-khar Che-chen = sBrang-mkhar shre-can
Drangti = Brang-ti
Drangti Zurchopa Geshe Khyung Rinchen Drakpa = Brang-ti Zur-chos-pa dge-bshes Khyung rin-chen grags-pa
Dranka = Bran-ka
Dranka Pelgyi Yonten = Bran-kha dPal-gyi yon-tan
Drapa Ngonshe = Gra-pa mNgon-shes
Dratang = Gra-thang
Drawolung = Bra-ho-lung Dre= ‘Bre
Dre= Brad
Dre Kyiru = Dra’i kyi-ru
Dreng Chokhu = Greng ‘phyos-khu
Drengyi Lhading = ‘Dren gyi lha-sdings
Dre-tag-chen = Gres-thag-can
Drigum Tsenpo = Gri-gum htsan-po
Drigung Jikten Gonpo = ‘Bri-gung ‘Jig-rten mgon-po
Drigung Pel-dzin = ‘Bri-khungs dPal-‘dzin
Drilung Mesho = ‘Bris-lung rme-shod
Dring = ‘Bring
Dring Yeshe Yonten = ‘Bring Ye-shes yon-tan Drisiru = Gri-zi-ru
Dro = ‘Bro
Dro= sGro
Dro Gyeltsen Senge = ‘Bro rGyal-mtshan seng-ge
Drokmi = ‘Brog-mi
Drokmi Lotsawa = ‘Brog-mi lo-tsa-ba
Drokmi Pelgyi Yeshe = ‘Brog-mi dPal-gyi ye-shes
Drokmi Shakya yeshe = ‘Brog- mi Shakya ye-shes
Dro-lotsawa Sherap-drak = ‘Bro-lo-tsa-ba Shes-rah-grags
Dro Manjusri = sGro Man-‘dzu-shri
Dromchu = Grom-chu or Khrum-chu
Drom Depa Tonchung = ‘Brom De-pa ston-chung
Dromo = Gro-mo
Drompa = Grom-pa
Drompa-gyang = Grom-pa-rgyang
Drom Ramcha Yune = ‘Brom Ram-cha yu-ne
Dromton = ‘Brom-ston
Dromton Gyelwe Jungne = ‘Brom-ston rGyal-ba’i ‘byung-gnas
Drong-chung = Grong-chung
Dro Nyentse = ‘Bro-gnyan-rtse
Drowo-lung = Gro-bo-lung Dru= Bru
Dru= ‘Dru
Drukpa Kagyupa = ‘Brug-pa bKa’-brgyud-pa
Drum Barwa Jangchub = Brum ‘Bar-ha byang-chub
Drum Chinglak-chen = Grum Phying-slag-can Dru-mer = Gru-mer
Dru-mer Tsultrim Jungne = Gru-mer Tshul-khrims ‘byung-gnas
Drum Yeshe Gyeltsen = Grum Ye-shes rgyal-mtshan
Druptob Ngodrup = Grub-thob dngos-grub Dungdrok = gDung-‘brag
D ung-tsuk = mdung tshugs
Dusum Khyenpa = Dus-gsum mkhyen- pa Dutsi = bdud rtsi
Dzeden Ochak = mDzes -ldan ‘od-chags Dzongkha = rDzong-kha
Galo Zhonu-pel = rGwa-lo gZhon-nu-dpal
Gampe-dzong = Gam- pa’i rdzong
Gampopa = sGam-po-pa
Gar = mGar
Gah-ring Gyelpo = Ga-ring rgyal-po
Gatengma = sGa theng ma
Gaton Dorje-drak = sGa-ston rDo-rje-grags
Gegye = dGe-rgyas
Gelo = dGe-blo
Geluk = dGe-lugs
Geshe Chak-ri-wa = dGe-bshes lCags-ri-ba
Geshe Drangti Darma Nyingpo = dGe-shes Brang-ti Dar-ma snying-po
Geshe Gyatsa Jangye = dGe -bshes rGya-tsha byang-ye
Geshe Gya-yondak = dGe-b shes rGya yon-bdag
Geshe Jangchup sempa = Byang-chub sems- dpa’
Geshe Khonchung = dGe-bshes ‘Khon-chu ng
Geshe Mar-yul Loden sherap = dGe-shes Mar-yul blo-ldan shes-rab
Geshe Me-lhang-tser = dGe-bshes Me’i-lhang-tsher
Geshe Nyak Wang-gyel = dGe-bshes gNyag dbang-rgyal
Geshe Nya-rawa Dondrup = dGe-bshes gNya’ Ra-ba don-grub
Geshe Nyen Pul-jungwa = dGe-bshes gNyan Phul-byung-ba
Geshe Nyuk- rumpa = dGe-bshes sNyug-rum-pa
Geshe Treu-chok = dGe-shes Kre’o mchog
Geshe Zangskarwa = dGe-shes Zangs-dkar-ba
Gewasel = dGe-ba -gsal
Go= ‘Gos
Go-lotsawa Khukpa Lhetse = ‘Gos lo-tsa-ba Khug-pa lhas-brtsas
Colo Zhonu-pel = ‘Gos-lo gZhon-nu-dpal
Gompa Kyibarwa = sGom-pa sKyi-‘bar-ba
Gen= mGon
Concho= mGon-spyod
Gongpa-sel = dGong-pa-gsal
Gon-ne = mGon-ne
Gon-nyon = mGon-smyon
Gorum = sGo-rum
Coton = mGos-ston
Guge Purang = Gu-ge pu-hrangs
Gungru Sherap Zangpo = Gung-ru Shes- rah bzang-po
Gungtang = Gung-thang
Gurmo Rapkha = ‘Cur-mo rab-kha
Guru Cho-wang = Gu-ru Chos-dbang
Guru Trashi = Gu-ru bkra-shis
Gyagom Tsultrim-drak = rGya-sgom Tshul-khrims-grags
Gya-lo Tsondru Senge = rGya-lo brTson-‘grus seng-ge
Gyamarpa = rGya-dmar-pa
Gyangdrak Nyipak = rGyang-grags gnyis-‘phags
Gyasar-gang = Gya-sar-gang
Gya Shakya Zhonu = rGya Shakya gzhon-nu
Gya Tsulseng = rGya Tshul-seng
Gyelbu Yondak = rGyal- bu yon-bdag
Gyel-luk Lhekyi Lhakhang = rGyal-lugs lhas kyi lha-khang
Gyel-tangpa Dechen Dorje = rGyal-thang-pa bDe -chen rdo-rje
Gyengong = rGyan-gong
Gyenkor = rGyan-skor
Gyere Langra = Gye-re glang-ra
Gyergom Sepo = sGyer-sgom se-po
Gyichu = sGyi-chu
Gyichuwa Draplha-bar = sGyi-chu-ba dGra-lha-‘bar
Gyijang Ukarwa = Gyi-ljang dbu-dkar-ba
Gyijo Dawe Oser= Gyi-jo Zla-ha’i ‘od-zer
Hadu Karpo = Hadu dkar-po
Heshang Genhak = Ha-shang Gan-‘bag
Heshang Kaw = Ha-shang Ka-ha
Jampa Dorje Gyeltsen = Byams-pa rDo-rje rgyal-mtshan
Jamyang Khyentse Wangpo = Jam-dhyangs mKhyen- brtse’i dhang-po
Jamyang Loter Wangpo = ‘Jam-dhyangs hLo-gter dbang-po
Jangchuh-O = Byang-chuh-‘od
Jangchub Sempah Aseng= Byang-chuh sems-dpa’ A-seng
Jangchuh Sempah Dawa Gyeltsen = Byang-chub sems-dpa’ Zla-ba rgyal-mtshan
Jangchuh Sempah-Tak = Byang-chub sems-dpa’ sTag
Jangchub Senge = Byang-chub seng-ge
Jangsem Kunga = Byang-sems Kun-dga ‘
Je Gonpawa = rJe dGon-pa-ba
Je Kharchungwa = rJe mKhar-chung-ba (= Se mKhar-chung-ha)
Jetsun = rJe-btsun
Jetsun chenpo = rJe-btsun chen-po
Jetsun Chokyi Gyeltsen = rJe-btsun Chos kyi rgyal-mtshan
Jetsun Rinpoche = rJe-btsun rin-po-che
Jocham Purmo = Jo-learn Phur -mo
Joga = Jo-dga’
Jokliang = Jo-khang (= ‘Ph rul-snang gtsug-lag-khang)
Jomo Lhajema = Jo-mo Lha-rje-ma
Jowo = Jo-ho
Jowo Dong-nakpa = Jo-ho gDong-nag-pa
Kadam = bKa’-gdams
Kadampa = bKa’-gdams-pa
Kahma = hka’-ma
Ka-o Chog-drakpa = Ka-‘od mchog-grags-pa
Kargong-lung = dKar-gong-lung
Karmo Nyida C hamsing = dKar-mo nyi-zla lcam-sring
Kart on Jose Chakyi Dorje = dKar- ston jo-sras lCags kyi rdo-rje
Kawa Shakya Wangchuk = Ka-ha Shakya dhang-phyug
Kek Ne-nying = sKegs gnas-snying
Kelkor = sKal-skor
Kham = Khams
Khampa Dorgyel = Khams-pa rDor-rgyal
Khampa Senge = Khams-pa Seng-ge
Khamsum Sangkhang = Khams-gsum zangs-khang
Khangsar Yari-puk = Khang-gsar ya-ri-phug
Kharak = Kha-rag
Kharak Topu = Kha-rag thod-phu
Kharak Tsangpa Kha-rag gtsang-pa
Kharchungwa = mKhar-chung-ba
Khau-kyelhe = Kha’u-skyed-lhas
Khedrupje = mKhas-grub-rje
Khepa-deu = mKhas-pa lde’u
Khyin-lotsawa = ‘Khyin lo-tsa-ba
Kholpo Semong = Khol-po sre-mong
Khon= ‘Khon
Khon Gyichuwa = ‘Khon sGyi-chu-ba
Khon Konchok Gyelpo = ‘Khon dKon-mchog rgyal-po
Khon Lui-wangpo = ‘Khon kLu’i dbang-po
Khon Pelpoche = ‘Khon dPal-po-che
Khon Shakya Lotro = ‘Khon Shakya bLo-gros
Khon Sherap Tsultrim = ‘Khon Shes-rah tshul-khrims
Khon-ting = Kho-mthing
Khor-re = ‘Khor-re
Khu= Khu
Khuton Tsondru Yungdrung = Khu-ston brTson-‘grus g.yung-drung Khyentse Wangchuk = mKhyen-brtse’i dbang-phyug
Khyungpo Drakse = Khyung-po Grags-se Khyungpo Neljor = Khyung-po rNal-byor
Khyungpo Senge Gyeltsen = Khyung-po Seng-ge rgyal-mtshan
Khyungpo Yu’i-surpu = Khyung-po g.Yu’i zur-phud
Kongpo Agyel = Kong-po A-rgyal
Kongpo Yejung = Kong-po Ye-byung
Kongtrul = Kong-sprul
Kongtrul Lotro Taye = Kong-sprul bLo-gros mtha’-yas
Konpa Jegungtak = dKon-pa rJe-gung-stag
Kunga = Kun-dga ‘
Kunga-bar = Kun-dga’-bar
Kunga Gyeltsen = Kun-dga ‘ rgyal-mtshan
Kunga Nyingpo = Kun-dga ‘ snying-po
Kunga Wangchuk = Kun-dga’ dbang-phyug
Kuring de-nga = Ku-rings sde-lnga
Kusulupa Zhang Yonten Rinchen = Ku-su-lu-pa Zhang Yon-tan rin-chen
Kya = sKya
Kyareng Tragme = sKya-rengs khrag-med
Kyi Atsarya Yeshe Wangpo = Kyi Atsarya Ye-shes dbang-po
Kyichu = sKyid-chu
Kyide = sKyid-lde
Kyirong = sKyi-grong
Kyobpa Pel-zangpo = sKyob-pa dPal bzang-po
Kyokpo Gateng = Kyog-po sGa-theng
Kyoton Sherap Dorje = sKyo-ston Shes-rah rdo-rje
Kyura = sKyu-ra
Lachen = bLa-chen
Lama Dampa = bLa-ma dam-pa bSod-nams rgyal-mtshan
Lamdre = lam ‘bras
Lamo Chagdeu = La-mo chag-de’u
Lang= rLangs
Langchung Pelgyi Senge = rLangs-chung dPal-gyi seng-ge
Lang Darma = gLang dar-ma
Lang Khampa lotsawa = bLang Khams-pa lo-tsa-ba
Langlap Jangchub Dorje = Lang-lab Byang-chub rdo-rje
Langpa = Lang-pa
Langton Jampa = gLang-ston Byams-pa
Lato = La-stod
Lato Dingrishe = La-stod Ding-ri-shed
Lato-lho = La-stod-lho
Lato-mar = La-stod-mar
Le= gle
Leng Yeshe Zhonu = Leng Ye-shes gzhon-nu
Len Tsultrim Nyingpo = gLan Tshul-khrims snying-po
Len Yeshe Sherap = rLan Ye-shes shes-rab
Lha chenpo = Lha chen-po
Lha Depo= Lha lDe-po
Lha Detsen = Lha lDe-btsan
Lha Kadampa = Lha bKa’-g dams-pa
Lha-lama Yeshe-o = Lha- bla ma Ye-shes-‘od
Lhalung Pelgyi Dorje = Lha-lung dPal gyi rdo-rje
Lhalung Rapjor-yang = Lha-lung Rab-‘ byor-dbyangs
Lhamo lamtso = Lha-mo bla-mtsho
Lha Totori Nyentsen = Lha Tho-tho-ri gnyan-btsan
Lhatse = Lha-rtse
Lhatse-drak = Lha- rtse’i brag
Lhatsun Kali = Lha-btsun ka-li
Lhatsun Ngonmo = Lha-btsun sngon-mo
Lhatsun Tonpa = Lha-btsun ston-pa
Lho-drak = Lho-brag L
huntse = Lhun-rtse
Lingkha = gLing-kha
Lobpon Joden Rong-gom = sLob-dpon Jo-gdan rong-sgom
Lobpon Tencikpa Tsondru-drak = sLob-dpon sTan-gcig-pa
brTson-‘grus-grags
Lok-kyama = kLog skya ma
Lonak Tsuksen = Lo-nag gtsug-san
Lo-ngam Tadzi = Lo-ngam rta-rdzi
Longchen Chojung = kLong chen chos ‘byung
Long-tang Drolma = gLong-thang sgrol-ma
Lon Gungzher = bLon Gung-bzher
Lopo Lojung-be = Lo-pho lo-byung sbas
Loton = Lo-ston
Loton Dorje Wangchuk = Lo-ston rDo-rje dbang-phyug
lotsawa = lo-tsa-ba
Lotsawa Darma Yonten = Lo-tsa-ba Dar-ma yon-tan
Lotsawa Drokmi Trakgi Relpachen = Lo-tsa-ba ‘Brog-mi Phrag gi ral-pa-can
Lotsun = Lo-btsun
Lowo-lotsawa Pelden Jangchub = bLo-bo lo-tsa-ba dPal-ldan byang-chub
Lu= klu
Lu Kargyel = kLu sKar-rgyal
Lume = kLu-mes
Lume Sherap Tsultrim = kLu-mes Shes-rah tshul-khrims
Lung-sho nampo = kLungs-shod nam-po
Lutsa Takpo Ochen = kLu-tsha stag-po ‘od-chen
Ma= rMa
Machik Labdron = Ma-gcig Lab-sgron
Machik Odron = Ma-gcig ‘Od-gron
Machik Zhangmo = Ma-gcig Zhang-mo
Ma Chobar = rMa Chos-‘bar
Magom Chokyi Sherap = rMa-sgom Chos-kyi shes-rab
Makzorma = dMag-zor-ma
Ma-lotsawa = rMa lo-tsa-ba
Malu-loton Gelong Konchok-drak = sMa-klu lo-ston dGe-slong dKon-mchog-grags
Mamo Relpachen = Ma-mo ral-pa-can
Mandzu-lingpa = Mandzu-gling-pa
Mangkhar = Mang-mkhar
Mangkar Drilchen = Mang-kar dril-chen
Mangto Ludrup Gyamtso = Mang-thos kLu-grub rgya-mtsho
Mani Kambum – Mani bka’ ‘bum
Ma Rinchen-chok = rMa Rin-chen mchog
Marpa Chokyi Lotro = Mar-pa Chos-kyi blo-gros
Marpa Dorje Yeshe = Mar-pa rDo-rje ye-shes
Mar Shakya Senge = dMar Shakya seng-ge
Marton = dMar-ston
Mar-tsun Gyelwa = dMar-btsun rGyal-ba
Masang = Ma-sangs
Masang Chije = Ma-sangs spyi-rje
Melgyo Lotro Drakpa = Mal-gyo bLo-gros grags-pa
Mel-lo tsawa = Mal lo-tsa-ba
Mel Yerpawa = Mal Yer-pa-ba
Me-tsonpo Sonam Gyeltsen = Mes-tshon-po bSod-nams rgyal-mtshan
Meu = rMe’u
Mikyo Dorje = Mi-bskyod rdo-rje
Mila Repa = Mid-la ras-pa
Magar Dresa = Mo-‘gar ‘bras-sa
Mora-gyel = Mo-ra-‘gyel
Monza Tsomo-gyel = Mon-bza’ mtsho-mo-rgyal
Mu= dMu
Mugulung = Myu-gu-lung
Mushang-kyi Rokam = Mu-shangs kyi ro-skam
Muza Dembu = dMu-za idem-bu
Nagtso-lotsawa = Nag-tsho lo-tsa-ba
Nagtso Tsultrim Gyelwa = Nag-tsho Tshul-khrims rgyal-ba
Namde = gNam-lde
Namde Osung = gNam-lde ‘Od-srung
Namke Nyingpo = Nam-mkha’i snying-po
Nam-khaupa = g Nam-kha ‘u-pa
Namo shampo = sNa-mo sham-po
Nam-ra = Nam-ra
Namtang Karpo = rNam-thang dkar-po
Nanam = sNa- nams
Nang= sNang
Nartang = sNar-thang
Neljorpa Chenpo = rNal-byor-pa chen-po
Neljorpa Sherap Dorje = rNal-byor-pa Shes-rah rdo-rje
Ne-nying = gNas-rnying
Nepo Drakpa Gyeltsen = sNe-po Grags-pa rgyal-mtshan
Ne-sar = gNas-gsar
Netso Belton = Ne-tso sBal-ston
Neutang = Ne’u- thang
Nezhi = gNas-gzhi
Ngadak Trihchung = mNga’-bdag Khri-chung
Ngadak Trihpa = mNga’-bdag Khri-pa
Ngadak Tsede = mNga’-bdag rTse-lde
Ngak-chang Ngagwang Kunga Rinchen = sNgags-‘chang Ngag- dbang kun-dga’ rin-chen
Ngak-nag Taktsa = sNgags-nag sTag-tsha
Ngakpa = sngags-pa
Ngari = mNga’-ris
Ngaripa Selwe Nyingpo = mNga’-ris-pa gSal-ba’i snying-po
Ngari-to = mNga’- ris stod
Ngendzong Repa = Ngan-rdzong ras-pa
Ngenlam Gyelwe Wangpo = Ngan-lam rGyal-ba’i dbang-po
Ngok = rNgog
Ngok Chokyi Dorje = rNgog Chas kyi rdo-rje
Ngok Dode= rNgog mDo-sde
Ngok Jangchub Jungne = rNgog Byang-chub byung-gnas
Ngok Lekpe Sherap = rNgog Legs-pa’i shes-rah
Ngok-lotsawa Loden Sherap = rNgog lo-tsa-ba bLo-ldan shes-rah
Ngoktonpa = rNgog-ston-pa
Ngoling = sNgo-gling
Ngom-sho = Ngom-shod
Ngonmo = sNgon-mo
Ngorchen Kunga Zangpo = Ngor-chen Kun-dga’ bzang-po
Ngozher nyiwa = sNgo -bzher snyi-ba
Non = gNon
Nup = sNubs/gNubs
Nubchen Sangye Yeshe = gNubs-chen Sangs-rgyas ye-shes
Nupchung = sNubs-chung
Nub Pelgyi Jangchub = sNubs dPal-gyi byang-chub
Nub Sangye Rinchen = gNubs Sangs-rgyas rin-chen
Nubyul = g Nubs-yul
Nyagde = Nyag-lde
Nyagma = gNyags ma
Nyak = gNyags
Nyakton = gNyag-ston
Nyak Tokpo = sNyags thogs-po
Nyalam = gNy -lam
Nyaloro = gNya’-lo-ro
Nyang = Myang
Nyang-rel = Nyang-ral
Nyang-rel Nyima-ozer = Nyang-ral Nyi-ma ‘od-zer
Nyang-ro = Nyang-ro
Nyangto Jangche = Nyang-stod byang-‘chad Nyel = gNyal
Nyen = gnyan
Nyen-chung Dharma-drak = gNyan-chung Dharma-grags
Nyenam-lang = sNye-nam-glang
Nyenchen Tanglha = gNyan-chen thang-lha
Nyen-lotsawa Darma-drak = gNyan lo-tsa-ba Darma-grags
Nyentse-tar = gNyen-rtse-thar
Nyetang = sNye-thang
Nyewe Tungchopa = Nye-ba’i-‘thung-gcod-pa
Nyima-gon = Nyi-ma mgon
Nyima Gyeltsen = Nyi-ma rgyal-mtshan
Nyima Gyeltsen Pel-zangpo = Nyi-ma rgyal-mtshan dpal-bzang-po
Nyingma = rNying-ma
Nying-tik = sNying-tig
Nyi-o Pelgon = Nyi-‘od dpal-mgon
Nyiwa = sNyi-ba
Nyo = gNyos
Nyo-lotsawa Yonten -drak = gNyos lo-tsa- ba Yon-tan-grags
Nyonpa Donden = sM yon-pa don-ldan
Obar = ‘Od-‘bar
Ode = ‘Od-lde
Odren Lotro Wangchuk = ‘O-bran bLo -gros dbang-phyug
Ogam Khudol Sumdruk = ‘Og-‘am khu-dol gsum -‘brug
Okyi-bar = ‘Od-skyid-‘bar
Olkha = ‘ol-kha
Ompuk = ‘Om-phug
Onpo Pelden Sherap = dbOn-po dPal-ld an shes-rab
Oser Burne = ‘Od-zer ‘bum-me
Osung = ‘Od-srung
O-tron = ‘O-phron
Pa= sPa
Padampa Sangye = Pha-dam-pa Sangs-rgyas
Pa-dro = sPa-gro
Pagmo Drupa Dorje Gyelpo = Phag-mo gru-pa rDo-rje rgyal-po
Pagor Bairotsana = sPa-gor Be-ro-tsa-na
Pakpa = ‘Phags-pa bLo-gros rgyal-mtshan
Pakpa Wati = ‘Phags-pa Wa-ti
Pangtang = ‘Phang-thang
Pa-tsap = sPa-tshab
Pa-tsap lotsawa Nyima-drak = sPa-tshab lo-tsa-ba Nyi-ma-grags
Pawa-dese = Pha-ba lDe-se
Pelchen Opo = dPal-chen ‘od-po
Pelde = dPal lde
Pelden Lhamo = dPal-ldan Lha-mo
Pelgi Dorje = dPal-gyi rdo-rje
Pel Khortsen = dPal-‘khor-btsan
Pelmo Pelta = dPal-mo dpal-tha
Pelsang Kharchak drilbu = dPal-bzang ‘khar-chags dril-bu’i dgon-pa
Pema Dorje = Pad-ma rdo-rje
Pema Marutse = Padma ma-ru-rtse
Penchen Minyak Drakdor = Pan-chen Mi-nyag grags-rdor
Pen-yul = ‘Phan-yul
Podrang Shiwa-O = Pho-brang Zhi-ba-‘od
Po-gyu tsekhar = Pho-rgyud rtse-mkhar Pon Gyel-le = dPon-rgyal-le
Potoba Rinchen-sel = Po-to-ba Rin-chen-gsal
Puchungwa Zhonu Gyeltsen = Phu-chung-ba gZhon-nu rgyal-mtshan
Pukdrak Kanjur = Phug-brag bKa’-‘gyur
Pukpoche = Phug-po-che
Purang = Pu-hrangs
Purang lotsawa Zhonu Sherap = Pu-rangs lo-tsa-ba gZhon-nu shes-rah
Purap-lotsawa= Pu-hrab lo-tsa-ba
Ra= Rwa
Rachak = Ra-chag
Rakshi Tsultrim Jungne = Rag-shi Tshul-khrims ‘byung-gnas
Ralo Dorje-drak = Rwa lo-tsa-ba rDo-rje-grags
Ra Lotro Zangpo = Rwa bLo-gros bzang-po
Ra-lotsawa = Rwa lo-t sa- ba rDo- rje-g rags
Ramoche = Ra mo che
Ratna Lingpa = Ratna gling-pa
Raton Konchok Dorje = Rwa-ston dKon-mchog rdo-rje
Rechungpa = Ras-chung-pa
Regom-ma Kone = dbRad-sgom- ma dKon-ne
Re Konchok Grelpo = dbRad dKon- mchog rgyal-po
Relpachen = Ral-pa-can
Retreng = Rwa-sgreng
Rigpa-gon = Rig-pa-mgon
Rinchen Zangpo = Rin-chen bzang-po
Riwo Khyungding = Ri-bo khyung-lding gi lha-khang
Rok = Rog
Rok-ben Sherap-O = Rog-ban Shes-rab-‘od
Rongkar = dbRong-kar
Rong Ngurmik = Rong Ngur-smig
Rongton Lhagah = Rong-ston lha-dga’
Rongton Senge-drak = Rong-ston seng-ge-grags
Rongzom Chozang = Rong-zom chos-bzang
Rulak = Ru-lag
Sachen Kunga Nyingpo = Sa-chen Kun-dga’ snying-po
Sadak = sa-bda g
Sag- shubma = Sag shubs ma
Saktang-ding = Sag-thang-sdings
Sakya = Sa-skya
Sakya Labrang = Sa-skya bla-brang
Sakyapa = Sa-skya-pa
Samye = bSam-y as
Sangpu Neutok = gSang-phu ne’u-thog
Sangye Gyamtso = Sangs- rgyas rgya- mtsho
Sangye Lama = Sangs- rgyas bla-ma
Sangye Rinpoch e = Sangs-rgyas rin-po-che
Sarma = gsar ma
Se = Srad
Sedonma = Sras don ma
Sedur = Se-rdu
Sejili – Se-byi- li
Sekhar Chungwa = Se-mkhar chung-ba
Sekhar Gutok = Sras- mkhar dgu-thog
Senalek = Sad-na-legs Khri- sde srong-btsan
Sera Pukpa = Se-ra phug-pa
Seton Kunrik = Se-ston Kun-rig
Seton Sonam Oser= Se-ston bSod-nams ‘od-zer
Setsa Sonam Gyeltsen = Se-tsha bSod-nams rgyal-mtshan
Se Yeshe Tsondru = Se Ye-shes brtson-‘grus
Shabkyi Go-nga = Shabs kyi sgo-lnga Shak-tsen = Shag-btsan
Shakya-drak = Shakya-grags
Shakya Sherap = Shakya shes-rab
Shalu = Zha-lu
Shang = Shangs
Shang Kharlung = Shangs-mkhar-lung
Shangpa Kagyupa = Shangs-pa bKa’-brgyud-pa
Sharwapa = Shar-ba-pa
Shel-tsa Gyelmo = Shel-tsha rgyal-mo
Shen= gShen
Shenchen Lugah = gShen-chen kLu-dga’
Shengom Rokpo = gShen-sgom rag-po
Shepamo Chamchik = Shab-pa-mo lCam-gcig
Shiwa-O = Zhi-ba-‘od
Shong Lotro Tenpa = Shong-ston bLo-gros brtan-pa
Shobu = Shod-bu
Shupu = Shud-pu
Situ Chokyi Gyamtso = Si-tu Chos kyi rgya-mtsho
Sogdokpa Lotro Gyeltsen = Sog-bzlog-pa bLo-gros rgyal-mtshan
Solnak Tangboche = Sol-nag Thang-bo-che
Songtsen Gampo = Srong-btsan sgam-po
Sonam Gyamtso = bSod-nams rgya-mtsho
Sonam Tsemo = bSod-nams rtse-mo
Song-nge = Srong-nge
Sumpa Khenpo = Sum-pa mkhan-po
Sumpa-lotsawaPelchok-dangpo Dorje = Sum-pa lo-tsa-ba dPal-mchog dang-po’i rdo-rje
Sumpa Yeshe Lotro = Sum-pa Ye-shes blo-gros
Sumton Pakpa Gyeltsen = Sum-ston ‘Phags-pa rgyal-mtshan
Sumtrang = gSum-‘phrang
Sum-tsek = gSum-brtsegs
Taglo Zhonu Tswtrim = sTag-lo gZhon-nu tshul-khrims
Taglungpa = sTag-lung-pa
Tagtso = sTag- tsho (=sTag-lo)
Tagyapa = Thag rgya-pa Taktse = sTag-rtse
Taktse-nyak = rTag-rtse-snyags
Tanak = rTa-nag
Tangpoche = Thang-po-che
Tangchen = Thang-chen Tang= Thang
Tarpa lotsawa = Thar-pa lo-tsa-ba
Terna Dorje-tso = rTad-mo rDo-rje-‘tsho
Tentreu = brTan-spre’u
Terma = gter-ma
Thar-pa lam-ton = Thar-pa lam-ston
Ti-shri Sangye Rechen = Ti-shri Sangs- rgyas ras-chen
Tokpo = Thog-po
Toling= mTho-ling
Tolung = sTod-lung
Ton-kharda = Don-mkhar-mda’
Topu = Thod-phu
Trandruk = Khra-‘brug
Trang-a = ‘P hrang-‘od
Trashi-gon = bKra-shis mgon
Trashi Tsekpel = bKra-shis brtsegs-dpal
Trihchung = Khri-chung
Trihde = Khri-lde
Trihde-bar = Khri-lde-‘bar
Trihde Gontsek = Khri-lde mgon-brtsegs
Trihde Gontsen = Khri-lde mgon-btsan
Trihd epo = Khri-lde-po
Trihde Songtsen = Khri-lde srong-btsan
Trihde Yumten = Khri-lde Yum-brtan Trihgong = Kri-gong
Trih Kyide Nyimagbn = Khri sKyi-sde nyi-ma mgon
Trih Namde Tsenpo = Khri gNam-lde btsan-po
Trihpa = Khri-pa
Trih Opo = Khri-‘od-po
Trih Trashi Tsede = Khri bkra-shis rTse-lde
Trihtsuk Detsen = Khri-gtsug lde-btsan
Trihsong Detsen = Khri- srong lde’u-btsan
Trolma = Khrol-ma
Trulgyel = ‘P rul-rgyal
Trumchu = Khrum-chu
Tsalana Yeshe Gyeltsen = Tsa-la-na Ye-shes rgyal-mtshan
Tsami = rTsa-mi
Tsami Lotsawa Sangye-drak = rTsa-mi lo-tsa-ba Sangs-rgyas-grags
Tsamo-rong = Tsha-mo-rong
Tsang = gTsang
Tsang to-me= gTsang stod-smad
Tsangdar Depa Yeshe = gTsang-dar Dad-pa ye-shes
Tsangdram = gTsang-‘gram
Tsang-nyon = gTsang-smyon
Tsangpa Gyare = gTsang-pa rGya-ras
Tsangpopa Konchok Senge = gTsang-po-pa dKon-mchog seng-ge
Tsang Rapsel = gTsang rab-gsal
Tsarchen Losel Gyamtso = Tshar-chen bLo-gsal rgya-mtsho
Tse= Tshe
Tsede = rTse-lde
Tsel = Tshal
Tselpa Kunga Dorje = Tshal-pa Kun-dga’ rdo-rje
Tsepongza = Tshe-spong-bza’
Tseroduk = rTse-ro-dug
Tsewang Norbu = Kah-tog mkhan-po Tshe-dbang nor-bu
Tsi-lhakhang = rTsis lha-khang
Tsinge-tonpa Dulwa-dzinpa = Tsing-nge ston-pa ‘Dul-ba ‘dzin-pa
Tsinge-tonpa Gelong Sherap-drak = Tsing-nge ston-pa dGe-slong Shes-rab-grags
Tsokye Dorje = mTsho-skyes rdo-rje
Tsongdu = Tshong-‘dus
Tsongkha Gonpa = gTsong-kha dgon-pa
Tsongtsun Sherap Senge = Tshong-btsun Shes-rab seng-ge
Tsuglak Trengwa = gTsug-lag ‘phreng-ba
Tsultrim Jangchub = Tshul-khrims byang-chub
Tsur-lhalung = mTshur lha-lung
Tsurpu = mTshur-phu
Tsur-tsun Gyelwa = mTshur-btsun rGyal-ba
Tupten Gepel = Thub-bstan dge-‘phel
Tulwa Yeshe Gyeltsen = Thul-ba Ye-shes rgyal-mtshan
Tusong = Dus-srong
Upa Dropoche = dBus-pa Grod-po-che
Urgyen Lingpa = U-rgyan gling-pa
Urgyen Terdak Lingpa = U-rgyan gter-bdag gling-pa
Uru = dBu-ru
Use = dBu-se
U Shatsar = dBus-sha-tshar
U-Tsang = dBus-gTsang
U- tse = dBu-rtse
Utse Nyingma = dBu-rtse rnying-ma
Wa/We = dBa’/dBa’s
Wangchuk-ozer = dBang-phyug ‘od-zer
Wangchuk-trih = dBang-phyug-khri
Wangde = dBang-lde
Yalung = g.Ya’-lung
Yamdrok nak-khim = Ya-‘brog gnags-khyim
Yamshu Gyelwa-o = Yam-shud rgyal-ba-‘od
Yangdak = Yang-dag
Yapang Khon-bar-kye = g.Ya’-spang ‘khon-bar-skyes
Yapang-kye = g.Ya’-spang-skyes
Yarlha Shampo = Yar-lha Sham- po
Yarlung = Yar-lung
Yarlung sog-kha = Yar-lungs sog-kha
Ya-tsun Konchok Gyelwa = dBya’-btsun dKon-mchog rgyal-ba
Ye= g.Yas
Yerpa = Yer-pa Yeru = g.Yas-ru
Yeshe Dorje = Ye-shes rdo-rje
Yeshe Gyeltsen = Ye-shes rgyal-mtshan
Yeshe-O = Ye-shes-‘od
Yol-togbep = Yol thog-‘bebs
Yo-gejung = g.Yo dge-‘byung
Yoru = g.Yo-ru
Yonru = g.Yon-ru
Yuchen = g.Yu-spyan
Yu-drak = g.Yu-brag
Yu-kharmo = g.Yu-mkhar-mo
Yumbu Lagang = Yum-bu gla-sgang
Yumdonma = Yum don ma
Yumten = Yum-b rtan
Yune = g.Yu-[s]ne
Yungton Tro-gyel = g.Yung-ston Khro-rgyal
Yung-wa che-chung = Yung-ha che-chung
Yuring = g.Yu-ring
Yuru = g.Yu-ru (= g.Yo-ru) Yutok = g.Yu-thog
Zangpo Drakpa = bZang-po grags-pa
Zangri = zangs-ri
Zangskar lotsawa = Zangs-dkar lo-tsa-ba
Zha-ge desum = Zha-gad sde-gsum
Zhama Chokyi Gyelpo = Zha-ma Chos-kyi rgyal-po
Zhama Macik = Zha-ma Ma-gcig
Zhang Chobar = Zhang Chas-‘bar
Zhang Gonpawa = Zhang dGon-pa-ba
Zhangje Sene = Zhang-rje Sad-ne
Zhangton Darma Gyeltsen = Zhang-ston Dar-ma rgyal-mtshan
Zhang Nanam Dorje Wangchuk = Zhang sNa-nam rdo-rje dbang-phyug
Zhang Tsultrim-drak = Zhang Tshul-khrims-grags
Zhang Yu-drak-pa = Zhang g.Yu-brag-pa
Zhangyul Jakshong = Zhang-yul ‘Jag-gshong
Zhangzhung Gurawa = Zhang-gzhung Gu-ra-ba
Zhang Ziji = Zhang gZi-brjid
Zhe-lhakang = Zhwa’i lha-khang
Zhi-che = Zhi-byed
Zhong-pa = Zhong-pa
Zhu= Zhu
Zhuchema = Zhu byas ma
Zhuton Tsondru = Zhu-ston brtson-‘grus
Zhuton Zhon-nu Tsondru = Zhu-ston gZhon-nu brtson-‘grus
Zugah Dorje = gZu-dga rdo-rje
Zurchen = Zur-chen
Zurchopa Pel-midikpa = Zur-chos-pa dPal mi-dig-pa
Zurchung Sherap Drakpa = Zur-chung Shes-rah grags-pa
Zurpoche = Zur-po-che
Zur Shakya Jungne = Zur Shakya ‘byung-gnas
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Ко второй половине одиннадцатого столетия в результате напряженного труда переводчиков возник огромный корпус текстов, посвященных новым ритуальным и медитативным системам. Однако, в эти же времена возникло и понимание того, что такая деятельность требует всеобъемлющей интеллектуальной координации. Вследствие этого данный период отмечен исследованиями новых идей, переводами философских работ и захватывающим развитием местного тибетского творчества как на эзотерические, так и на экзотерические темы. Хотя идущие от переводчиков линии передачи возникали и развивались благодаря интересу к их исследованиям новых индийских писаний, в реальной жизни им приходилось опираться на сеть монастырей, созданных монахами Восточной винаи, и духовное наследие ньингмы. Представителям второго поколения, таким как последователь ламдре Сетон Кунрик, кагьюпинские авторы Нгок Чокьи Дордже и Мила Репа, «три брата» из кадампы и их сверстники, необходимо было найти новый путь, который в конечном счете бы привел к полной «евангелизации» Тибета. При этом они комментировали переведенные священные писания, организовывали новые институты, нарабатывали клиентуру и набирали учеников, совершенно не имея возможности посещать Индию или Кашмир для обучения и подтверждения своих духовных полномочий.
Таким образом, ради достижения великих целей буддизм выбрал путь индигенизации и начал долгий, порой мучительный, процесс ассимиляции. При этом местные традиции вполне отчетливо понимали, что данные задачи невозможно решить без использования потенциала самой могущественной институции Тибета: врожденного чувства спаянности членов великих кланов и аристократических правителей. Клановая структура несла в себе механизмы наследования, передачи власти и развития семейной духовности. Особенно наглядным примером этих сильных сторон являлся клан Кхон, поскольку он мог вполне законно претендовать на происхождение от монарших персон имперского периода, поддерживал богатые традиции ритуальных программ и с воодушевлением относился к новым священным писаниям и линиям передачи, появлявшимся в Центральном Тибете. Сотрудничество Кхона Кончока Гьелпо с Дрокми и другим переводчикам, включая членов своего собственного клана, является парадигматическим примером процесса, происходившего повсеместно в таких кланах, как Жанг, Нгок, Жама, Ра, Чим, Ньива, Зур, Че, а также во множестве других наследственных линий. Как правило, они основывали собственные храмы, передавали внутренние учения своим родственникам, давали наставления по большому корпусу ритуалов и литературы, расширяли свои земельные владения, а также культивировали такие сопутствующие науки, как медицина, предсказания и астрология. Одновременно с этим они занимались накоплением богатств и деятельностью по интернационализации своих соотечественников. Их усилия привели к настоящему расцвету сугубо местных идей и речевых оборотов, что нашло свое отражение в литературе двенадцатого столетия.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В процессе изучения работ Сонама Цемо мы начинаем осознавать, насколько важным для него было образование, воспринимавшееся им как некая самостоятельная ценность, а также отмечаем его стремление к достижению в своей работе полного совершенства. Это ощущение особой значимости образовательной системы было материализовано им в 1167 в виде одного из самых известных его произведений, носящего название «Дверь для входа в Дхарму» (Chos la ‘jug pa’i sgo)149. Данная работа разделена на несколько невзаимосвязанных между собой разделов и посвящена разъяснению фундаментальных аксиом буддийского пути с особым акцентом на идеи агиографии и исторического нарратива. Текст начинается с рассмотрения проблем, связанных с определением и пониманием термина «Дхарма». В следующем разделе исследуются вопросы мотивации, очищения и встречи с добронравным духовным другом, оказывающим помощь в движении по пути. Затем в тексте обсуждается буддийский путь, поскольку именно он является средством вхождения в Дхарму. Следуя в этом направлении, Сонама Цемо переходит к основной части текста, которая представляет собой пересказ историй о предыдущих перерождениях Будды, его явленьи в этот мир и его двенадцати деяниях. Далее он рассматривает возражения, основанные на разнородных источниках, а затем представляет свой собственный взгляд на природу Будды и повествует о его кремации, распределении телесных реликвий и трех собраниях (или советах), посвященных сохранению Дхармы. Затем автор кратко излагает линию преемственности индийских ученых, после чего переходит к описанию распространения буддизма в Тибете, которое включает в себя генеалогию тибетских царей. Все это Сонам Цемо завершает хронологией, содержащей некоторые даты, которые очень важны для реконструкции периода, предшествовавшего возрождению, т.е. с середины девятого по конец десятого столетий. В заключение Сонам Цемо выражает свою тревогу о будущем буддистской религии, поскольку тех, кто произносит слова Будды, становится все меньше, и большинство других людей, похоже, злятся на них. В Магадхе растет число противников Дхармы; в Тибете распространяются ложные учения; а злонамеренные правители приграничных территорий разрушают великие монастыри Индии. Видя все это, Сонам Цемо создал свое произведение, посвященное сущностным основам Буддхадхармы, чтобы те немногие, кто почитает данное учение, могли ответить новыми усилиями на угрозы, распространяющиеся по обе стороны от Гималаев.
Помимо этого, Сонам Цемо написал небольшую работу, посвященную тому, как тибетцы произносят буквы своего языка и слова мантр, в которой призывал их выработать единое произношение150. Его список говоров различных территорий, судя по всему, является самым ранним описанием тибетских диалектов и используется в качестве источника в исследованиях исторической фонологии тибетского языка151. Здесь же у него присутствует и описание индийского произношения, каким по его данным оно было в середине двенадцатого столетия, которое пока еще ждет своей оценки исследователями индийской фонологии. Нет сомнений в том, что подобным образом действовал и Дракпа Гьелцен, использовавший грамматику тибетского языка Смрити для обучения основам правильного произношения, орфографии и литературной композиции, поскольку известен текст, претендующий на право называться его учительскими заметками152. Используя свои знания, приобретенные им в процессе изучения работ Чапы, Сонам Цемо также написал комментарий к «Бодхичарьяватаре». Данное произведение сначала задумывалось как комментарий к ее особо значимой девятой главе, но в конечном счете было расширено, охватывая все содержимое этого текста. Оно до сих пор используется учителями сакьяпы в качестве предпочтительного комментария в процессе преподавания ими своим подопечным этой элегантной махаянской работы153. Наконец, следует отметить, что оба брата составляли вводные ритуальные тексты для тех, кто еще только осваивался в монашеской среде, чтобы они могли ознакомиться с архивом нормативных молитв и правилами ритуального поведения в залах Сакьи154.
Усилия этих двух высокообразованных ученых, предпринимаемые ими во благо только вступающих на буддийский путь неофитов, не остались незамеченными их потомками, хотя это чаще всего это относится к тем, кто пишет вводные материалы. Аме-шеп утверждал, что Сонам Цемо был настолько увлечен педагогикой, что эти и другие его работы были «ни с чем не сравнимы» (sngon med) в том, что касалось помощи начинающим ученым155. Чтобы понять смысл этой похвалы, нам следует знать, что на нормативном тибетском жаргоне «ни с чем не сравнимый» является уничижительным термином. Тем не менее, Аме-шеп заявлял, что в случае с Сонамом Цемо это выражение означает достойное восхищения движение вперед, а не некое «новаторство», являющееся просто семантическим эквивалентом неумелости или преднамеренного извращения традиции. Аналогичные оценки Аме-шеп давал и Дракпе Гьелцену: каким бы сложным ни был текст, он всегда писал его так, чтобы его ученики могли его легко понять даже в том случае, когда он зачитывался вслух впервые156.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
Вы послали [в качестве духовных доверенных лица] Эру Аро и Манджушри (имена двух посланников – прим. shus) в сопровождении свиты с лучшим из богатств – серебром и золотом – на поиски Священной Дхармы Индии, чтобы они смогли распахнуть окно для озарения погруженного в глубокий мрак Тибета.
Как истинного Буддхагухью (того, чьей тайной является Будда), мое сердце радует, что Вершина Царской Власти всего мира, тот, кто выправил искаженное понимание власти среди своих царедворцев, Высший Властелин в непрерывным потоке божественных проявлений, Владыка Трисонг Децэн, должен отдавать такое распоряжение:
«Поезжайте на превосходную равнину Дхармы, человека и божества!». Таким образом он указал Манджушри и Мурите не считаться с великими болезнями, возникающими вследствие концентрации ветра, желчи и мокроты среди сияния усыпанного драгоценностями тела, или же вследствие препятствий, чинимых 80 000 демонов.
Они были упорны в своих усилиях, прибыв из такого высокого места, чтобы пригласить меня туда, но я не в состоянии пойти за ними. Бодхисатва, сам Арья Манджушри, предупреждал меня: «Если ты пойдешь в Тибет, то потеряешь свою жизнь!» Хотя я и не могу совершить эту поездку, я посылаю в ответ на подарки Повелителя наставление по медитации, мою Йогаватру.
Буддхагухья «Бхоташвамидасалекха» 1.6-91
|
Стенания Буддхагухьи отражают двойственное отношение многих индийских монахов к призыву тибетской цивилизации. В глазах индийских буддистов тибетцы были в высшей степени примитивны, но при этом очень преданны делу буддизма. Однако, в то время как индийский буддизм претерпевал одну неудачу за другой, тибетцы являли собой мощный источник поддержки буддистского учения, и расцвет тибетского буддизма после одиннадцатого столетия в равной степени можно считать как следствием непрекращающихся индийских проблем, так и возрастающих возможностей тибетцев. Подобно Сакье Пандите, вызванному ко двору Коден-хана (Koden/Godan Khan) почти пять веков спустя, Буддхагухья получил приглашение от иностранного главы государства, который для монаха, представлявшего эзотерическую традицию, по азиатским стандартам того времени был малоцивилизованным имперским правителем. В каждом случае приглашение буддистского монаха с намерением ввести его в состав имперской свиты было связано с личными переживаниями и духовными запросами этих правителей. Сюда можно отнести восхищение харизмой буддистской духовности, желание позаимствовать продукты индийской цивилизации, потребность в сакрализации военного авторитета, ощущение неполноты величия без обладания собственным святым праведником и даже благоговейный страх перед тем, что боги этого святого могут обладать ключом к всемогуществу, ну и т.п. Такие приглашения сами по себе зависели от общественной ауры Буддхагухьи и Сакья Пандиты, а также от их репутации в части святости и учености, которую доверенные лица монарха могли оценить по рассказам современников этих монахов.
Не важно, о ком идет речь: о монголах тринадцатого столетия или же о пленении кучийского монаха Кумарадживы в пятом веке китайским военоначальником Люйгуаном – на умы центральноазиатских политических авантюристов обаяние буддийской святости действовало подобно магниту. При этом, первоначальная притягательность эзотерического буддизма для таких имперских личностей была лишь только началом диалогического процесса. Без постоянного подтверждения своего авторитета, могущества, полезности и возможностей ритуальной драматургии – или же без способности монахов напрямую говорить о проблемах духовности, языка, божественности и иерархии – тантрическая буддистская система осталась бы в памяти как еще одно любопытное упоминание, скрытое в недрах фолиантов, посвященных малозначимым религиозным движениям. Как я покажу далее, тантрическая система, как никто другой (а, возможно, и как единственная в своем роде), была способна принимать участие во всех этих, а также во множестве других дискурсов, поддерживаемых социальными, политическими и культурными системами, находящимися в состоянии дисбаланса. Причина развития таких способностей кроется во времени и месте зарождения тантрических буддизмов, т.е. они являются реакцией на изменчивые условия, в которых представители буддизма испытывали чрезвычайно сильное давление окружающей их среды. Вследствие этого буддистская тантрическая система обладала адаптивными стратегиями, которые позволили ей стать предпочтительной традицией в разрозненных географических и культурных зонах, а также дали возможность авторитетно вещать на протяжении многих веков, вплоть до настоящего времени. На самом деле, довольно парадоксальным выглядит тот факт, что тибетские императоры в целом относились к тантрическому буддизму с большой осторожностью, и что великий период расцвета этой системы в Тибете произошел не в результате деятельности тибетской империи, а вследствие ее краха. При этом, благодаря своей способности легитимизировать местную власть и индивидуальной харизме, эзотерическая система чувствовала себя как рыба в воде в условиях социокультурного смятения, охватившего постимперский Центральный Тибет.
В этой главе в общих чертах обсуждаются вопросы индийского происхождения эзотерического буддизма, но с акцентом на те тексты и тех личностей, которые воодушевляли и поддерживали специфический тибетский вариант этого движения. Хотя тибетоцентричные и синоцентричные авторы часто игнорируют его индийское происхождение, индийский эзотерический буддизм возник вовсе не для того, чтобы обращать в тантрическую веру дворы правителей и привлекать на свою сторону интеллигенции Тибета, Китая, Японии, Бирмы или других стран. Однако, его успех в этой части был настолько впечатляющим, а упадок буддизма в Индии было настолько масштабным, что сокрытие его индийского происхождения, по всей видимости, является нормативной темой в работах, посвященных этому вопросу. В действительности, индийская основа эзотерического буддизма так же значима, как и исторический период его активной деятельности: раннее средневековье с седьмого по двенадцатые века. В этой главе вначале кратко описываются социально-политические реалии Индии той эпохи. Затем в ней резюмируются буддистские разработки этого времени, и в общих чертах обрисовывается институциональный эзотеризм, который представлял сакрализацию повелителя как средневековый феодальный идеал.
Традиция «совершенных» (siddha) представлена как новая категория буддистских святых подвижников, являющихся буддистской итерацией более старой формы личностей, ассоциируемых с устремлениями обретения владычества в качестве вселенского повелителя магов (vidyadharacakravartin). Здесь мы также знакомимся с тантрической литературой и ее отношением к различным формам практики, демонстрируя предпочтения, оказываемые тибетцам одним ее разновидностям перед другими. Что касается систем тибетского возрождения, то в роли идеальных сиддхов в них часто выступали Наропа и Вирупа. Их агиографии в данной главе рассматриваются в обобщенном виде, с акцентом на темы сиддхов и исторический контекст, и в особенности на то, как в них объясняется тибетская категоризация их линий передачи, опирающихся либо на изучение (bshad brgyud), либо на практику (sgrub brgyud). К сожалению, первая часть данной главы представляет собой неизбежный повторный обзор множества идей, более подробно описанных в моей предыдущей работе*. Поэтому читатели, знакомые с указанным текстом, могут просто перейти к тому месту, где я рассматриваю эзотерические литературные категории в несколько ином свете.
——————————————————————-
* См. перевод указанной книги на русский язык «Индийский эзотерический буддизм: социальная история тантрического движения»
——————————————————————-
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
- bKa’ ‘chems ka khol ma, translating pp. 277.19-78.2, 278.13-79.r.
- The standard history is Beckwith 1987.
- A survey of the court involvement with Buddhism is found in Dargyay 1 991.
- This is a point that Kapstein 2000, pp. 11-12, makes convincingly. The term feudalism has been contested in its application to Tibet s modern period, but the primary criteria-decentralization, dissolution of a central state apparatus, and insecurity-inhibiting the application of feudalism to Tibet as proposed in such protests as Thargyal 1988 are in fact found in our period. Because of these and other traits, it was similar to Indian feudalism, for which see Davidson 2002c, chap. 2.
- Tucci 1947, p. 463. This same observation has been made many times.
- Hackin 1924, p. 18; Chos la Jug pa’i sgo, p. 343.3. Tucci 1947, table between pp. 462-63; Tucci 1956a, pp. 51-63, considers the later lineage. The perhaps latetwelfth-century Bod kyi rgyal rabs of Crags-pa rgyal-mtshan, p. 296.1.5-4.2, and the Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcudofNyang-ralnyi-ma’od-zer, pp. 446 ff, appear to be the earliest of our surviving sources to provide a somewhat more extensive discussion of the period. By the thirteenth century, the 1283 Ne’u chronicle sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, pp. 118 ff; the /D e’u chos ‘byung, pp. 137-63; and the mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 364 ff., seem to present welldeveloped stories of the period; their similarity to thesBa bzhedzhabs btags ma, Stein 1961, pp. 78-92, would seem to argue for a late date to the completion of this latter work; see Martin 1997, pp. 23-24, for a bibliography on sBa bzhed scholarship.
- Sorensen 1994, p. 410, n.1420, provides the references to Tibetan literature. The Xin Tangshu gi s 838.; see Pelliot 1961, p. 183; compare Vitali 1996, p. 541, n. 923.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud pp. 417.20-18.4; sBa bzhed zhabs btags ma, Stein 1961, pp. 70.14-71.
- Sorensen 1994, p. 412, n. 1431, notes the Sad-na-legs 812 chronology but misunderstands the significance of the bkas bead rnam pa gsum and does not consider that reforms took time to implement; that is why the Ral-pa-can materials emphasize his position in the revision. Compare the recent work of Scherrer-Schaub 2002 on this process.
- See Herrmann-Pfandt 2002 for a recent discussion of these catalogs.
- For these and their sources, see Uebach 1990; I thank Janet Gyatso for drawing my attention to this article.
- Bu ston chos ‘byung, p. 19r.5-7; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 417.12-16; the final part of this is in Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsti bcud p. 423.6-7.
- This is the reading of Bu ston chos ‘byung, p. 19r.6; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 417-14, makes the restriction apply solely to the matr-tantras, the later scriptures not translated in the early period. rNying-ma authors like Nyang-ral do not accept this restriction on translation and engage in lengthy descriptions of the material translated, most of which, however, is actually apocryphal and assigned to Ral-pa-can as a matter of chronological defense. See, for example, Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud pp. 420-23, which introduces aberrations like the translation of the Byams-chos-lde-lnga ( p. 422.8), mostly done later by rNgog bLoldan shes-rah.
- dBa’ bzhed, p. 88 (fol. 24b5-6).
- Richardson 1998, pp. 176-81.
- As found in the dKar chag ldan dkar ma; Lalou 1953, Herrmann-Pfandt 2002.
- Bod sil bu’i byung ba brjod pa shel dkar phreng ba, pp. 78-88, shows how much the sources disagree over the birth, death, and regnal dates of this figure.
- Weinstein 1987, pp. 114-37.
- Kapstein 2000, p. 52, rightly rejects the explanation that Buddhism was the sole cause of collapse, and he also looks to the issues of empire maintenance to explain the question. But he does not fully consider Relpachen’s excessive expenditure on behalf of the clergy as a primary factor or the catastrophic assassination as important. For an estimate of dissatisfaction with the Buddhist faction, see Sorensen 1994, p. 423, n. 1488.
- Woghihara, ed., Bodhisattvabhumi, pp. 165-66; Demieville, “Le Bouddhism de la guerre,” reprinted in Demieville 1973, pp. 261-99, esp. p. 293; Tatz 1986, 70-71.
- This is according to the Ne’u Pandita’s sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 120; it is also accepted by the sBa bzhed zhabs btags ma, pp. 81-82.
- Her name is given as sNa-nam bza’ in the mKhas pa’i dga’ ston, vol. r, p. 430, but the Nyang-ral’s twelfth-century Chos ‘byungme tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 446, provides ‘Bal-‘phanbza’-ma; the lD e’u chos ‘byung, p. qr,andthemKhas pa lde’ u chos ‘byung, p. 369, give ‘Phan-bza’ ‘phan-rgyal.
- Petech 1994, pp. 652-56; Vitali 1996, pp. 196-97.
- mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 430; lDe’u chos ‘byung, p. 141; Deb ther dmar po, p. 40; Nor-brang O-rgyan presents several reasons why he believes the story should be dismissed, Bod sil bu’i byung ba brjod pa shel dkar phreng ba, pp. ro3-1r.
- Petech r994, p. 649.
- Petech 1994, pp. 651-52.
- Nor-brang O-rgyan is particularly interested in the popular revolts;Bod sil bu’i byung ba brjod pa shel dkar phreng ba, pp. 128-56.
- Petech 1994, p. 651; Beckwith 1987, pp. 169-72; lDe’u chos ‘byung, p. 144; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 431; mKhas pa lde’u chos byung, p. 372. We have a wealth of variation on the orthography of this man’s name; Kho-byer lde stong sbas (mKhas pa lde’ u chos ‘byung), Kho-bzhir stong sde sbas (lD e’u chos ‘byung), dBa’s kho bzher legs steng (mKhas pa’i dga’ ston), and the Chinese Shang Kong-zhe (Petech 1994, p. 651); I have followed Beckwith’s reproduction of the Dun Huang annals’ orthography. It is quite possible that he was only distantly related to the sBa, and Petech notes that the Chinese transcription of his name was as if it were ‘Bal, another important clan.
- Petech 1994, p. 651, discusses this man’s career; see also Richardson, “The Succession to Glang-dar-ma,” in Richardson r998, p. 110.
- Vitali 1996, p. 546; Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 447; mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 321, 327.
- mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 376.
- Vitali 1996, p. 542, n. 923.
- Vitali 1996, pp. 190, n. 545; lD e’u chos ‘byung, pp. 142-43; mKhas pa lde’u chos byung, p. 371. I believe Vitali misinterpreted this passage, for it is clear that the two figures of ‘Bro Tsug-sgra lha-ldong and Cang-rgyan A-bo (with their variant spellings) did not try to “protect dPal-‘khor-btsan’s throne in gTsang” but acted in the capacity of officers of an institution, a common use of the verb bskyangs.
- lD e’u chos ‘by ung, p. 142.
- lD e’u chos ‘byung, p. 143.
- Vitali 1996, p. 548; mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 376; Petech 1997, p. 231, puts this date at 923.
- For a general discussion, see Vitali 1996 and Everding 2000, vol. 2, pp. 260-69.
- This passage is taken from the mKhas pa lde’u chos byung, pp. 372-73, supplemented by the lDe u chos ‘byung, pp. 144-46. Similar language is included in the mKhas pa’ i dga’ ston, vol. 1, p. 431. This section continues in all three sources, but the language of omens and conversations with divinities is very obscure and is apparently related to the ancient Tibetan of the dynastic religion.
- A curious narrative about him is related in mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 373-74. The traditional scenario for the story of his death is discussed in Richardson 1998, pp. 144-48; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 420-22; compare Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 446; lD e’u chos ‘byung, p. 138.
- For Bran-kha dpal-yon as a later divinity, see Nebesky-Wojkowitz 1956, pp. 232-33. Karmay 1998, pp. 437-38, relates that as a demon he challenged the authority of the nine mountain deities of Central Tibet. Richardson 1998, p. 147, saw what was said to be Bran-kha dpal-yon’s stuffed body set up in Yer-pa.
- mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 371. A different form of this phrase is cited in ID e’u chos ‘byung, p. 143; here, I understand res mos as being from the cognate ris mo, a diagram or image.
- lD e’u chos ‘byung, p. 143.3-6.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i hcud, p. 446.17-19.
- Chos ‘hyung me tog snying po sbrang rtsi’i hcud , p. 446.15-16; the “dar gyi mdud pa” indicates a protective silk string with a knot in the center guaranteeing life; some Tibetans apparently believed that this dissolution of political and religious order was impossible; see mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 420-21.
- mKhas pa”i dga’ ston, vol. 1, p. 433.4-8; compare sNgon gyi gtam me togphreng ha, Uebach 1987, p. 85, n. 321, which dates the tomb desecration as 877. However, the date of the breaching of the tombs was more plausibly during or after the long insurrection of 905 to 910. Tucci 1950, p. 42, and Petech 1994 and 1997 discussed the difficult chronology involved. Tucci’s conclusion that it happened in 877 conflicts with more recent studies; see Hazod 2000b, p. 185; Hazod 2000a, p. 197, n. 6; and Vitali 1996, pp. 544-47. For the titles of the tombs, see Haarh 1969, pp. 391-92; and mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 377-79.
- m Khas pa’i dga’ ston , vol. 1, p.455.10-11; on the palace at Khra-‘brug, see the hKa’ ‘chems ka khol ma, p. 104.7-8.
- Kah-thog Tshe-dbang nor-bu’s Bod rje Iha htsan poi gdung rahs tshig nyung don gsal, pp. 78-81, presents a good summary of the differing opinions about the time elapsed between the collapse of the royal dynasty and there introduction of the Dharma into Central Tibet; compare m Khas pa ‘i dga’ ston, vol. 1, p. 481.19- 21.
- Petech 1994, p. 653; both he and Vitali follow the long chronology, which is best represented in the Sa-skya records. See Vitali 1996, pp. 541-51, but the results of their calculations are slightly different.
- Exceptions are Beckwith 1977; Dunnel 1994; and Petech 1983 and 1994.
- Wang 1963, p. 16; Somers 1979, pp. 727- 54.
- hKa’ thang sde Inga, p. 152; for the phrase “thousand district,” see Uray 1982; Richardson 1998, pp. 167- 76.
- The monolith at sPuwas described by Francke 1914-26, p. 19, reedited in T hakur 1994, whose interpretation was challenged by Richardson 1995. The inscription is discussed by Vitali 1996, pp. 207- 8. Richardson 1998, pp. 286- 91, discusses a monolith, probably of the eleventhor twelfth century, carved in imitation of those erected during the royal dynasty.
- On this distinction, see kLong chen chos ‘byung pp. 413-14; rGya bod yig tshang chen mo, pp. 447-448.
- David Germano proposed applying the term post-tantra to the rNying-ma compositions because of their radical difference from the Indic models of tantra.
- Hackin 1924, pp. 30, 21; the perceptive reader will see that there the term paripurna might be seen in compound with the eighty characteristics and thirtytwo marks but has been separated for pedagogical purposes; paripurna generally denotes fulfillment, as when all the perfections have been completed. On the early use of rdzogs chen, see van Schaik 2004.
- See Krsnayamari-tantra 17.9-11, and Kumaracandra’s informative discussion of this material in his commentary to Krsnayamari, pp. 123-29. Wayman 1977, pp. 156-59, noted its use in the Arya exegesis of the Guhyasamaja-tantra.
- Hackin 1924, pp. 2, 5.
- The following discussion is based on the Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, pp. 435-36; for more detail, see the excellent discussion in Germano 2002.
- Works dedicated to these systems are found in the rNying ma bka’ ma rgyas pa, vol. 17, pp. 371-411, 426-517, and are included in the gDams ngag mdzod, vol. 1, pp. 213-371; this list of the important traditions is found in kLong chen chos ‘byung PP· 393-94.
- The problem of A-ro is recognized in Karmay 1988, p. 133. kLong chen chos ‘byung p. 393, makes A-ro Ye-shes ‘byung-gnas a disciple of gNyags Jnanakumara, which is highly unlikely. A-ro does not seem to be quoted in the works by sNubschen, like the bSam gtan mig sgron, so he would appear to have been active after the early tenth century. The Deb ther sngon po, vol. 2, p. 1163, Blue Annals, vol.2, pp. 999-1000, provides a short hagiography of dubious value. Chos ‘byungme tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 491, features A-ro in two rdzogs chen lineages.
- Deb ther sngon po, vol. 1, p. 211; Blue Annals, vol. 1, p. 167.
- sNyan brgyud rin po che’i khrid kyi man ngag mkha’ dbyings snying po’i bde khridby dPal mKha’-spyod-pa; this author is mentioned in Deb ther sngon po, vol. 2, p. 1151, Blue Annals, vol. 2, p. 991, as the disciple of Karma-pa Rang-byung rdorje (1284-1339); it is possible that he should be identified with Zhwa-dmar-pa II mKha’-spyod dbang-po, as does gDams ngag mdzod, table of contents, vol. 1, although the dates provided (1350-1405) are problematic.
- kLong chen chos ‘byung, p. 393-94.
- I thank David Germano for making this very rare work available to me. The chapters are ‘khor bar sdug bsngal nyes dmigs mang po’i gzhi ( pp. 7.2-12.1), rnam rtog bdag tu ‘dzin pa ‘khor ba’i rgyu ( pp. 12.2-19.4), mya ngag ‘das pa zhi ba bde ba’i mchog ( pp. 19.4-25.3), and bdag med rtogs pa mya ngan ‘das pa’i rgyu ( pp. 25.3-47.4).
- See the long list of bKa’-gdams-pa figures listed in the lineage lists in the sLob dpon dga’ rab rdo rje nas brgyud pa’i rdzogs pa chen po sems sde’i phra khrid kyi man ngag. pp. 436-37, 516-17, some of whom were disciples of Panchen Sakyasri. The work was written by rGya-sman-pa Nam- mkha’ rdo-rje, probably in 1273 (cho mo bya lo). rGya-sman-pa was a teacher of the famous Ku-m:1-ra-nl-dza (1266-1343); see Deb ther sngon po, vol. 1, p. 246; Blue Annals, vol. 1, p. 199.
- On the early lineages in general, see Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi’i bcud, pp. 482-92.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 485-13.
- Nagano 2000 is an excellent recent study of such practices.
- Karmay 1998, pp. 382; for an excellent discussion of the issue of purity, see pp. 380-412; c;mpare Tucci 1980, pp. 163-212, which emphasizes the auspicious-inauspicious continuum.
- On the somewhat neglected marriage ritual, see Karmay 1998, pp. 147-53; Shastri 1994. The gN a’ rahs bod kyi chang pa’i lam srol of Bar-shi Phun-tshogs Dbang-rgyal is an interesting modern Tibetan work on marriage. On travel to the realms of the dead, see Lalou 1949; Macdonald 1971b, pp. 373-76; Kapstein 2000, pp. 7-8; and Cuevas 2003, pp. 33-38.
- On the sources for this idea, see Stein 1986, pp. 185-88.
- Lalou 1952; Snellgrove 1967, p. 16; Martin 2001b, pp. 12-15.
- These have been well studied by Lhagyal 2000.
- mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 192.12-23; on mi chos as the ritual of the tombs, see vol. 1, p. 170.12.
- An early catalog of the items included in mi chos is found in sBa bzhed, p. 62.8-11; sBa bzhed zhabs btags ma, p. 53.6-8.
- Their names are given as Chen-po rGyal-ba and his disciple Zhang-lcanggrum in the sBa bzhad zhabs btags ma, p. 86, and Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 448.16, which identifies their residence as ‘Chims-smad and th eentire issue of reading a text and commentary for postmortem or prophylactic purposes is given in much greater detail.
- mKhas pa.i. dga’ ston, vol. 1, pp. 430-31; analogous material found sBa bzhed zhabs btags ma, pp. 86.5-87.2, 90.11-91.1; Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi ‘i bcud, pp. 448.ro-449.3. I thank Dan Martin for suggestions and corrections to this passage.
- The ‘ban ‘dzi ba of sBa bzhed zhabs btags ma, p. 86.9, are evidently the same group spelled ‘ba’ ‘ji ba in the received version of the proclamation of Lha bla-ma Ye-shes-‘od; see Karmay 1998, pp. 3- 16. Martin 2001b, p. 109, n., believes the name to be un-Tibetan. However, I am inclined to interpret ‘ban/’ ba’ ‘dzi ba as an orthographic oddity to render Bande ‘dzi ba, for the ‘a in’ba’ may be pronounced with a nasal, as ‘ban, and ‘dzi and ‘ji are easily confused in dbu med manuscripts. As noted by Karmay 1998, p. 71 n. 30, other editions have ‘ban ‘ji ba, such as the modern printed version of the bka’ shag in the dGag Ian nges don ‘brug sgra, pp. 182.21, 186.n; Karmay 1998, p. 16, n., suggests other foreign etymologies.
- Karmay 1998, pp. 3- 16.
- Vitali 1996,pp. 215- 18.
- bK a’ ‘chems ka khol ma, pp. 282-85.
- See Childs 1997 for an indication of this problem. The problem of animal sacrifice in Buddhist ceremonies – whether Tibetan, Newar, or other Himalayan group- is much more widespread than Childs’s essay indicates. For some indication of its severity, see Owens 1993; Locke 1985, p. 14; Cupper s 1997; Diemberger and Hazed 1997.
- I thank David Germano and Matthew Kapstein for their sharing their perspective on this issue.
- Bod kyi gdung rus zhib ‘jug makes a start on identifying clans in the various periods, but the work must be handled carefully, sometimes conflating place names with clan names; on the ancient clans, see Stein 1961.
- Bod kyi gdung rus zhib’jug, pp. 58-83, identifies the clans of the royal dynastic period. Tucci 1956a, p. 80, n. 7, believes that some of the names in table 2 are geographical designations rather than clans and proposes that the clan names are missing from this one entry; the syntax, though, would seem to argue for these as clans.
- This is from lDe’u chos ‘byung, pp. 145-46; there are several variations of this list, indicating the god of the domain and other details, which are studied in Dotson, forthcoming.
- For modern class mobility, see Carrasco 1959, pp. 128-31.
- For modern clan names, see Bod kyi gdung rus zhib ‘jug, pp. 160-208.
- On these grades in the dynastic period, see Richardson 1998, pp. 12-24, 149-66.
- Deb ther sngon po, vol. 1, p. 125-1-2; Blue Annals, vol. 1, p. 95.
- Deb ther sngon po, vol. 1, p. 147-u-14; Blue Annals, vol. 1, 114; in this case, both were from the Zur clan; on this clan, see Tsering 1978.
- Some of these have been studied; see Tucci 1949, vol. 2, pp. 656-73; Vitali 1990, pp. 94-96; Stein 1962; for the Khon, see chapter 7.
- The rNgog gi gdung rahs che dge yig tshang is mentioned in the Lho rong chos ‘byung, p. 50.16-17.
- See Vitali 2002 for an excellent study on the involvement of clans with gNas-rnying temple.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Некоторые более поздние традиции со временем стали выказывать готовность приостановить критический анализ священных писаний, поступавших из Индии и с других территорий в период с десятого по двенадцатое столетие. Однако, не все современники этих событий отличались подобным миролюбием. Мы уже знаем, что нередко возникали конфликты, связанные с нарушением норм религиозного поведения, что объяснялось либо неверной трактовкой тибетцами священных текстов, либо проникновением в Тибет небуддийских практик. Так же на протяжении всего этого периода отдельные авторы не прекращали попыток выделить из всего множества текстовых материалов те, которые действительно были индийскими (а значит истинно буддийскими и аутентичными для своей традиции). Однако, такие действия были способны поставить под сомнение индийское происхождение большого количества работ, уже использовавшихся традициями Тибета. Согласно точке зрения современных ученых, основанной преимущественно на материалах более поздней религиозной полемики, вопрос достоверности священных текстов возник вследствие появления новых аутентичных индийских эзотерических писаний, бросивших вызов общепризнанной мудрости более ранних апокрифических работ ньингмы. Но, что касается одиннадцатого и двенадцатого столетий, такое утверждение верно лишь отчасти105. Тем не менее, со временем стандарты достоверности школы «новых переводов» стали широко применяться для оценки авторитетности текстов старой системы. Последовавшее за этим вытеснение многих старинных писаний из сферы общепризнанной легитимности привело к формированию двух эзотерических канонов: тантрического раздела утвержденного канона (bKa’ gyur) с одной стороны, и Старого тантрического канона (rNying ma rgyud ‘bum) с другой. Причем, эта модель в значительной степени отражает точки зрения канонических дискуссий четырнадцатого и пятнадцатого столетий с участием таких известных деятелей как Бутон, Чомден Ригрел и Ратна Лингпа. Однако, ранняя полемика по поводу аутентичности священных писаний имела несколько более сложный характер, о чем свидетельствуют две работы, посвященные вопросам достоверности этих текстов (обе из второй половины одиннадцатого столетия): «Оспаривание порочных мантрических текстов» (sNgags log sun ‘byin) Го-лоцавы Кхукпы Лхеце и «Провозглашение» (bKa’ shog) Подранга Шивы-U106.
«Оспаривание порочных мантрических текстов» является самой ранней из всех сохранившихся работ, в названиях которых содержится упоминание священных писаний как категории. Существовал еще один текст с таким же названием и аналогичным содержанием, приписываемый авторству Ринчену Зангпо, но он пока что не обнаружен. Взгляды этого произведения, возможно, были близки позиции правителя Гуге Лха-ламы Еше-О, поскольку Согдокпа Лотро Гьелцен упоминает его среди своих источников в работе конца шестнадцатого или начала семнадцатого столетия, посвященной защите системы ньингмы107. Как следует из его названия, «Оспаривание порочных мантрических текстов» разоблачает тексты, выдающие себя за подлинные писания мантраяны. Го-лоцава начинает с описания времен вырождения в соответствии с индуистской схемой критья-, трета-, двапара- и кали-юг, принятой герменевтикой ваджраяны взамен буддистской системы великих эпох ради обоснования четырехкатегориальной системы тантрического канона. Далее он сообщает, что в эти времена вырождения нам следует ожидать появления всевозможных ложных учений. Например, тибетская хронология проповеди тантр высшей йоги (112 лет после паринирваны Будды) опровергается им как ранее неизвестная в Индии.
После беглого обзора раннего периода переводов, Го-лоцава обращается к основным работам ньингмы: передачам «священного слова» (kahma) махайоги, ануйоги и «природы ума» атийоги (mdo sgyu sems gsum). Согласно Го-лоцаве, «Гухьягарбха» (gSang snying) и другие произведения системы Маяджала корпуса махайоги были созданы переводчиком времен имперской династии Ма Ринчен-чоком. Пагор Байроцана сочинил пять текстов «природы ума» атийоги108, а Нуб Сангье Ринчен – «*Абхуту» (rMad du byung ha), которая, будучи добавленной к предыдущим пяти, довела количество материалов «природы ума» в основном каноне до восемнадцати109. Аро Еше Джунгне придумал и написал комментаторские работы к разделу «природы ума», а Дарчен-пел создавал работы ануйоги. Сангье Ринпоче сочинил ряд центральных работ о божествах Восьми провозглашений (bka’ brgyad), а другие тибетцы дополнили его текстами о мирских божествах-матерях (ma mo) и так далее. Методика их работы заключалась в комбинировании небуддийских воззрений с буддийскими доктринами, которые смешивались между собой с использованием собственных концепций этих авторов. Отличительной чертой тибетских измышлений является то, что они неизвестны индийским пандитам, которые ничего не могут сказать, когда их спрашивают об этих работах.
В этой полемике, приписываемой Го-лоцаве, присутствует несколько любопытных деталей. Во-первых, в сохранивших версиях этой работы отсутствуют упоминания литературы «текстов-сокровищ» (terma), что должно было представлять большой интерес для авторов более поздних опровержений, таких как, например, Чагло Чодже-пел и Бутон110. Это, конечно, не означает, что такой литературы в то время не существовало, но, похоже, она не считалась отдельной категорией апокрифов. Во-вторых, вполне очевидно, что Го-лоцава не осуждает ранние переводы как таковые, поскольку он подтверждает подлинность многих работ, выполненных в период правления имперской династии, ставя под сомнение лишь те, которые не удовлетворяют его критерию известности современным ему индийцам. Также не вызывает сомнений, что он, как и многие более поздние неоконсерваторы, порицал подлинно индийские произведения наряду с теми, которые имели бесспорно тибетское происхождение. Самым знаменитым примером этого является «Гухьягарбха», которую он приписывал перу Ма Ринчен-чока111. Более поздний апологет ньингмы Согдокпа приложил немало усилий по разоблачению этих утверждений, указывая, что существует не только санскритская рукопись этой работы, доставленная Чомденом Ригрелом в Самье, но имеется и второй манускрипт, сохраненный Лово-лоцавой Пелденом Джангчубом из расположенного в Катманду Стхам Бихара – того самого учреждения, что было основано Атишей. Эта вторая рукопись якобы была положена в основу другого перевода, сделанного неким Маникой Шриджняной, а в каноне Пукдрака сохранился ее альтернативный перевод, сделанный Тарпой-лоцавой112.
Другую работу одиннадцатого столетия, «Провозглашение» Подранга Шивы-О, Кармай (Karmay) датирует 1092 годом113. Это произведение интересно тем, что предельно сужает само понятие аутентичности. В нем отрицается достоверность не только конкретных апокрифов ньингмы, но даже произведений чисто индийского происхождения. Принявший монашеские обеты по примеру своих предшественников наследный принц Гуге-Пуранга Шива-О утверждал, что среди них встречаются работы, которые не ведут к освобождению, т.к. являются «тибетскими по своему содержанию». Причем многие из критикуемых им текстов распространялись пресловутым «красным ачарьей» (atsarya dmar po), и, считается, что шесть из них являются его сочинениями114. На самом деле, все объясняется тем, что среди них было много поздних йогини-тантр или их ответвлений, включая тилака-тантры и связанные с ними тексты, к примеру, такие как «Махамудра-тилака-тантра», «Рахасянанда-тилака», «Джняна-гарбха» и «Джняна-тилака». В «Провозглашении» отказывается в аутентичности даже таким общепринятым стандартным наставлениям по эзотерическим практикам, как «Панчакрама». Однако, самые интересные заголовки в перечне «неаутентичных текстов» принадлежат десяти произведениям различного происхождения, в которых обсуждаются аспекты махамудры, т.к. именно с этими текстами напрямую работали Жама и Марпа. Все это в достаточной степени характеризует деятельность Шивы-О, который не был заинтересован в использовании стандартов достоверности, разработанных Го-лоцавой примерно в это же самое время. Его главной целью было искоренение критикуемых «Провозглашением» работ, поскольку он полагал, что данные тексты препятствуют развитию тибетской практики монашеского пути. Шива-О завершает этот раздел предупреждением, что кодированный язык (sandhya-bhasa) материнских тантр (т.е. йогини-тантр) неправильно понимался монахами, которые в результате этого нарушали свои обеты. Таким образом, противоречие между образностью языка и антиномианистский сущностью писаний сиддхов стало неразрешимой проблемой для этого потомка западно-тибетского монаршего дома.
Из всего этого следует, что когда вопросы ортодоксии рассматриваются в реальной ситуации, неоконсервативная точка зрения может выражаться в виде любой из двух противоречащих друг другу позиций. С одной стороны, некие работа, учение или ритуал могут считаться аутентичными, если они имеют индийское происхождение, хотя порой это трудно установить. С другой стороны, эти же работа, учение или ритуал могут считаться недостоверными, независимо от их происхождения. Наглядной иллюстрацией последнего утверждения является поведение Дромтона, когда он в довольно резкой форме попросил Атишу не обсуждать стихи из дох сиддхов, поскольку они могут оказать вредное воздействие на мораль тибетцев, и тот же самый аргумент почти полвека спустя мы слышим от Шивы-О. Важно понимать, что неоконсервативная позиция не обязательно является схоластической, хотя со временем ее и принял величайший из схоластов Сакья Пандита. Наоборот, она олицетворяет собой сильно ограниченный заданными рамками образ аутентичной Дхармы, и такое идеализированное восприятие может поддерживаться как тантрическими авторитетами, так и профессорами-схоластами. Однако сама эта идея лишь отчасти является буддистской, поскольку индийцы всегда придерживались идеала канона, не ограниченного формальными рамками. По этой причине они, в отличие от китайцев и тибетцев, ни разу не попытались составить закрытый каталог писаний «слова Будды»115. Неоконсервативная позиция также не является обязательным признаком переводчика сармы, поскольку многие из них (такие как, например, Рало или Дрокми) заключали союзы или преследовали врагов в собственных интересах, а не из-за разногласий по поводу религиозных взглядов или священных текстов.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Авторы исследований феномена «текстов-сокровищ» обычно утверждают, что возникновение этого явления напрямую связано с ошеломительным успехом движения «новых переводов», рассмотренным нами ранее3. Согласно этой идее, именно приток новых текстов вызвал ответную реакцию представителей литературы старых систем в виде движения «текстов-сокровищ». Кроме того, некоторые ученые в своих изысканиях следовали путем тибетских защитников этого направления, опиравшихся на мифологию индийских предшественников «явленной» литературы (очень значимый источник для апологий «сокровищ» тибетских писателей)4. В этих работах данный вопрос предстает в несколько ином ракурсе, т.к. по мнению их авторов приток новых текстов отвечал исконной сущности индийского буддизма, и поэтому его нельзя рассматривать в контексте некой локальной проблемы. Т.е. развивая свою литературу, тибетцы применяли на практике те же методы, что и создатели мифов об обретении Нагарджуной священных писаний «совершенства мудрости» (prajnaparamita) в царстве Нагов, или о передаче Майтреей Асанге литературы йогачары в небесном царстве Тушита.
Обе эти позиции обладают множеством достоинств, но, похоже, упускают из виду некоторые важные соображения, поскольку каждая акцентируется только на одном бесспорном факторе, при этом упуская из виду все другие. Если бы единственной причиной вытеснения местной тибетской традиции было появление новых буддийских переводов, то тибетцы могли бы начать создание «текстов-сокровищ» еще в период «ранних переводов», когда уже наблюдалось соперничество несколько религиозных систем. Известны утверждения бонпо, что они делали нечто подобное во времена первого гонения при Дригуме Ценпо, когда погребли свои тексты с целью последующего раскрытия в благоприятные времена. То же самое по их сообщениям они проделала и при втором гонении на бон во времена правления Трисонга Децена5. Однако, их описание событий, касающееся правления Дригума, выглядит весьма сомнительным, поскольку оно не подтверждается историческими фактами, а также противоречат большей части того, что мы знаем о формировании тибетского алфавита и самой ранней письменности. К тому же термин «терма» ассоциируется с законченным процессом: от сокрытия текстов до их обнаружения и последующей практики, а открыватели «сокровищ» бонпо были примерными современниками своих буддистских коллег.
Точно так же, если бы феномен «сокровищ» был просто тибетским усовершенствованием общеизвестного индийского религиозного формата, то он бы наблюдался как на других территориях, так и в другие исторические периоды. Т.е. в этом случае можно было бы ожидать его проявления как в имперский династический период, так и в других буддистских культурах. Однако, похоже на то, что ни метафора, ни социальная структура «сокровища» никак не проявили себя в Юго-Восточной Азии, а также отсутствуют в форматах «явленного» священного писания большинства других буддистских сообществ. Даже если индийцы время от времени и представляли какие-то тексты в качестве явленных по образу и подобию «сокровищ», в Индии никогда не существовало ничего подобного движению «текстов-сокровищ». Это объясняется тем, что в Индии в принципе отсутствовало многое из того, что являлось необходимым для развития этого религиозного формата, в частности социальные и религиозные ценности, основанные на почитании имперских текстов и религиозных артефактов, извлеченных из земли членами великих кланов. Хотя в целом буддизм был склонен придерживаться индийских традиций в том, что касалась составления священных писаний и сопутствующих им текстов, причем независимо от культурной среды, в которой он находился, социальная природа сюжетов и лингвистические метафоры, использовавшиеся авторами подобного рода сочинений, проживавших в отличных от Индии культурных зонах, по-видимому, чаще всего отражали характерные особенности соответствующих культур и языков.
Кроме того, сочетание факторов, ставших причиной появления этой литературы, находилось в прямой зависимости от социальной организации в конкретные исторические периоды, поэтому специфика движения «сокровищ» изменялась по мере изменения самого тибетского общества. Таким образом, вопреки мнению традиционных тибетских и некоторых современных авторов, в период между одиннадцатым и четырнадцатым столетиями имела место постоянная адаптация базовых моделей открытия «сокровищ» к различным изменениям окружающей среды с сохранением вполне очевидной преемственности. Те, кто знаком с современными исследованиями движения «сокровищ», могут быть удивлены, что я не использую в своей работе триединую типологии, включающую в себя «сокровище земли» (sa gter), «сокровище знаний» (dgongs gter) и «чистое видение» (dag snang). Причина такого игнорирования заключается в том, что это довольно современная категоризация «сокровищ», а в данной главе рассматриваются только ранние описания данного феномена6. Также необходимо отметить, что в ранних дискуссиях, посвященных «сокровищам», практически не упоминается индийский святой подвижник Падмасамбхава (по крайней мере, до конца двенадцатого столетия), а если это и происходит, то относится к очень ограниченным случаям. Вместо этого ранние работы фокусируют свое внимание на императорах и в частности на единстве их религиозных и политических законов, их наследии в виде храмов и текстов, сохранившихся с тех времен, а также на богатствах святых праведников, которых они поддерживали. Однако, со временем более поздние описания «сокровищ» утратили акцент на имперское наследие, которое было в центре внимания более ранних работ.
Вряд ли можно сомневаться в том, что феномен «текстов-сокровищ» (терма) тесно связан с материальными останками тибетской империи, в том числе с множеством искусных изделий и драгоценных материалов, которые будучи данью или военной добычей текли непрерывным потоком в различные места тибетской империи на протяжении двух столетий тибетского военно-политического авантюризма и которые остались там после его краха. В конце концов, ведь тибетским термином «сокровище» (gter) могут обозначаться и предметы, сокрытые в надежном месте во времена беспорядков или гонений. А в ранних текстах о «сокровищах» часто говорится, что они были найдены вместе с конкретными предметами, связанными со святыми праведниками или политическими деятелями империи: статуями, драгоценностями, костями, ритуальными принадлежностями и т.п. Соответственно, в самом раннем из сохранившихся текстов, посвященных обсуждению «сокровищ», «Великом труде гуру Чо-ванга о происхождении сокровищ» (gTer byung chen mo), датированном тринадцатым столетием, прямо утверждается, что существует два основных вида сокровищ: сокровища Дхармы и сокровища богатства, причем такая же типология присутствует и в одной из работ двенадцатого столетия7. В другом месте гуру Чо-ванг определяет «материальное сокровище» (rdzas gter) как один из четырех его видов8. Согласно этой идее, сокрытые материальные богатства были призваны поддерживать соответствующую мифологию, а также стимулировать поиск «текстов-сокровищ» во времена бедности и лишений. Поэтому в писаниях терма заявляется, что наряду с такими «сокровищами», как статуи, амулеты и ритуальные принадлежности, святые праведники и великие люди империи прятали свои богатства, потому что заранее знали, что они в будущем понадобятся тибетскому народу. Как правило, такие идеи излагаются в разделе пророчества «текста-сокровища», где в самых крайних выражениях описывается обстановка будущих времен, причем порой весьма правдоподобно. Далее в пророчестве говорится, что в самый трудный момент появится такой-то человек и откроет особое учение, так необходимое немногим хорошим людям, живущим в эти мрачные времена. Ньянг-рел так описывает пророчество Падмасамбхавы о временах, предшествующих открытию его терма:
«В те времена, когда явятся эти сокровища, жалкой пищей людей будет навоз крупного рогатого скота, а одеваться они будут в одежды из козьей шерсти. Они ограбят все монастыри и сожгут хижины для уединенных практик. Вместо провозглашения священных изречений они будут продавать рыбу и исчислять мертвых тысячами. Вместо этического поведения они погрязнут в моральной скверне и раздорах, облачая свои тела в железные плащи. Учителя будут полководцами, а монахи станут кровожадными бойцами, вооруженными мечами. Они превратят монастыри в воинские укрепления и устроят свои убежища внутри деревни. Мантрины умножат свои семьи и будут подкладывать яд в плохую еду. Вожди будут нарушать свои клятвы и убивать героев ножами. Тибетцы распадутся на отдельные группировки, как пластинчатая броня, разбитая на составные части. Отцы и сыновья рассорятся; отцы и дети будут убивать своих родственников. Боги войны и демоны будут только взывать, в то время как воры будут контролировать проходы между крутыми утесами. Демоны гонг-по поселятся в сердцах мужей; демоны сен-мо поселятся в сердцах женщин; духи теу-ранг поселятся в сердцах детей; все попадут под влияние злонамеренных существ. Поскольку были потревожены все восемь классов богов и духов, возникнут несчастья в виде болезней и голода.
В эти времена проявятся три неспособности: земля не сможет удерживать в себе сокровища. Все сокровища Дхармы и сокровища богатства станут доступными. Золото, серебро и драгоценности не будут ничем укрыты. Богатство, доверенное защитникам учения (dharmaptila), останется без защиты, поэтому богатство, посвященное Трём Драгоценностям, будет разграблено. И наконец, бенде потеряют способность практиковать Дхарму. Поскольку они не смогут практиковать истинное учение, они будут продавать его за деньги другим. Не обладая собственной практикой, в погоне за славой они будут учить Дхарме других9».
Таким образом, эти времена настолько плохи, что беззащитными становится не только сокровища богатства, но и «сокровища» Дхармы. Все это выглядит так, как будто бы тело земли дряхлеет и не обновляется добродетелью святых праведников. Далее текст пророчествует о приходе Ньянг-рела – будущего открывателя этих сокровищ. Он предстает в тексте в качестве реинкарнации императора Трисонга Децена, которому Падмасамбхава даровал это пророчество.
Описания событий, подобных приведенным выше, вовсе не означает, что все это имело место на самом деле. Ведь даже в достаточно ранних дуньхуанских документах тибетцы демонстрируют вполне очевидную склонность воспринимать окружающий их мир как хаотичную среду, а человечество – как общность, вышедшую из-под контроля земных и небесных сил10. В действительности, это всего лишь литературный приемом, широко используемый в произведениях о «сокровищах», и если бы мы верили каждому такому утверждению, то тогда бы вся история Тибета выглядела как сплошная череда непрекращающихся войн. Более того, такие писания постоянно открывались, как минимум, с одиннадцатого столетия, и если бы представленные в них описания хаоса были правдой, то это означало бы, что ни один из текстов о «сокровищах» не смог осуществить того, о чем в нем заявлялось: восстановить добродетель. Тем не менее, все повествования конца двенадцатого столетия вкупе с аналогичными текстами более раннего периода, такими как, например, «Колонный завет» (bKa”chems ka khol ma), опираются на вполне реальные факты: разграбление имперского имущества и храмовых сокровищ, обнаружение кладов давних времен, слабость системы религиозных и гражданских институтов, а также обнаружение текстов имперского периода. Хотя в историческом плане все это, безусловно, представляло собой разрозненные и разноплановые события, в сознании тибетцев оно со временем сплелись в единую картину хаоса.
Однако, в основе концепции «текстов-сокровищ» лежали и вполне убедительные факты, поскольку начиная с конца десятого и на протяжении всего одиннадцатого столетия буддистские монахи, переводчики и мантрины действительно находили в старинных храмах различные тексты и древние реликвии. Они то и считались скрытыми «сокровищами», хотя происхождение многих из них было или не вполне ясным, или же вообще стерлось в памяти поколений. Тибетские правители вплоть до Релпачена либо ограничивали, либо полностью запрещали перевод тантр, поэтому эзотерические писания часто переводились тайно и скрывались от имперского надзора. Кроме того, некоторые храмы и территории, ассоциируемые с ранними «сокровищами», располагались в южном Тибете в непосредственной близости от границ с Непалом, Сиккимом или Бутаном и были просто идеальным местом для создания и хранения запретных текстов, поскольку через них возвращались на родину тибетские переводчики с полученными в Индии тайными писаниями и их переводами. В качестве альтернативы переводчики могли отправлять копии своих работ на периферию империи, в зоны, недосягаемые для армий потенциальных государств-агрессоров. В литературе «тексты-сокровища» часто предстают в виде желтых свитков (shog ser), что может означать либо их религиозный статус (желтый цвет), либо просто указывать на тот факт, что старинная бумага и шелковое полотно желтеют по мере своего ветшания.
Однако, это еще не вся история, поскольку большая часть ньингмапинских тантр, будь то непрерывно передаваемые кахма или явленные терма, имеют явное тибетское происхождение. Как уже отмечалось другими авторами, нет сомнений в том, что появление, как минимум, части «текстов-сокровищ» является следствием заимствования базовых принципов литературной динамики индийского буддизма. В другой своей работе я описывал индийский буддизм как культуру, основанную на постоянном воспроизводстве священных писаний, поскольку институциональной культуре буддистских центров Индии была присуща особая динамичность, предполагавшая постоянное создание и совершенствование священных писаний по мере все более глубокого проникновения в сущности мироздания11. В суровые времена культурных потрясений тибетцы приняли на вооружение этот динамичный подход и взялись за создание новых священных текстов, причем как сутр, так и тантр12. Мы практически ничего не знаем о той среде, в которой зарождались эти ранние тибетские сочинения, но то же самое можно сказать и об индийских священных писаниях, поскольку все они были созданы анонимными авторами. Кроме того, индийская тантрическая литература продолжала развиваться и во времена перерыва в отношениях между Тибетом и Индией, поэтому тантрические тексты, популярные или просто доступные в период сармы, несли в себе йогические практики, которых на Тибете раньше вообще не существовало. И именно этот материал распространяли в Центральном Тибете такие авторитеты, как Дрокми и Марпа. Самим индийцам никогда не приходилось иметь дело с внезапным появлением авторитетного буддийского учения, которое бы опиралось на источники, отличные от их собственных. А вот старинные тибетские традиции в конце десятого столетия столкнулись лицом к лицу с альтернативным движением сармы, чью аутентичность было невозможно опровергнуть.
В ответ на это держатели старых аристократических линий приняли на вооружение концепцию, уже использовавшуюся монахами Центральной Азии и Китая, согласно которой местом создания или открытия священных писаний может быть не только сама Индия, но и любая другая буддистская цивилизация. Однако, единичное использование такого подхода в других буддистских странах превратилось в Тибете в настоящее надомное производство. Подобным образом опорой тибетских религиозных институтов стало то, что применялось в Индии только на нерегулярной основе: признание великих учителей воплощенцами и использование в учебном процессе дебатов. Для ньингмы обнаружение «сокровищ» стало надежным путем к самоотождествлению, т.к. это давало возможность одновременно пополнять традицию новыми индийскими материалами и развивать собственное видение местной тибетской религиозности. Последняя возможность выглядит наиболее интересной. Феномен терма не просто позволял излагать собственные парадигмы в форме индийских материалов, но также придавал этим писаниям такую же авторитетность, какой обладали новые тексты на индийских языках. В «Колонном завете» приводятся следующие указания по составлению терма:
«Построив [Джокханг] таким образом, [мы знаем, что] живые существа этой тибетской страны снегов были недостойны обращения в святую веру Татхагатой и не могли пить нектар священной Дхармы, поскольку у них нет веры в святое слово. Их умы не приняли Дхарму осознания, и они не смогли пройти три обучения. Однако они были обращены в святую веру моими [Сонгцена Гампо] законами Дхармы и государства. Так что нарисуйте серию картин [на Джокханге] таким образом [демонстрируя Дхарму]. Затем принудите невежество этих живых существ страны снегов к обучению [посредством картин]. Запишите, что нужно делать в виде рассказа, чтобы у них появилось доверие к текстам. Таким образом, вы смягчите их трудности в учебе и, усиливая их интерес, привлечете их к буддийскому обучению. Сначала записав доктрины бон, вы затем поместите их в три вида обучения Дхарме13».
Эти указания довольно интересны по содержанию и кроме того являются достаточно ранними. В них демонстрируется метод вовлечения в религию посредством живописи и повествования, что классифицировалось как «религия людей» (mi chos). Помимо этого при их прочтении возникает ощущение, что по индийским стандартам тибетцы были довольно-таки малокультурным социумом. В тексте также признается, что за эту приверженность индийским идеалам приходится платить определенную цену. И если бы Тибет принял за единственный источник аутентичности индийский буддизм, то был бы навсегда обречен следовать экстерриториальным нормам духовного и культурного развития, соответствующим этим идеалам, отвергая при этом простое доверие к коренной тибетской духовности.
Общепринятую орфографию тибетских терминов см. в разделе «Тибетские орфографические эквиваленты».
Символ * обозначает гипотетическую реконструкцию названия на санскрите.
|
Абхишека
|
Эзотерическое посвящение/инициация, смоделированное на основе индийских обрядов коронации
|
|
Атийога
|
Высшая йога, часто отождествляемая с дзогченом
|
|
Бодхичитта
|
Имеет несколько трактовок и может означать: махаянскую «мысль о пробуждении», приводящую к принятию обета бодхисатвы; семя, как йогическую «относительную бодхичитту»; абсолютный ум, являющийся предельной субстанцией Вселенной
|
|
Бенде
|
Священнослужители, иногда семейные, иногда монахи
|
|
Чакрасамвара
|
Божество и сопутствующая литература йогини-тантры, акцентированная на сампаннакраму
|
|
Чо
|
«Отсечение», практика освобождения через подношение тела
|
|
Чонгье
|
Район императорского некрополя в долине Ярлунг
|
|
Дакини
|
Мифические женские существа, которые способны помчь в обретении освобождения
|
|
Дзогчен
|
Великое совершенство, доктрина и практика ньингмы
|
|
Гухьясамаджа
|
Тантра махайоги и ее система мандал «тайного собрания»
|
|
Хеваджра
|
Поздняя йогини-тантра, в которой главным божеством является Хеваджра со своими восемью дакини
|
|
Джокханг
|
Храм в Лхасе, построенный Сонгценом Гампо или его супругами, центр народного поклонения.
|
|
Джонангпа
|
Традиция тринадцатого века, опирающаяся на Калачакра-тантру
|
|
Кагьюпа
|
Тантрическая линия передачи, в первую очередь – линия передачи от Марпы
|
|
Кахма
|
Литература и традиции ньингмы, которые, как считается, непрерывно передавались из поколения в поколение со времен имперской династии
|
|
Калачакра
|
Тантрическая традиция конца десятого или начала одиннадцатого столетия, Колесо времени.
|
|
Ламдре
|
Эзотерическая йогическая система, воплощенная в соответствующем тексте (см. Приложение 2), которая, как считается, ведет свое происхождение от Вирупы
|
|
Лоцава
|
Тибетское слово, означающее «переводчик»
|
|
Лу
|
Автохтонные тибетские подземные духи, позже отождествленные с индийскими духами в образе змеи (нагами)
|
|
Мадхьямака
|
Индийская философско-религиозная система, опирающаяся на отрицание всех свойств
|
|
Махамудра
|
Великая печать, заключительная практика эзотерического пути для линий передачи сармы
|
|
Махайога-тантра
|
Разновидность тантр, также называемых «отцовскими тантрами», которые делают упор на мандалы. Самой знаменитой махайога-тантрой является «Гухьясамджа-тантра»
|
|
Мамо
|
Тибетские богини, отождествляемые с индийскими богинями-матерями (matrki)
|
|
Мандалачакра
|
Сексуальная йога с реальной или визуализированной партнершей, одна из двух основных разновидностей сампаннакрамы
|
|
Мантраяна
|
Одно из ортодоксальных названий тантрического буддизма, «колесница мантр»
|
|
*Маргапхала
|
Реконструированное название ламдре на санскрите; эзотерическая йогическая система, которая, как считается, ведет свое происхождение от Вирупы
|
|
Мудра
|
Дословно «печать»; означает жест рукой, а также конечное состояние визуализации или существования
|
|
Муласарвастивада
|
Монашеская традиция Винаи всех тибетских монастырей
|
|
Ньингма
|
«Старинная традиция», которая включает в себя ранние системы, разработанные на основе переводов времен имперской династии и собственной местной литературы
|
|
Ньон-па
|
«Безумец»; мудрец, считающийся по мирским меркам безумным и ведущий себя соответствующим образом
|
|
Сакьяпа
|
Тибетская традиция, зародившаяся в монастыре Сакья, основанном в 1073 г. н.э.
|
|
Садхана
|
Медитативный обряд визуализации буддийского божества, как правило, в виде самого себя
|
|
Саманта-феодализм
|
Индийский средневековый феодализм, характеризующийся специфическим положением вассала (саманты)
|
|
Сампаннакрама
|
«Процесс завершения», включающий в себя визуализацию внутреннего йогического огня (свадхистханакрама) и сексуальную йогу (мандалачакра)
|
|
Самье
|
Первый монастырь Тибета, основан в период имперской династии
|
|
Сарма
|
Собирательное название традиций и переводов, начавших появляться на Тибете с конца десятого столетия
|
|
Шастра
|
Специализированный трактат или комментарий, автором которого, в отличие от сутры, является конкретный человек
|
|
Шравака
|
Монах ранней буддистской традиции, соблюдающий более двухсот обетов
|
|
Сутра
|
Экзотерический текст, содержащий «слово Будды»
|
|
Свадхистхана
|
Практика йоги внутреннего тепла процесса завершения (сампаннакрама)
|
|
Тантра
|
Эзотерический текст, считающийся словом одного из будд
|
|
Терма
|
Материальные сокровища или «тексты-сокровища», захороненные согласно мифам во времена имперской династии
|
|
Трисамвара
|
Три обета: шраваки, бодхисатвы и видьядхары
|
|
Утпаттикрама
|
Процесс зарождения, включающий в себя визуализацию мандалы (как правило, внешней мандалы), в которой медитирующие визуализируют себя в качестве божества, находящегося во дворце и окруженного мандалой других подчиненных ему божеств
|
|
У-Цанг
|
Центральный Тибет в пределах «четырех рогов»: Уру и Йору (У), а также Йеру и Рулак (Цанг)
|
|
Вайрочана
|
Махаянский Будда Великого Солнца, ставший основополагающим божеством в тантрических системах великих мандал, одобренных тибетскими императорами.
|
|
Ваджракила
|
Божество и мандала одной из ньингмапинских систем; Ваджракила существет как в форме кахмы, так и термы
|
|
Ваджрасаттва
|
Ваджрное существо, изначальный будда и иерофант
|
|
Ваджраяна
|
Название тантрического буддизма, подчеркивающее его мгновенность (подобную удару молнии) и указывающее на его главный символ – монарший скипетр (ваджру)
|
|
Видьядхара
|
Маг имперских времен, обладающий эзотерическими знаниями, образец для подражания тантрических йогов
|
|
Ямантака
|
Уничтожитель смерти, еще одно божество махайога-тантр, а также соответствующие мандала и текст
|
|
Янгдак
|
Ньингмапинское божество и мандала, существуют как в форме кахмы, так и термы
|
|
Ярлунг
|
Долина, являвшаяся обителью первых тибетских правителей, с императорским некрополем в Чонгье
|
|
Йогачара
|
Индийская философско-религиозная система, делающая упор на описании ума и ментальных событий
|
|
Йогини-тантра
|
Тантрический текст с упором на сампаннакраму. Самыми выдающимися считались тантры «Чакрасамвара», «Хеваджра» и «Буддхакапала»
|
|
Жиче
|
Медитативная традиция «умиротворение», поэтапное развитие которой осуществлял Падампа Сангье
|
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Наследие Дрокми было бережно сохранено и получило дальнейшее развитие благодаря повышенному вниманию к нему со стороны знаменитого центрально-тибетского клана Кхон, который следует признать одним из величайших религиозных кланов мира, в чем-то схожим с императорской семьей Японии. Действительно, Кхон смог создать стабильную социально-религиозную институцию на юге Центрального Тибета в области Сакья, опираясь на скудную ресурсную базу и пережив все социальные катаклизмы, сотрясавшие Тибет начиная со времен имперской династии и вплоть до наших дней. Его можно назвать самым успешным кланом, поддерживающим в рамках единой программы как ритуалы ньингмапинской кахмы, восходящие к имперским временам, так и практики сармы, основанные на более поздних переводных материалах. Кхон правил страной от имени монголов почти целое столетие (примерно с 1261 по 1358 год) и пережил как обретение, так и утрату политического господство, что в обоих случаях смертельно опасно для целостности семейной структуры. Благодаря усилиям его авторитетов возникла буддистская школа сакья, сохранившая свою репутацию и духовность даже после того, как в пятнадцатом столетие началось дробление на отдельные ветви самого семейства, монашеской структуры и учения ламдре. То, что Кхон и школа сакья не пользуются тем вниманием, которого они заслуживают, в какой-то степени объясняется их консерватизмом и нежеланием поступаться своими принципами в угоду современному миру.
Подобно тибетскому императорскому дому, многие из старых аристократических семейств создавали собственные клановые мифологии, согласно которым они ведут свое происхождение от небесных божеств, сошедших на землю в месте обитания клана и ставшими его правителями благодаря своей божественной силе. Эти мифы часто сочетают в себе буддистскую историю об избранном народом правителе (mahasammata) с тибетскими моделями нисхождения по некому духовному пути, пролегающему между небом и горными вершинами. Однако древность происхождение данных легенд выглядит весьма сомнительной, поскольку мы располагаем свидетельствами о постоянном развитии этих мифологий с течением времени, в особенности после двенадцатого столетия. В общем-то нет ничего удивительного в том, что в условиях явной нестабильность тибетской власти, возникшей после краха имперской династии в середине девятого столетия, аристократические дома, чье происхождение позволяло претендовать на высокое положение во властных структурах, пытались еще более возвысить свой социальный статус, декларируя небесное происхождение своих предков с использованием тибетских или буддистских стандартов божественности. Очевидно, не желая соглашаться на что-либо меньшее, чем высшее предназначение, Кхон довольно искусно сфабриковал собственный миф, который в своей основе был одновременно и тибетским, и буддистским. Однако, это повествование о происхождении великого клана, судя по всему, было создано сравнительно недавно, поскольку, похоже, оно не было известно составителям истории клана от 1352 года, а его самая ранняя версия присутствует только в «Красной летописи» 1363 года71.
Источники излагают это повествование, переплетая между собой три базовые темы: милость бодхисатвы Манджушри, нисхождение существ ясного света (‘od gsal lha) и нисхождение божеств неба (gnam lha). Сочетание двух последних классов существ может вызвать легкое недоумение, поскольку они относятся к разным мифологиям. Для существ ясного света первичным источником являются получившие широкое распространение в Тибете индийские материалы, содержащиеся в «Муласарвастивада-винае» и родственных ей работах, в то время как нисхождение небесных божеств относится к древнему мифу о происхождении тибетцев72. В любом случае, целью данного произведения было доказать, что клан Кхон действительно являлся вместилищем земных воплощений Манджушри, бодхисатвы божественного разума, хотя при внимательном рассмотрении этой истории мы сталкиваемся с некоторыми концептуальными противоречиями, связанными с поведением богов при их нисхождении. Легенда начинается с описания трех небесных божеств (gnam lha): Чиринга (самый длинный), Юринга (длинный бирюзовый) и Усе (седые волосы), которые случайно появились в мире людей и получили приглашение стать его владыками, однако, принял его только Усе. От него родились четыре брата Седжили, которые боролись с восемнадцатью кланами племени Донг, одного из шести племен стандартной ранней тибетской мифологии73. В их борьбе к ним присоединился их дядя Юринг, и вместе они покорили восемнадцать кланов донгов, сделав их своими подданными. «Великая генеалогия» осторожно указывает, что, хотя кхоны возникли в результате брачных союзов с некоторыми из этих групп, это вовсе не означает, что они принадлежат к той же генеалогической линии, что и эти племена.
Юрингу приглянулась уроженка Му (еще одного из шести племен) по имени Муза Дембу (непостоянная правительница Му) и он «принял ее в своей крепости» (так это звучит в соответствии с предельно иносказательным словарем тибетских почтительных выражений)74. У них родились семь братьев Масанг, и шестеро из них решили вернуться в божественное царство вместе со своим отцом, использовав для этого священную веревку Му. Седьмой, Масанг Чидже, остался жить в мире людей, который каким-то образом располагался в промежуточной сфере (bar-snang) между небом и землей. Его внуком был мальчик Луца Такпо Очен, который женился на Монзе Цомо-гьеле. Их сын родился (skyes) на границе между покрытой мхом низиной (spang) и сланцевым склоном (g.ya’) и поэтому был назван Япанг-кье75. Он поселился на красивой высокой горе к северо-западу от области Шан в Тибете, которая вследствие этого стала известна как «гора Япанга» (g.Ya’spangri). Сообщается, что Япанг-кье был героем-божеством, и ему приглянулась красавица-жена демона по имени Кьяренг Трагме. Он сразился с демоном, убил его и взял вдову демона себе в жены. У них родился сын, которого назвали в честь того, что он был зачат вследствие противоборства между божеством и демоном (lha dang sring po ‘khon pa), и наградили эпитетом Япанг Кхон-бар-кье. Основываясь на этом эпизоде источники уверяют, что название клана Кхон ведет свое происхождение от слова «борьба» (‘khon), под которым подразумевается та самая борьба между небесным божеством и владыкой демонов за обладание очаровательной демоницей, и это не самая поразительная история среди легенд данного клана.
Согласно мифу, только в этот момент божества действительно явились в мир людей на вершину прекрасной высокой горы под названием Шелца Гьелмо, куда спустился и Япанг Кхон-бар-ке76. Более поздний выходец из Кхона по имени Конпа Джегунгтак попросил земли для родовой вотчины у правителя в Самье, на что ему было велено самому отправиться на поиски подходящего места. В поисках земель, обладающих всеми необходимыми качествами: плодородной почвой, водой, древесиной, пастбищами и плитняком, Конпа Джегунгтак добрался до Лато и основал свое поместье в Ньенце-таре77. Поскольку великий правитель Трисонг Децен очень высоко ценил Конпу, ему был доверен высокий пост министра внутренних дел (nang rje kha), вследствие чего он стал называться Кхон Пелпоче (Великий славный господин Кхон)78. Он женился на супруге Ланга Кхампа-лоцавы, и у них родилось несколько сыновей, старшим (или младшим) из которых был Кхон Луи-ванпо – один из «семи достойных мужей» (sad mi mi bdun), входивший в первую группу тибетцев, посвященных в монахи Шантаракшитой в недавно построенном монастыре Самье. Согласно записям клана Кхон, он был самым умным из трех младших переводчиков (lo tsd ba gzhon gsum) этой группы.
Кхон Луи-ванпо дает нам достаточно точную историческую привязку, опираясь на которую мы можем сделать ретроспективную оценку мифологии наследственной линии. Отсутствие непрерывности повествования вполне очевидно показывает, что оно составлено из нескольких отдельных историй, следующих одна за другой: покорение племени Донг божествами, вступившими в брак с племенем Му и правившими его людьми; мифология богов Масанга как этап развития Тибета; мифологическое утверждение родовых божеств священных гор (Япанг-ри, Шелца Гьелмо) в области Шан; трактовка имени «Кхон» посредством аллюзии на старую панъевразийскую легенду о битве между богами и демонами; а также утверждение тесной связи с имперским домом посредством сюжета с вотчиной в Лато, пожалованной императором Кхону79. Прерывистость повествования не вызывает сомнений, поскольку входящие в него истории постоянно помещают богов в мир людей, а затем удаляют их оттуда только для того, чтобы затем снова вернуть назад. На самом деле, самые ранние из сохранившихся записей Кхона просто начинаются с рассказа о благонравном монахе-переводчике Кхоне Луи-вангпо, при этом Дракпа Гьелцен действительно указывает на то, что благодаря бодхисатве *Данашри (т.е. Сачену Кунге Ньингпо) его семейство стала одним из источников череды религиозных наставников80. В данном случае довольно скромное семейное описание двенадцатого века резко контрастирует с утверждениями о божественном воплощении, которые стали появляться у более поздних кхонских авторов начиная с конца четырнадцатого столетия81.
Точное положение этого клана в период правления имперской династии остается неясным. Мне не удалось найти подтверждение назначения Кхона Пелпоче на имперский пост в сохранившихся записях этого периода, хотя в них сообщается о многих людях, получавших такие назначения82. Кроме того, ни в одном из доступных мне ранних документах не фигурирует ни его имя, ни название клана Кхон. Даже ассоциация Кхона Луи-вангпо с «семью достойными мужами» является спорной, поскольку в ряде самых ранних источников упоминается только «шесть мужей», и Луи-вангпо среди них нет84. Тем не менее, не вызывает сомнений, что кхоны вполне уверенно держались на периферии династии безотносительно их присутствия при дворе. В списке владений кланов, составленном при первом императоре Сонгцене Гампо, Кхон вообще не упоминается, хотя в нем, безусловно, представлены не все кланы, включая такие значимые семейства, как Ланг и Гар85. Тем не менее, совокупность свидетельств говорит нам о том, что кхоны были мелкой аристократией, обосновавшейся, вероятно, в районе Лато, где у них были богатые в природном отношении, но малозначимые с политической точки зрения владения.
Один из самых почитаемых выходцев из клана Кхон Луи-вангпо пользовался особым религиозным уважением как один из «младших переводчиков» (lo kyi chung) имперских времен, что являлось очень значимым духовным статусом86. Его обучение, скорее всего, проходило в Тибете, поскольку, похоже, что он не обучался в Индии в отличие от ряда других широко известных светил восьмого столетия. Возможно, что в разные времена существовали официальные запреты на поездки за границу, однако, в то время в Индии обучалось достаточное количество тибетцев, вследствие чего возникает вопрос: а почему этого не смогли сделать другие. В действительности информация о Луи-вангпо довольно скудна. Авторы как сакьи, так и ньингмы включают его в число учеников Падмасамбхавы, что, судя по всему, является более поздним представлением об имперском периоде87. Мы знаем, что Кхон поддерживали древние практики Ваджракилы и Янгдака Херуки, и вполне возможно, что они были вовлечены в эту традицию еще со времен династического периода88.
Как происходило внедрение клана Кхон в разреженный мир тибетской аристократии в какой-то мере можно наблюдать на примере известного супружеского союза младшего брата (или племянника) Луи-Вангпо по имени Дордже Ринпоче с девушкой из семейства Дро89. Этот союз никогда бы не мог состояться без официального признания Кхона в том или ином качестве, поскольку Дро, наряду с Кхьюнгпо, были могущественными кланами Цанга во времена и сразу после имперского периода90. Но после падения династии именно эта связь с Дро стала для Кхона источником несчастий. В главном городе Дро Ньенце, населенном одновременно кланами Дро и Кхон, в течение трех дней наблюдалась череда необычных «знамений». В первый день в городе видели белого коня с белой шерстяной попоной; во второй была замечен рыжий конь с красной попоной; а на третий – вороной конь с черной попоной. Тибетцы всегда были очень подозрительны, и поэтому пошли слухи, что кто-то вызывает вождя дро на скачки – метафора, несущая в себе политический смысл. В итоге семь сыновей Дордже Ринпоче были заподозрены в попытке бросить вызов господству своих родственников Дро, при этом общее мнение сводилось к тому, что вождю Дро следует отправить группу своих вооруженных людей, чтобы разобраться с ними. Позиция кхонов заключалась в том, что все это дело рук вождя Дро, поскольку долгое время они мирно жили рядом как добрые соседи. Но жребий был брошен, и шестеро старших сыновей покинули эту территорию, чтобы расселиться по всему западному и южному Тибету: в Мангьюле, Гунгтанге, Се, Ньялоро и Ньянгшабе, и таким образом в каждом из этих мест утвердился клан Кхон. Младший сын, по всей видимости, остался в городе, вступил в противоборство с Дро и в итоге одержал над ними победу91.
После смены нескольких поколений и множества злоключений одна из ветвей клана Кхон оказалась в Ялунге (не Ярлунге) – долине, ответвляющейся на юг в среднем течении реки Трумчу, которая расположена к западу от окончательного местонахождения Сакьи и к юго-востоку от Мугулунга (см. Карту 6). Таким образом, одной из предпосылок последующего установления взаимоотношений между Кхоном и Дрокми стал рост могущества этого клана в местности, расположенной в непосредственной близости от Мугулунга, причем чуть позже члены семейства Кхон появились и в самом Мугулунге92. Их многочисленные молодые сыновья в конечном счете стали известны в этой области как «восемь групп» Кхона (‘khon tsho brgyad). Один из их потомков по имени Шакья Лотро укрепил свои владения в западной части долины Шаб, а также на исконных землях Ялунга93. Очень заманчивым выглядит отождествление этой фигуру с ламой по имени Кхон Шакья Лотро, с которым у Рало Дордже-драка, согласно его агиографии, было особенно неприятное столкновение и у которого были поместья с крепостными в Мугулунге. Рало заявил о своей причастности к смерти противника именно из клана Кхон, в результате чего разразилась чуть ли не настоящая небольшая война, да и даты всех этих событий, безусловно, достаточно близки94.
В Ялунге у Шакьи Лотро родились два сына: старший – Кхон Шерап Цултрим и младший – Кхон Кончок Гьялпо (р. 1034). В раннем возрасте Кхон Шерап Цултрим стал учеником одного из монахов Восточной винаи по имени Жутон Цондру, который принадлежал к общине, связанной с Латоном. Хотя Кхон Шерап Цултрим не стал монахом во время своего служения Жутону Цондру, он оставался целомудренным на протяжении всей своей жизни. Очевидно, даже продолжая практиковать обряды Ваджракилы и Янгдак Херуки, он соблюдал мирское безбрачие (brahmacari-upasaka), которыму следовали несколько известных личностей того периода и при котором основной упор делался на особую значимость добродетели как духовной дисциплины.
Его младший брат Кхон Кончок Гьелпо, напротив, сильно увлекся новыми направлениями буддийской практики и литературы95. Его первоначальный интерес к ним усилился после того, как он стал свидетелем потрясшего его события96. Когда его пригласили на церемонию, проводившуюся во благо живых и умерших предков (gson gshin) клана Дро, он увидел на открытой рыночной площади процессию из двадцати восьми йогинов, которые танцевали в масках (‘chams) божеств двадцати восьми лунных домов (isvari) и особым образом били в барабаны для умилостивления Ма-мо Релпачен, божеств пантеона ньингмы97. Пока выполнялся этот якобы тайный ритуал, на рынке кипела торговая деятельность, и проводились скачки, т.е. и буква, и дух эзотерической системы нарушались самым грубейшим образом. Когда он спросил своего старшего брата, что тот думает по поводу этого события, Шерап Цултрим признал его постыдность, заметив, что духовные достижения при следовании старой традиции впредь станут редкостью. В дальнейшем данное явление привело к ряду важных последствий, которые оказали серьезное воздействие на Кхон и сохранили свою значимость вплоть до наших дней. Самое интересное, что ни одна тибетская школа не была столь усердно озабочена соблюдением секретности как это было у сакьяпинцев, использовавших эзотерическую закрытость своей традиции в том числе и как аргумент риторики о ее превосходстве над другими, не столь скрытными традициями98. Эта озабоченность секретностью не позволяла им напечатать текстовый корпус ламдре вплоть до примерно 1905 года, а так же наложила заметный отпечаток на их взаимодействие с современным сообществом, исповедующим принципы открытости информации.
Что касается истории с двадцатью восемью танцующими йогинами, то ради справедливости следует заметить, что в одиннадцатом столетии, во времена религиозного возрождения Центрального Тибета, такие религиозные мероприятия, в том числе и якобы тайные, иногда проводились на рыночных площадях как в рамках движения «новых переводов», так и старыми традициями99. К примеру, в источниках иногда встречаются упоминания о том, что Рало Дордже-драк давал свои посвящения в Ваджрабхайраву перед многолюдной аудиторией, собиравшейся на рыночных площадях100. Это происходило по причине того, что в те времена было очень мало мест, где могло бы собраться большое количество людей. Даже самые обширные храмы, вновь возведенные или же сохранившиеся от старой имперской программы строительства, попросту не могли вместить в себя те сотни людей, которые иногда собирались на эти «религиозные циклы» (chos skor), где в зависимости от обстоятельств могло происходить все что угодно: от обучения основам буддизма до изложения высших учений. Нет сомнений в том, что те мероприятия, где требовалось соблюдение эзотерической тайны, ответственные лица контролировали с особой тщательностью, однако, каждая из основных тибетских буддистских традиций время от времени проводила большие квазипубличные собрания, на которых «нашептываемые на ухо» учения передавались людям в массовом порядке. Вполне очевидно, что так было и в одиннадцатом столетии, и, безусловно, происходит сегодня, поскольку даже такие религиозные группы, как сакьяпа, всегда ратующая за ограничение доступа к эзотерическим материалам, в конце концов, все же были вынуждены пойти на определенные уступки в этом вопросе.
Собравшись провести «ритуал прекращения», два брата из клана Кхон взяли все династические религиозные материалы, которые у них были: книги, статуи и атрибуты эзотерической системы, и поместили их в ступу в качестве формального подтверждения ритуального прекращения традиции101. Однако, они не успели довести это дело до конца, поскольку божественные защитники религии, в частности Кармо Ньида Чамсинг, сообщили им, что с двумя из центральных медитативных ритуалов подобным образом поступать нельзя102. Поэтому братья сохранили систему Ваджракумары Ваджракилы и некоторые материалы Янгдака Херуки, которые навсегда остались частью ритуалов клана Кхон. Вследствие этого Кхон и по сей день имеет достаточно прочную основу в практике этих традиций, которые он разделяет с ньингмой. Для лучшего понимания данной ситуации следует отметить, что большинство тибетских школ в конечном счете сблизились с ньингмапой, приняв некоторые циклы «скрытых сокровищ». Однако, среди неньингмапинских кланов только кхоны могут похвастаться тем, что их семейство на постоянной основе поддерживает практики кахмы, являющиеся непрерывно передаваемыми с древних времен имперскими системами религиозности.
Совершив ритуал прекращения, Кхон Кончок Гьелпо отправился осваивать недавно переведенные писания и начал эту деятельность с сотрудничества с малоизвестным переводчиком по имени Кхьин-лоцава из Белпука. Он изучал с ним одну из работ цикла Хеваджры вплоть до безвременной кончины своего учителя103. Неустрашимый Кончок Гьелпо отправился к самому Дрокми, который, как правило, требовал большое вознаграждение за прием в ученики. По этой причине Кончок Гьелпо продал часть принадлежащей ему земли в Ялунге и на вырученные деньги купил и подарил Дрокми семнадцать лошадей и средства для обеспечения их кормами, а также четки под названием «четки из дамских драгоценных камней»104. Ему были дарованы наставления по некоторым учениям Дрокми, таким как «Ачинтьядваякрамопадеша», и кроме того он был особо удостоен наставлений по основополагающим писаниям цикла Хеваджры: «Хеваджра-тантре», «Сампутодбхаве» и «Ваджрапанджаре». Как уже отмечалось ранее, именно этот материал иногда идентифицируется более поздними авторами как «бестекстовое ламдре» (rtsa ba med pa’i lam ‘bras), поскольку он не включает в себя «Коренной текст *маргапхалы». Также он носит название «экзегетическое ламдре» (lam ‘bras bshad brgyud), потому что не содержит священные тексты, на которых якобы основывается ламдре105. Хотя в литературе ламдре эта экзегетическая линия несколько умаляется, на самом деле она представляет собой очень значимый интеллектуальный аспект эзотерической системы, и в последующие столетия эзотерическая ученость сакьяпы в основном опиралась именно на этот корпус духовной литературы из-за его высокого авторитета в тибетском сообществе.
Ко времени окончания своего обучение у Дрокми Кончок Гьелпо достиг выдающихся успехов в обретении знаний и постижении экзегетической традиции, и он продолжил свое обучение у многих выдающихся переводчиков и святых подвижников тех времен106. У Го-лоцавы Кхукпы Лхеце он изучал «Гухьясамаджу»; у Мел-лоцавы – «Чакрасамвару»; у Пандита Праджнягупты (Красного наставника) – пять «Тилака-тантр». Затем он продолжил свое обучение у Ма-лоцавы, Бари-лоцавы, Пурап-лоцавы и других, включая своего родственника Кхона Гьичуву107. Получив все эти знания, Кончок Гьялпо решил провести правильные погребальные обряды для своего отца и брата, чьи телесные реликвии были помещены в буддистский реликварий в Жангьюле Джакшонге. После этого он построил небольшой центр в Драволунге невдалеке от Ялунга, но через несколько лет ему это место, по-видимому, показалось чем-то неудобным, а позже его стали называть «руинами сакья» (sa skya gog po). Путешествуя с некоторыми из своих учеников, Кончок Гьялпо случайно посетил территорию, которая впоследствии стала оплотам сакьи, и был поражен ее превосходными качествами. Вслед за этим, он обратился к правителю региона Джово Донг-накпе, который дал ему разрешение на строительство монастыря. Но кроме того нужно было урегулировать вопрос с местными племенными вождями, поскольку по факту именно они контролировали эту территорию. Он обратился к Жангжунгу Гураве, а также к жителям Четырех Бенде и Семи Лхами – двух поселений, названных в честь своих знаменитостей, – и спросил, что бы они хотели получить в обмен на эту землю. Они долго раздумывали, но в конце концов приняли решение, что в качестве оплаты за землю он отдаст им белую кобылу, четки из драгоценных камней, прекрасное женское платье и бронированную кирасу. Завершив эту сделку, тридцатидевятилетний Кхон Кончок Гьелпо в 1073 году официально основал монастырь Сакья, ставший институциональной резиденцией школы сакья на последующие девять столетий.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
К началу тринадцатого столетия тибетский буддизм стал одной из важнейших составляющих религиозной жизни Азии. Преодолев этап некоторой социальной нестабильности, неоконсервативный курс Сакья Пандиты, Дрикунга Джиктена Гонпо и Чагло Чодже-пела привел к созданию прочной социальной и ритуальной основы, ставшей надежной опорой основных институтов сармы и ключевым аспектом их саморекламы. По мере принятия на вооружение базовых принципов, изложенных в индийской литературе, тибетцы обнаружили, что их институты также должны оцениваться по этим стандартам. Поэтому «монастыри», которые порой основывались и контролировались немонахами (в кадампе таким был Дромтон, в кагьюпе – Марпа, в сакье – Кончок Гьялпо), все чаще попадали под влияние Винаи и авторитета индийских моделей благопристойности. Когда система давала сбой, как в случае с безумными наставниками, навроде ламы Жанга, или махинациями монахов Восточной Винаи, тибетцы принимали решения по ситуации, которые, однако, не устраняли структурные проблемы.
С момента сооружения Сакьи в 1073 году и до кончины Дракпы Гьелцена в 1216 году прошло лишь неполных полтора столетия. Однако, за это время тибетская модель институциональной безопасности смогла доказать свою состоятельность, во многом благодаря тому, что каждое поколение выполняло поставленные перед ним задачи с обостренным чувством времени и большой долей везения. Счастливый случай даровал монастырю Сакья как превосходное руководство, так и необычайную удачу, причем важнейшую роль в обоих этих событиях сыграли два великих литератора из числа сыновей Сачена. К сожалению, порой они допускали некоторую научную неточность, т.к. известно, что Бутон Ринчендруп, писавший более чем через столетие после выдающейся деятельности Сонама Цемо и Дракпы Гьелцена, нашел у них много ошибок в цитатах и ссылках на источники из буддистских архивов157. Однако, надо отдать ему должное и отметить, что Бутон обращался с этими ошибками довольно тактично и деликатно, что, вероятно, было неизбежным при работе с сочинениями таких кумиров религиозной системы. Обсуждение эзотерических обетов Дракпой Гьелценом также вызвало немалый переполох, поскольку он утверждал, что все три обета: шраваки, бодхисатвы и видьядхары имеют единую сущность, что было во многом подобно идее раннего буддизма, согласно которой вся Дхарма имеет единый вкус – вкус освобождения158. Знаменитый знаток Калачакры Вибхутичандра счел необходимым опровергнуть позицию Дракпы Гьелцена, хотя это и не уменьшило уважения к данному тексту, который и до сих пор считается эталонным. Тем не менее, обсуждение таких в целом незначительных вопросов лишь наглядно демонстрирует тот факт, что деятельность братьев по продвижению программы «доместикации» ламдре была чрезвычайно успешной. Им удалось подготовить почву для одного из важнейших событий в истории Центральной Азии: отказа монголов от вооруженного захвата Тибета и передачи права управления им сакьяпинскому монаху.
Аме-шеп рассказывает забавную историю о том, как однажды ночью, когда Дракпа Гьелцен находился в пещере для медитации, ему во сне явились божества Тибета и Монголии. Они выпили вино, которое в качестве подношения было налито в череп, помещенный на эзотерический алтарь Дракпы Гьелцена, сильно опьянели, после чего танцевали и пели всю ночь напролет, болтая на разных языках. Аме-шеп утверждает, что таким образом сакьяпа установила особые отношения с монгольским государством, ибо в духовном плане данная связь была предварена шумной вечеринкой с распитием эзотерического нектара159. Такие эпизоды из литературных повествований выглядят просто очаровательно, однако, они весьма далеки от исторической реальности. Ведь клану Кхон потребовалось более века упорного труда, чтобы адаптировать антиномические системы индийского эзотерического буддизма к местным социальным условиям и привести их в соответствие с аристократическими ценностями, являвшимися опорой благородных семейств У-Цанга в одиннадцатом и двенадцатом столетиях. Это потребовало от них вовлечения в эту деятельность целой мандалы выдающихся личностей, которые были готовы оставаться в тени и скрывать свой вклад ради того, чтобы звезда клана Кхон смогла засиять еще ярче. Десятки деятелей, трудившихся во славу Кхона, такие как Бари-лоцава, геше Ньен Пул-джунгва геше и Ньяк Ванг-гьел (и это лишь малая часть из них), делали это ради того, чтобы внести свой вклад в создании новой институции, значившей гораздо больше, чем каждый из них в отдельности, поскольку они, должно быть, хорошо представляли к чему ведет институциональная нестабильность Центрального Тибета. Благодаря труду этой мандалы доверенных деятелей Кхона, «доместикация» текста ламдре переместила его в гораздо более обширную сферу литературных и духовных устремлений, даже при том, что он всегда был на особом положении в религиозной жизни Сакьи и различных аффилированных с нею структур. Достижения всех этих людей являются ярким примером многогранных возможностей средневековой институциональной культуры индийского буддизма, ее адаптивности и способности обслуживать как религиозные, так и политические потребности.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Во все времена своего пребывания на индийской земле буддизм был традицией меньшинства, и на протяжении всей его истории экономическое положение буддистских учреждений то улучшалось, то ухудшалось. Период раннего средневековья оказался особенно трудным. С ростом политического влияния Южной Индии одни институции северо-индийского происхождения смогли приспособиться к новым реалиям, в то время как другие начали утрачивать свое влияние. К сожалению, буддистские сообщества пошли по второму пути, причем их упадок был усугублен как сложной экономической и политической ситуацией, так и рядом решений, принятых буддистскими интеллектуалами.
Однако, самым главным фактором этого процесса была утрата буддистами традиционного покровительства. Уже на ранней стадии возникновения таких отношений, буддистским монахам удалось найти общий язык с крупнейшими гильдиями Северной Индии, в особенности с международными торговыми сообществами, которые вывозили товары из Индии и поставляли обратно различные изделия из Китая, Рима, Индонезии и других мест. Монахи путешествовали вместе с этими торговцами, предоставляя им квалифицированные лингвистические, правовые и медицинские услуги в обмен на их покровительство дома и за рубежом. Монастыри одалживали деньги мирянам-буддистам, вовлеченным в рискованную международную торговлю, снижая таким образом их расходы на ростовщические проценты банковских гильдий субконтинента. Со своей стороны, торговые гильдии получали пользу от общения с монахами и монастырями, изучая счетоводство и астрологию в уважаемом учреждении, которое не обращало внимание на кастовое происхождение, а лишь горело желанием распространять Учение Учителя. Помимо прочего, симбиоз монастырей и гильдий был эффективен в части противодействия власти политических деятелей и высокомерию военных, причем, хотя правители и военачальники имели отношения и с монастырями, и с гильдиями, контролировать их по отдельности было довольно сложно. Таким образом, буддисты распространяли свое учение в Индии и за границей частично с помощью гильдий, а частично посредством стратегии предоставления услуг, оказываемых монахами.
Многое изменилось с упадком крупных торговых гильдий, начавшимся в условиях возросшего военного авантюризма после смерти Харши в 647 г. н.э. Предпочтение, отдаваемое Раштракутами арабским мореплавателям, и ошеломляющий успех согдийских купцов в Таримском бассейне в течение и после седьмого столетия обострили ситуацию в Индии. Здесь мелкие местные правители часто вели торговлю исключительно в своих личных целях и нередко норовили увеличить свою прибыль за счет пиратства или сговора с преступными группировками. В результате увеличения числа беженцев, военных дезертиров, не получающих жалованья солдат и других вооруженных группировок закон и порядок в Индии окончательно деградировали. Даже члены богатых гильдий, таких как, например, группы южноиндийских Айяволе, везде носили с собой оружие и иногда выступали в роли преступных объединений. А ордена воинствующих садху, как, впрочем, и некоторые пашупаты, предоставляли услуги по вооруженной охране караванов.
Не найдя общий язык со многими из южных правителей и мелких князьков, буддистские общины в долине реки Кришны – месте чрезвычайной буддистской активности на протяжении почти тысячи лет – постепенно исчезали под напором волн воинствующего шиваизма. Вследствие этого, многие буддистские сообщества сконцентрировались в крупных, похожих на крепости монастырях Северной и Западной Индии, а также крайнего юга, однако, больше всего их было в областях с монаршим покровительством, расположенных на востоке субконтинента. К десятому веку индийские буддистские монастыри в основном находились в Ориссе, Бенгалии, Бихаре, Уттар-Прадеше и вдоль западного побережья. Кроме того, несколько небольших обителей располагалось в Мадхья-Прадеше. При этом Андхра была почти полностью потеряна, как и большая часть юга, за исключением общин в Нагапаттинаме и его окрестностях, жизнеспособность которых во многом зависела от их связей с Шри Ланкой и Индонезией. В средневековой буддийской мифологии большая часть Южной Индии представлена в ореоле угроз и опасностей: здесь демоницы только и ждут случая, чтобы пленить буддистских монахов или торговцев, а правители-вампиры приносят путешественников в жертву гневным богиням.
Но даже в таких оплотах буддизма, как Бихар, Орисса и Бенгалия, монастыри продолжали испытывать проблемы с покровительством, поэтому они все больше уподоблялись феодалам, даровавшим им земли и привилегии. Величайшие из мегамонастырей тех времен, такие как Наланда, Одантапури, Сомапура и Викрамашила, владели значительными участками сельской местности, обеспечивающими их содержание. Своей коллективной ученостью они притягивали множество монахов из Средней, Юго-Восточной и Восточной Азии. Самые крупные из них имели в своем составе от 2500 до 3000 монахов, вовлеченных в учебу, медитацию и финансово-хозяйственную деятельность, поэтому великие монастыри в своих областях являли собой наиболее организованную административную силу, а так же были одними из самых значимых политических институтов. На этих территориях они самостоятельно собирали доходы и осуществляли полицейские функции, поэтому некоторые монахи только назывались таковыми, полностью посвятив себя бюрократической работе. Как это ни парадоксально звучит, но по мере того, как буддистские институты становились все более редкими и подвергались все большему региональному давлению, они увеличивались в размерах и привлекали все большее международное внимание.
Наконец, постоянные проблемы противоборства с брахманизмом и поиск институциональной стабильности, по всей видимости, повлияли и на буддийское доктринальное самовыражение. Буддистские мыслители перестали создавать свои в высшей степени оригинальные и динамичные системы буддийской мысли. Вместо этого в седьмом веке произошли два события, которые изменили способ продвижения индийскими буддистами своего философского дискурса. Первым было радикальное движение в рамках учения школы мадхьямака, утверждавшее, что использование буддийского технического языка в любом виде нежелательно. Его последователи заявляли, что все утверждения подразумевают противопоставление, и по этой причине уже сам факт их формулирования представляется абсурдными (prasanga). Одновременно с этим буддистские интеллектуалы начали заимствовать язык и программу брахманских эпистемологов, приняв презумпцию превосходства чувственного опыта над прозрением или мистическим знанием и включив вcе это в буддийские учебные программы*.
—————————————————————————————————
* Более подробно об этом см. в книге «Индийский эзотерический буддизм …» Гл. 3 раздел 3.6
—————————————————————————————————
К сожалению, эти новации имели множество непредвиденных последствий. Что касается крайней позиции мадхьямаки, то могло сложиться впечатление, что буддистам попросту нечего сказать, или же, что любые высказывания, подтверждающие основы монашеской дисциплины, кармы или буддийского пути, по своей сути проблематичны. Хотя Нагарджуна и предостерегал от неверного толкования своих концепций, именно это, вне всякого сомнения, и произошло с теми, кто был менее всего приспособлен к тонкостям его диалектической доктрины, в частности с некоторыми монахами, считавшими, что добродетель и дисциплинарные правила теперь могут быть предметом торга. С другой стороны, по мере развития собственной эпистемологи возникало впечатление, что буддийские утверждения, даже если они и не абсурдны, то, как минимум, являются производными от брахманских постулатов. Причем хотя буддисты и смогли продемонстрировать, что они умеют говорить на языке средневековой индийской философии, все это сопровождалось отсутствием у них позиции, способной особым образом подтвердить буддийскую доктрину и собственную философскую архитектуру – самодостаточную и не прибегающую к брахманским постулатам. Но такой подход не мог не означать, что другие теперь склонны видеть в них только одно из подмножеств всех эпистемологов Индии, а не нечто отдельное и радикальное. Необходимо отметить, что все вышесказанное следует воспринимать в контексте индийских событий седьмого и восьмого столетий. Для Тибета эти перемены имели совершенно другие последствия, особенно начиная с конца одиннадцатого столетия.
Эти внутренние события в буддистском сообществе способствовали переходу к следующей фазе: построению ритуального мира эзотерического буддизма. По нашим данным, зрелое эзотерическое движение сформировалось во второй половине седьмого столетия. В самых ранних текстах обсуждались не только такие компоненты, как защитные мантры и построение мандал на основе разнообразных иконографических композиций, но даже ритуалы посвящения (abhiseka) и (правда изредка) визуализация себя в образе Будды. Однако, все эти представления не были интегрированы в движение самопознания и не обязательно работали во взаимодействии, т.е. мантры могли быть описаны в одной части текста, а визуализация мандалы – в другой, причем без необходимой взаимосвязи. Однако, во второй половине седьмого столетия мы отмечаем признаки все более тесной интеграции этих и других элементов под эгидой всеобщей метафоры посвящения в повелители круга вассальных государств. Эта метафора была основана не на теоретических дискуссиях о государственном устройстве, присутствующих в таких классических индийских трактатах, как «Артхашастра», а стала прямым следствием становления в средневековой Индии саманта-феодализма, начавшего распространяться с первой декады седьмого столетия.
Феодальная система тех времен требовала, чтобы честолюбивый правитель был посвящен в статус повелителя посредством особой церемонии, в результате которой он становился божеством благодаря наделению его божественностью каким-либо богом или богами и помещался в центре мандалы подчиненных государств. Эти подчиненные государства выступали в роли буфера, окружающего со всех сторон великое государство данного правителя, поэтому такое построение назвалось мандалой, т.е. кругом. Поскольку каждое из подчиненных государств было по своей сути самодостаточным, меньшее государство в какой-то момент могло обрести статус великого государства и занять центр мандалы. Далее отметим тот факт, что словарь раннего эзотерического буддизма почти точно воспроизводит политическую терминологию, присутствующую в эпиграфических надписях и документах седьмого и восьмого столетий. Причем индийцы были прекрасно осведомлены об этих параллелях:
|
Монах принимает посвящение (abhiseka) от своего наставника (vajracarya) таким образом, чтобы он возвысился как божество (devatabhimana) и был наделен властью над расположенной вокруг него группой других божеств (mandala) различных семейств (kula). Он вступает в сообщество йогинов, знающих мантры (mantrin), и таким образом сам может использовать их секретные заклинания (guhyamantra). Он защищен Ваджрапани (Vajrapani), повелителем таинств (guhyakadhipati).
Он получает полномочия заниматься ритуальными действиями (karma), которые варьируют от умиротворяющих (santika) до разрушительных (abhicaraka).
|
Принц принимает коронацию (abhiseka) от своего священника (purohita) таким образом, чтобы он был признан частичным воплощением божества (devamsa) и наделен властью над окрестными вассалами (mandala) из различных родов (kula).
При нем состоит группа советников (mantrin) и он может пользоваться их конфиденциальными советами (guhyamantra). Он защищен командующим вооруженными силами (tantradhipati). Он получает полномочия вести себя как правитель (rajakarma), чьи поступки варьируют от умиротворяющих (santika) до ритуально разрушительных (abhicaraka).
|
Смысловое наполнение этого метафорического подражания детально прорабатывалось в течение седьмого-десятого столетий, и со временем терминология целых классов священных текстов наполнилась идеологией военно-политических моделей. В некоторых работах, таких как, например, «Махакала-тантра», целые главы посвящены обретению государственной власти, а также тому, как это может быть осуществлено. В подобных случаях автор, по сути, перестает следовать метафоре и возвращается к позиции, аналогичной той, что изложена в последней главе «Артхашастры», где подробно описаны магические средства, используемые в том случае, когда военный авантюризм не приносит результата. В других работах метафора вполне очевидно используется именно как метафора («Также, как чакравартин коронован … так и ты»), но все же предполагается, что ритуальные действия (tantrakarma) принесут ощутимые социально-политические выгоды и покровителям мантрина. При этом презумпция обязательности покровительства основывается на утверждении, что йогин займет метафорическое положение повелителя, оказывая при этом эзотерические услуги действующим монархам.
Однако, эта метафора вовсе не означает, что эзотерический буддизм может быть сведен к циничным попыткам неуверенных в себе институций занять раболепное положение у ног кровожадных тиранов. Напротив, это указывает на то, что буддисты постоянно уделяли самое пристальное внимание социально-политическим моделям, доминирующим в общественной жизни, тем более, что такие модели повсеместно внедрялись в культурную среду, в которой развивались их институты. Поскольку монастыри уже во всем следовали примеру крупных феодальных владений, переход к восприятию всего этого как неотъемлемой части человеческого бытия был быстрым и естественным. Здесь можно провести аналогию с ранней сангхой и ее демократической структурой, основанной на принципах, заимствованных у политической организации шакьев и личчхавов. В каждом из этих случаев мы наблюдаем сакрализацию статуса-кво и связанное с этим переопределение организации реальности и пространства, т.е. буддийское учение воспринимало данную культуру как реальность, а не как нечто ложное. Акт сакрализации, по своей сути, подобен основополагающему действию эзотерических писаний: превращению яда в нектар. Как яды личности – невежество, вожделение, ненависть – преобразуются медитирующим в нектар различных форм мистического постижения, так и структура реальности может быть преобразована в иерархию духовности. В противовес отношениям между мандалами государств, основанных на подозрительности и двуличии, мандала медитирующего является полем сострадания и прозрения. Тем не менее, мы не можем отрицать того факта, что корни данной системы были феодальными, и что мандалы носили политический характер и описывали фрагментированные сообщества, воспринимающие как норму иерархию и контроль. Все это имело важные последствия в части воздействия на поведение отдельных людей и целых сообществ Тибета.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Не случайно, что период тибетского ренессанса почти в точности совпадает с возрождением, начавшимся в Центральной Азии и Китае в целом и в северо-восточных тибетских регионах Хэси и Лянчжоу в частности. Вполне очевидно, что тибетцы прирастали своей экономической и культурной мощью не с юга, где к концу десятого столетия уже было ясно, что Пратихары и Палы Северной Индии лишь ненадолго переживут крах Раштракутов 973 года. И наоборот, в Китае возрождение центральной власти сыграло определяющую роль в его вступлении в один своих «золотых веков»: период правления династии Сун. Хотя датой объединения Северной Сун номинально считается 960 г., на самом деле Сун только к 979 г. установила полный контроль над Северным Китаем после того, как Сун Тайцзун победил Шато, военного правителя Бейханя3. В регионе Хэси определенная стабильность установилась между 982 и 1004 годами. Это было связано с возникновением к северу от него Тангутского государства и формированием треугольника отношений между ним, Сун и киданями4. Помимо всего этого, юго-западное (по отношению к Китаю) государство Наньчжао, бывшее то его союзником, то противником, в 937 году уступило место китаизированному государству Дали5. Рост политического могущество этих северных и восточных соседей способствовал экономическому развитию Тибета, что в свою очередь стало причиной увеличения класса очень значимых в культурном отношении, пусть и ничего не производящих людей: буддистских монахов.
В конце десятого столетия успешный рост экономической базы Тибета и укрепляющееся чувство политической стабильности способствовали возрождение интереса к восстановлению старых храмовых комплексов имперского династического периода. В «Имперской генеалогии» Дракпы Гьелцена утверждается, что в то время как в годы правлений Трисонга Децена и Триде Сонгцена было основано 108 храмов, Трицуком Деценом Релпаченом было освящено уже 1008 храмов. Последняя цифра выглядит явно преувеличенной, но с другой стороны она свидетельствует о неизменной притягательности для тибетцев имперских религиозных сооружений6. Существует более убедительный список из тридцати важнейших учреждений, где под эгидой Релпачена реализовывались программы монашеского обучения, причем именно эти и подобные им структуры наряду с Самье стали основой возрождения буддизма в Центральном Тибете7.
И тибетская литература, и современные источники, как правило, фокусируют свое внимание на создании Самье во времена правления имперской династии и на событиях в Западном Тибете периода «новых переводов». Однако, в конце десятого столетия сформировался ряд благоприятных факторов, способствовавших возникновению локальных буддистских институтов на базе небольших храмов и монастырей, которые в течение первых нескольких столетий существования буддизма Центрального Тибета являлись одной из самых важных его составляющих. В ранний период эти храмы выступали в роли волнующего послания тибетцам, подтверждавшего преданность их императорского дома индийской религии. В трудные времена конца девятого и начала десятого столетий они являли собой материальные свидетельства священности этих места, продолжая при этом вызывать воспоминания о временах династии. В десятом и одиннадцатом веках с участием Самье из них сформировалась сеть постоянных центров социального и коммерческого взаимодействия мелких странствующих торговцев и тибетских монахов8.
Многие храмы также служили местом сбора местных князей, пытавшихся таким образом самоутверждаться, предаваясь воспоминаниям о мифических древних правителях. Важность храмовой сети и ее символических ассоциаций признается и в более поздней литературе в виде доктрины геомантического влияния храмов. В этой модели двенадцатого столетия, имеющей интересный психосексуальный подтекст, построенные членами династии храмы выступают в роли ритуальных кинжалов, пронзающих различные части тела горной демоницы Тибета9. Здесь и пространственная компоновка, и сопутствующее повествование самым любопытным образом напоминают систему питх в Индии, сооруженных на тех местах, где упали части расчлененного тело Сати, жены Шивы. При этом, подобно питхам система храмов укрощения демоницы представляет собой священную сеть, в которой глобальная мифология сочетается с сугубо местными культами. Исторически сложилось так, что к концу десятого столетия взаимодействие местных князей и храмовой системы подготовило почву для повторного утверждения монашеского буддизма в У-Цанге, а также обеспечило фундаментальную модель религиозной и политической легитимности дальнейшего сооружения храмов на всей территории Тибетского плато.
По факту, повторное утверждение монашеского буддизма в Центральном Тибете стало результатом прочных политических и культурных отношений, установившихся между тибетцами северо-востока (район Цонгкха/Хэси) и Центрального Тибета. Стандартная история гласит, что в разгар гонений на буддизм во времена Дармы трое монахов центра медитации в Чувори Гомдре, одного из храмов Релпачена, заметили, что другие монахи ведут себя как безумные. Они били в барабаны, переодевались в мирское, водили на поводке собак и ходили на охоту. Узнав о судьбе монахов Центрального Тибета, эти трое – Йо-геджунг, Цанг Рапсел и Мар Шакья Сенге – бежали в Западный Тибет и далее в Среднюю Азию (Hor)10. Однако там их жизнь протекала в условиях полной неопределенности, и когда они услышали об убийстве Дармы, то решили поискать другое место. С помощью буддиста-мирянина из Центральной Азии Шакья Шерапа они погрузили свои тексты Винаи и Абхидхармы на осла и направились в монастырь Анчунг Намдзонг, расположенный где-то на территории Цонгкхи. Там они познакомились с молодым бонпо, сыгравшим центральную роль в этой истории. Этот молодой человек с помощью двух китайских монахов, которых иногда называют Хэшан Кава и Хэшан Генбак, был пострижен в буддистские монахи под именем Гевасел (или Гонгпа-сел) и затем поселился в монастыре Дентик на берегу Желтой реки (неподалеку от современного китайского города Синина). Трое молодых людей из Центрального Тибета приехали в этот монастырь, встретились с Геваселем, были посвящены в монахи и, в конечном счете, вернулись домой, чтобы распространять Дхарму в самом сердце Тибета.
Реальные события, конечно же, выглядели гораздо сложнее того, что описано в этом незатейливом шаблонном повествовании. В доступных нам ранних источниках упоминается сеть различных храмов, ставших убежищем для монахов и добродетельных мирян, спасавшихся от буддистских гонений в Центральном Тибете. Их выбор не должен вызывать удивления, т.к. двадцать из тридцати обучающих храмов (chos grwa), построенных или поддерживаемых Релпаченом, располагались в восточно-тибетских регионах Кхам или Амдо. Поскольку и Анчунг, и Дентик в этом перечне указаны как центры медитации (sgom grwa), неудивительно, что монахи, прошедшие обучение в одном из таких центров, старались в дальнейшем найти для себя аналогичный. Тибетские монахи, искавшие безопасности и пристанища на северо-востоке, должны были вести себя как и подобает имперскому духовенству. Соответственно, тибетец Ка-о Чог-дракпа, услышав о бедствии в четырех рогах Тибета, проделал длительный путь из Непала и прибыл в Амдо с ослом, груженым сочинениями Абхидхармы11. Лхалунг Рапджор-янг и Ронгтон Сенге-драк прибыли из Йерпы вместе с множеством работ, посвященных Винае и Абхидхарме, а сам Ронгтон прошел обучение в одном из храмов, основанных Релпаченом. Более того, в Амдо состоялась встреча шестерых учеников Чара Ратны и других последователей великих переводчиков и индийских наставников времен имперской династии, преодолевших большие расстояния различными способами. Говорят, что даже убийца Дармы Лхалунг Пелгьи Дордже прибыл туда с большим количеством текстов Абхидхармы и Винаи12.
Следуя заветам Будды и ради сохранения традиций монашеского обучения эти и другие монахи начали обживать храмы и пещеры для медитации, расположенные на территории Хэси. Цанг Рапсел создал небольшой монастырь в пещере Кхангсар Ярипук. Ка-о Чог-дракпа вступил во владение храмом Пелсанг Кхарчак дрилбу. Лхалунг обосновался в храме Дашо-цел, а Ронгтон начал управлять храмом Чангца Джеронг. По-видимому, эти храмы, местонахождение которых неизвестно, к тому времени уже существовали, но были малопосещаемыми до прибытия в девятом столетии беженцев из Центрального Тибета. Стремясь сохранить и расширить свою драгоценную линию посвящения, монахи-беженцы занялись прозелитизмом, и пострижение ими в монахи Геваселя повлекло за собой дальнейшую ординацию таких групп, как «шесть превосходных мужей», включавшей в себя главным образом выходцев из восточно-тибетских аристократических семей, а также многих других13. К тому времени, когда более века спустя из Центрального Тибета прибыли первые кандидаты на посвящение, численность местного монашества возросла настолько, что в итоге возникли две (или даже три) отдельные винайные традиции14. Линия, поддерживаемая Драмом Еше Гьелценом, которая впоследствии была передана монахам из Центрального Тибета, называлась «линией монахов» (btsun brgyud). В противовес ей, линия посвящения, передаваемая Нубом Пелги Джангчубом, называлась «линией учителей» (mkhan brgyud), и между этими двумя группами в Амдо отмечалось довольно сильное соперничество и напряженность в отношениях15.
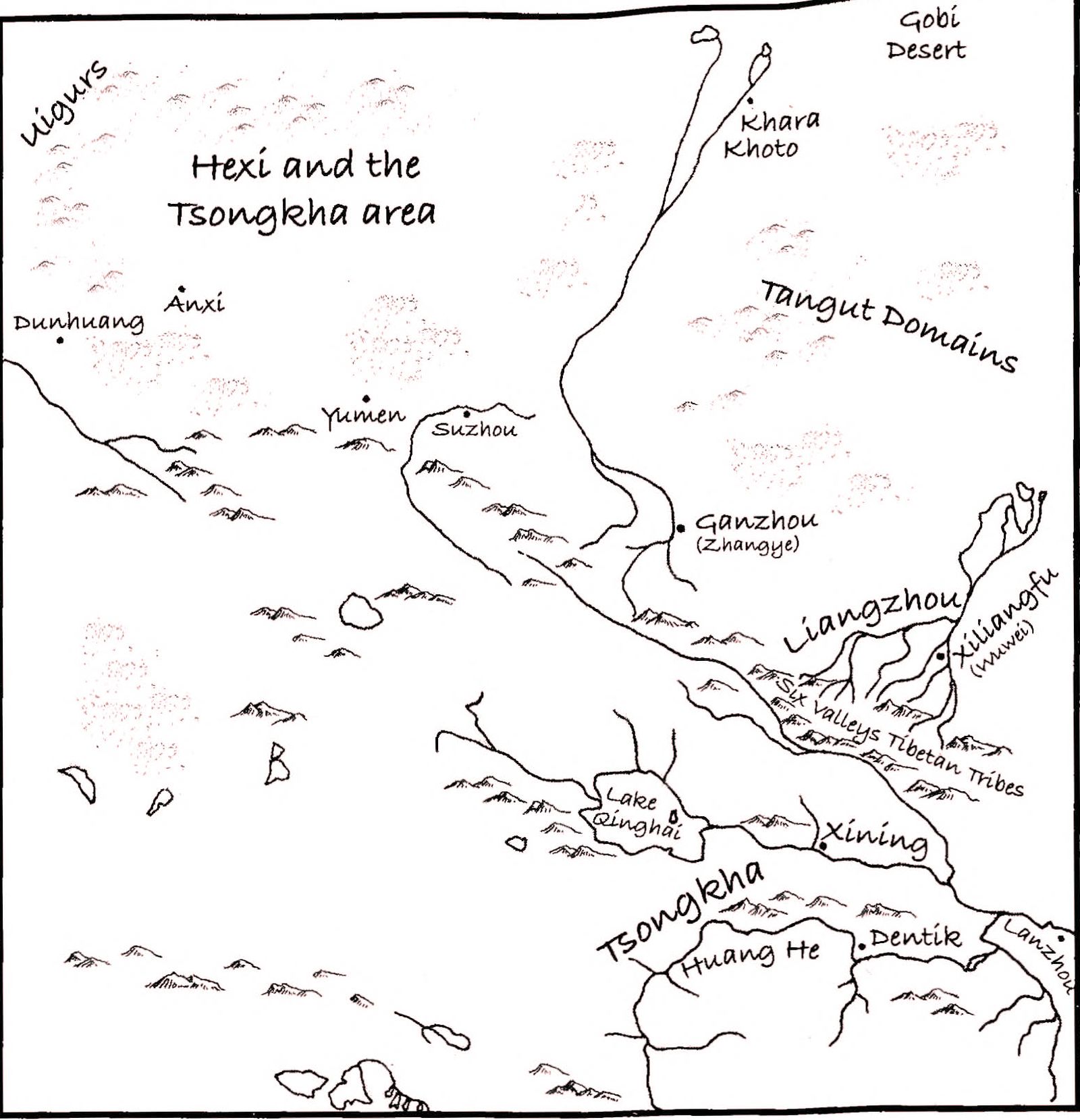 |
|
Карта 3. Регион Хэси и Цонгкха
|
Ранние тибетские хроники указывают на то, что жители Центрального Тибета в десятом столетии обратили свои взоры на северо-восток в надежде на приход оттуда живой винайной традиции. А причина широкой известности тибетских буддистских монахов этих краев заключалась в том, что в те времена данная территория представляла собой региональный перекресток активной политической и религиозной деятельности16. С помощью китайских имперских и местных источников нам удалось с достаточной точностью восстановить тогдашнюю географию региона Цонкха и Лянчжоу (см. карту 3)17. Не вызывает сомнений наличие у этой территории мощной политической и экономической база, поскольку в 998 году только в тибетском городе Силянфу (совр. Увэй), расположенном в округе Лянчжоу, проживало 128 000 человек, большинство из которых были тибетцами18. Лянчжоу также был процветающим центром тибетской торговли лошадьми, которая начала набирать обороты, как минимум, с 990 года. У нас есть некоторые представления о богатстве этой территории благодаря размеру дани некого Паньлечжи (кит. Panlezhi; тиб., возможно, ‘Phan bla-rje), вероятно, принадлежавшего к клана Ланг. Он пришел к власти в 1001 г., а в 1002 г. прислал в качестве дани в столицу империи Сун Кайфен пять тысяч лошадей19. После убийства Паньлечжи бандой тангутов в 1004 году правителем округа Лянчжоу и города Силянфу был избран его младший брат Сидуоду, но его официальное положение было не очень устойчивым, отчасти из-за чумы 1006 года20.
Еще один тибетский лидер появился на свет в тибетском округе Цонгкха (окрестности современного Синина), расположенном к югу от Лянчжоу и к востоку от озера Цинхай. В 1008 году князь родом из Западного Тибета, чье имя транскрибировано на китайский как Ци Наньлу Вэнь Цяньбу (Qi Nanlu Wen Qianbu, 997–1065), а по-тибетски, возможно, звучит как Три Намде Ценпо, был похищен из Цонгкхи монахом Лиличунем, воспользовавшимся помощью местного силача. Будучи временно перемещенным в находящийся на северо-западе Куоже, он был возведен на престол в качестве императора (btsan po), а позднее вместе с Лиличунем вернулся в Цонгкху. Там местные жители наделили его титулом князя (rgyal sras, ), при этом китайская транскрипция его титула «цзяосиле» (или «гусиле») впоследствии стала широко использоваться в китайских документах для именования тибетских лидеров, следующих по его стопам21. Более поздние тибетские генеалогические списки (rgyal rahs) идентифицируют этот дом как потомков правнука Осунга по имени Оде – одного из «трех Де восточного округа», отцом которого был Траши Цекпел22.
К 1014 году Цзяосиле смог собрать армию численностью от 40 000 до 60 000 человек для борьбы с тангутскими вторжениями. Несмотря на падение Уйгурского каганата под напором тангутов около 1028 г. и захват ими тибетских территорий в Лянчжоу в 1031 г., этот местный тибетский правитель смог отразить нападение тангутов в 1035 г., правда, с помощью присоединившихся к нему тибетских беженцев из Лянчжоу. Успехи князя Цонгкхи в отражении агрессии тангутов были признаны властями Сун в 1041 г., и ему был присвоен титул военного представителя империи в Хэси (hexi chiedu shi)23. Воинственность тангутов в конечном счете обернулась в пользу тибетцев: торговые маршруты из Центральной Азии стала проходить через территорию Цонкгхи, поскольку прежние караванные пути для торговцев были закрыты из-за военных авантюр тангутов. В регионе воцарил хрупкий мир, который с течением времени был нарушен чжурчжэньскими тунгусами, завоевавшими в начале двенадцатого столетия территории киданей, тангутов, а также весь северный Китай.
Находясь в гуще этой политической и военной деятельности, буддистские монахи нередко брали на себя руководящие роли. Помимо Лиличуня, который сотрудничал с вождем Мяоцюаня, чтобы сначала похитить, а затем возвести на престол Цзяосиле, другие буддистские монахи этого региона также порой играли важную политическую роль. И Сидуоду, и Цзяосиле часто упоминались в китайских анналах в связи с их вовлеченностью в дела монахов, а в 1008 году Сидуоду начал каждые три года посылать трех монахов в столицу Сун на церемонию получения пурпурных одежд от китайского двора. В ганьсуйском коридоре эти одеяния не только указывали на благосклонность императора, но и свидетельствовали об успехе монахов в оказании миротворческого влияния на непокорные группы полукочевых народов какой-либо территории. Как отмечал Ивасаки (Iwasaki), когда монах получал пурпурную одежду, это «представляло собой награду за услуги, которые он оказал в установлении контроля над буддистскими племенами»24. Иногда монахи выступали в качестве де-факто или де-юре глав этих племен. К примеру, один из восемнадцати вождей племен Шести долин, располагавшихся вокруг города Силянфу, в 1007 году носил звание «драгоценный» (rin po che), означающее что он вполне мог быть монахом. Кроме того, это, возможно, является самым ранним свидетельством использования этого религиозного титула25.
Хотя некоторые из этих монахов могли иметь китайское или уйгурское происхождение, по крайней мере уже в 1015 году некоторые получатели пурпурных мантий указаны как тибетцы. Помимо прочего, тибетские монахи также принимали участие и в военных кампаниях на китайских пограничных территориях. В 1054 г. за помощь в усмирении тибетских племен монах Чунь-чжуйгэ получил одновременно пурпурную рясу и звание командующего армией (dujunqu)26. Монастыри также получали государственную поддержку, и Силянфу был известен своей знаменитой пагодой (возможно, что это прославленная пагода Кумарадживы, находящаяся в современном городе Увэй) и несколькими монастырями, один из которых (Даюньсы) сохранился до наших времен. Эти, а также многие другие монастыри, по всей видимости, представляли собой базовые институциональные учреждения, в которых тибетцы и буддисты других национальностей сохраняли свою литературу, пропагандировали собственные ритуалы и взаимодействовали друг с другом на основе этнической принадлежности. Даже традиционная история повествует о том, что Геваселю понадобились услуги двух китайских монахов, чтобы получить посвящение в монастыре Дентик, и, похоже, что уровень смешения культур было близок к тому, что и поныне наблюдается на китайско-тибетском пограничье. Соответственно, когда тибетцы У-Цанга начали искать источники религиозности, их первоочередное внимание было привлечено вовсе не западному царству Гуге-Пуранг, хотя потомки Осунга также предпринимали усилия по возрождению буддизма. Вместо этого, услышав о процветающих монастырях, множестве храмов и влиятельных монахах Цонгкхи, они отправились туда за искрой своего религиозного возрождения.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В конце концов, в одиннадцатом столетии тибетцев охватила настоящая одержимость всеми формами знаний, что оказало значительное влияние как на старую школу, так и на новые традиции. Ведь переводчики делали свою работу не ради саморекламы и собственного возвеличивания, хотя это и было важным фактором для некоторых эзотерических наставников. Скорее, с установлением политического порядка и появлением возможности усмирять деструктивные элементы основным мотивом активности переводчиков стало их понимание того, какую огромную социальную значимость для всех тибетцев имеют эти новые знания. С конца десятого и по двенадцатое столетие тибетцы поглощали все познаваемое этого огромного мира так жадно и в таких масштабах, как будто их интеллектуальный голод предшествующей эпохи потребовал незамедлительного насыщения. Подобно колоссальному дракону, внезапно проснувшемуся от голода после долгой спячки, они хватали без разбора все формы знаний, импортируя разнообразных экспертов по всевозможным направлениям, которых только смогли найти на территориях Индии и Центральной Азии. Начиная с одиннадцатого столетия «четыре рога» Тибета казалось были наводнены наставниками, помогавшими переводить тексты по литературе, искусству, медицине, иппологии, государственному устройству, стихосложению, астрологии и множеству других дисциплин. Следует признать их очевидный успех в этом начинании, поскольку до 1959 года Тибет повсеместно считался центром эзотерических знаний, и тибетцы добились невероятного успеха, представляя себя во всех странах Азии в качестве единственных хранителей мистических таинств.
Эзотерические исследования находились на передовой этого процесса, и были главным (хотя порой и трудно перевариваемым) блюдом в меню изголодавшихся по знаниям тибетцев. Это объясняется тем, что недавно переведенные эзотерические писания несли в себе всеобъемлющую категорию мистического знания, обозначаемую когнитивным термином «джняна» (jnana), причем обладание им подразумевало не только особые духовные достижения, но и высокий культурный уровень. В составе Канона присутствует двадцать священных текстов, названия которых включает в себя слово «джняна», причем, что самое удивительное, большинство из них было переведено в течение нескольких десятилетий в середине одиннадцатого столетия. Если не принимать во внимание один краткий текст эзотерических заклинаний (To. 522 Jnanolkadharni), три версии текста, посвященного Амитаюсу (To. 674-76), и три сутры махаяны с «джняной» в названии, но переведенные в более ранний период (To. 100, 122, 131), то все остальные произведения были переведены наставниками, работавшими в начале-середине одиннадцатого столетия116(кроме «Манджушринамасамгити», относящейся к другому периоду117). Все это говорит об определенной избирательности данного процесса.
Здесь также уместно напомнить о высказывании Ронгзома Чозанга середины одиннадцатого столетия (обсуждается в Главе 6), согласно которому индийцы сочиняли свои тексты, ориентируясь на текущую популярность тематики. А подтверждением его слов, возможно, является тот факт, что шесть коротких тантр, имеющих в своем названии слово «джняна», были переведены Дрокми, который, безусловно, мог сделать это ради своей выгоды. Все это могло бы свидетельствовать (подтверждая фактами) о непреодолимом интересе тибетцев к теме знания. Однако, в данном вопросе пока еще нет полной ясности, поскольку мы располагаем свидетельством того, что в период сармы другие короткие тантры с подобными заголовками так и остались непереведенными. Недавняя публикация священного текста «Возникновение мистического знания» (Jnanodaya-tantra) говорит нам о том, что перечень таких работ отнюдь не исчерпан. Конечно, в данном случае мы должны предполагать, что данная работа была создана в Индии или Непале, поскольку по мнению редакторов издания она не переводилась на тибетский язык118. Таким образом, вполне вероятно, что различные работы, посвященные мистическому знанию и вызвавшие особый интерес переводчиков того времени, по факту были отобраны ими из более крупного архива текстов этой же тематики, и не использовались с подобным рвением ни в более ранний, ни в последующие периоды.
Названия работ, конечно, не всегда отражают их сущность, и иногда связь между наименованием эзотерических текстов и их реальным содержанием в лучшем случае минимальна. Тем не менее, мы должны понимать, что такие заголовки представляют собой лишь верхушку айсберга, поскольку упоминания мистического знания, осознанности и других разновидностей знания часто встречаются и в других эзотерических работах. На самом деле, порой целые разделы тантр посвящены теме мистического знания (jnana) или иногда «врожденного» мистического знания (sahajajnana), что является очевидным фактом, в особенности, для читателей йогини-тантр119. В Индии взаимоотношения между этим новым классом литературы и интуитивными представлениями о мистическом постижении/знании привлекали к себе особое внимание, поэтому Ратнакарашанти, Адваяваджра и другие деятели отдельно выделяли эту тему в своих комментариях и трактатах, посвященных данному жанру. В конце концов, это направление привело к созданию отдельной главы в последнем великом священном писании эзотерического буддизма Индии: «Калачакра-тантре», которая, однако, не имела большого влияния на тибетских тантрических интеллектуалов вплоть до начала двенадцатого столетия.
Ограниченный объем моей работы не позволяет вдаваться в подробные обсуждения, поэтому лишь вкратце отметим, что буддийский термин «мистическое знание» (jnana) имеет атрибуты, которые отличают его от другого великого буддийского когнитивного термина «мудрость прозрения» (prajna). Мудрость прозрения, наиболее явно воплощенная в писаниях «совершенства мудрости» (prajnaparamita), не могла удовлетворить потребности в знании, поскольку основной направленностью этих священных работ являлась деконструкция позитивных ассоциаций с абсолютом, направленная на то, чтобы все элементы реальности понимались как пустые по своей природе. Это направление, возможно, было очень востребованным во времена стабильной гегемонии Гуптов и Вакатаков в Южной Азии, когда знания о большом мире, казалось, хлынули рекой сквозь очень проницаемые границы Индии. Но к одиннадцатому столетию в Тибете эти тексты уже напрямую ассоциировались с посмертными практиками: чтение писаний «совершенства мудрости» или изготовление копий соответствующих текстов были одними из самых популярных буддистских посмертных ритуалов. Более того, казалось, что содержание писаний «совершенства мудрости» ничего не рассказывает о захватывающем мире в целом, а просто указывает тибетцами на без того известный им факт: их непонимание истиной природы реальности.
И наоборот, эзотерические тантры открыли ранее неизвестное измерение мира: языки, медицину, природу внутреннего тела, космологию, новые и таинственные письмена, загадочные слова, астрологические расчеты, ритуалы для обретения долголетия, политического господства и сексуальной потенции и т.д., и т.п. Причем на вид все это выглядело как полезный и практичный материал, изложенный захватывающим языком и продвигаемый самой развитой из всех доступных тибетцам цивилизацией: Индией. Более того, даже его заголовки несли в себе обещание обретения как предметного знания, так и окончательного спасение (jnana), поскольку данный термин в индийском буддизме ассоциировался с обоими этими понятиями. Теперь считалось, что бодхисатва накапливает знание (jnanasambhara) на ранних стадиях своего пути, а постижение им пяти форм джняны (pancajnana) преподносилось как ключ к освобождению, т.к. посредством этого он мог обрести знание обо всем и во всех измерениях (sarvakarajnata). В действительности джняна настолько тесно ассоциировалась с формами предметного знания, что в середине одиннадцатого столетия даже разгорелась дискуссия о том, существует ли джняна на уровне Будды и какие ее разновидности доступны в этом состоянии, или она ему все-таки попросту не нужна. Среди актуальных гносеологических вопросов, которые обсуждали писатели из Ронгзома, был и такой: может ли джняна/знание быть одновременно и средством, и целью религиозной жизни120. Во всех этих дискуссиях мало кто задается вопросом, почему тибетцы были так очарованы знанием как таковым. Причиной этого, по-видимому, является очевидность ответа: а что может вызвать большее восхищение у культуры, ощущающей, что она восстает из мрака разрухи, чем встреча с таким великим даром как знание?
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Мифология терма повествует о «текстах-сокровищах», спрятанных до лучших времен в местах (или вблизи от них), так или иначе связанных с имперской династией, причем как просто в земле, так и в колоннах или скульптурах. Но для тибетцев периода возрождения (как, впрочем, и для нынешних) этот способ сохранения культовых реликвий означал нечто большее, чем простое сокрытие предметов в инертной земле или каком-либо другом месте (как это могли бы воспринимать выходцы из евро-американской культуры). В Тибете такие места являются обителью духов и других сверхъестественных существ, которые живут руководствуясь своими правилам и прихотями, и при этом объединены в собственные иерархические сообщества14. Даже для того, чтобы с какими-то целями потревожить землю: закопать или выкопать предмет, сделать траншею под фундамент или просто вспахать поле, нужно было умилостивить или привести к покорности обитателей этого мира, иначе последствия могли быть самыми трагическими. Ведь внутри колонн и под земной поверхностью скрываются различные духи этих мест: лу (klu), живущие под землей и контролирующие родники; садаки (sa bdag) – властители открытых пространств и сельхозугодий; и ньены (gnyan), которые обитают в деревьях, колоннах и камнях15. Все они принадлежат большому и переменчивому сообществу духов, населяющих отдельные части того, что мы обычно относим к неживой природе: погода, облака, молнии, ветер и т.п., т.е. практически любой аспект физической реальности. Кроме того у каждого из их сообществ имеется своя иерархия, поэтому залогом дружбы императора Тибета с повелителем всех лу служило размещение в имперской обители изображения восьми вождей лу16.
В одиннадцатом столетии существовало множество видов сверхъестественных хранителей сокровищ. Однако, в более поздних работах в этой роли чаще всего выступают женские божества дакини, хотя в ранних текстах они упоминаются гораздо реже. Здесь следует напомнить о постоянно нарастающем в этот период доминировании индийских эзотерических моделей, что и явилось основной причиной возвышение дакини до статуса главных защитниц терма. Помимо этого, мы также отмечаем индианизацию и других мифологических существ. В частности, лу стали отождествляться с индийскими змееподобными духами нага, поскольку и те, и другие имели облик змей и контролировали воды17. Однако, при этом они обладали и некоторыми отличиями18. Например, лу были ответственны за распространение болезней, а наги могли лишь только извергать из себя яд, так как болезни в Индии находятся по большей части в ведении деревенских богинь19. Наги также могут принимать облик слонов и нести в себе функции фертильности. Об этом говорит тот факт, что почти в каждом индийском деревенском храме присутствует изображение змей, сплетенных в брачном танце и символизирующих таким образом сексуальность и плодовитость. Что касается лу, то согласно некоторым источникам в ранний период терма под их властью находился весь Тибет, и поэтому человеческий мир в те времена ощущал сильное влиянием подземного царства20. Возможно, что наиболее значимым во всех этих мифах является то, что и наги, и лу являлись хранителями сокровищ. Причем индийские змееподобные духи открыто демонстрировали эту особенность, помещая себе на головы драгоценные камни, чтобы их светом рассеивать мраки подземелий.
 |
|
Илл. 11. Небольшой водный храм лу в Самье. Прорисовка по фотографии Ричардсона
|
С почитанием лу по большей части ассоциировались храмы, сооруженные во времена и незадолго после падения династии. Во многих имперских храмах, таких как, например, Джокханг и Самье, располагались очень значимые для верующих часовни (klu khang), посвященные этим существам, причем повелитель лу считался одним из самых важных защитников этих мест (Илл. 11)21. В Самье часть сокровищницы, которая, как мы помним, была в хаотичном состоянии во время посещения Луме места ее хранения – промежуточного коридора-обхода (‘khor sa bar ma), согласно одному из источников была вверена лу или названа в их честь, т.е. все ее богатство находилась под надзором таких духов22. В храме Рамоче, расположенном к северу от Джокханга, был особый «дворец», посвященный сразу двум типам духов: лу и садакам, где, как сообщается, также была установлена статуя Джово23. В повествованиях о строительстве Джокханга рассказывается о том, что в царстве лу добывалась особая ваджрная грязь, которая была непоколебима, как алмаз, и поэтому использовалась для покрытия древесины в качестве антипирена и средства защита от гниения24. Любое строительство таило в себе опасность побеспокоить такие существа, поэтому в среде строителей и плотников существовал отдельный класс специальных смотрителей (phywa mkhan), которые отвечали за то, чтобы закладываемый фундамент соответствовал всем ритуальным и эзотерическим нормам25. Поэтому неудивительно, что даже в современный период в традиционном тибетском правительстве предусмотрены особые должности для специально отобранных строителей, на которых возлагается часть ответственности за взаимоотношения с подземным миром духов26.
Различные духи-хранители терма, среди которых встречаются как якши и ракшасы, так и местные божества, такие как, например, Ньенчен Танглха («великий большой Ньен, бог плато»), иногда идентифицируются как «божества места» (yul lha), а иногда отождествляются с другими типами духов. Однако, большинство из них все же являются аборигенными богами Тибетского плато и несут в себе идею неразрывной общности стратифицированного социума Тибета с такими же стратифицированными сообществами богов. Считалось, что предками локальных общин тибетцев являются местные горные боги, такие как, например, Ярлха Шампо, поэтому, когда терма стали классифицироваться как «сокровища предков», под властью этих богов оказались все погребенные тексты, статуи, реликвии и т.п. Соответственно, охрана и защита всего этого имущества была возложена на их свиту и младших по иерархии духов27. На самом деле, данная область деятельности являлась всего лишь частью системы взаимодействия и взаимообмена между властными структурами человеческого мира и подобными им структурами потаенного царства духов.
Описание попыток сокрытия священных предметов, присутствующее в различных версиях «Заветов клана Ба/Ва», вероятно, является самым ранним упоминанием этого явления. Одна из редакций данного текста сообщает, что у давнего тибетского правителя по имени Лха Тотори Ньенцен было сокровище под названием «Тайная свирепость» (gNyan po gsang ba). Время от времени он открывал сосуд, в котором оно находилось, и делал ему подношения, и всем своим потомкам предписал поступать точно так же. При этом в более поздних источниках утверждается, что это была индийская сутра, написанная золотыми буквами28. Считается, что первый тибетский император Сонгцен Гампо, переводил буддийские тексты, а затем помещал их под печать в сокровищницу (phyag mdzod) крепости Чинг-нга, чтобы они были открыты через пять поколений29. Во времена своей юности, еще до принятия им буддизма, Трисонг Децен стремился подавить этот чуждый индийский культ и, пытаясь избавить Тибет от священных образов новой религии, даже собирался вернуть в Китай статую Джово Шакьямуни30. Когда у него это не получилось, статую закопали, но к утру следующего дня она начала восставать из-под земли. Как и в отрывке из работы Ньянг-рела, приведенном в начале этой главы, земля не смогла устоять перед «сокровищем», и поэтому оно было временно перемещено к непальской границе. Став буддистом, Трисонг Децен не успокоился и теперь решил подавить бон. Он приказал своим доверенным лицам выбросить большую часть бонских текстов в реку, а оставшиеся писания были помещены в Черную ступу в Самье31. Возможно, что самая интригующая в этом отношении история связана с последствиями полемики между китайскими и индийскими буддистами. Китайские тексты, признанные неподходящими для своего времени, были погребены в каком-то глиняном сосуде (rdzas), чтобы те, у кого в будущем созреет должная карма, могли воспользоваться ими в своих интересах32. Это не только наглядный пример использования на практики основополагающих принципов доктрины «текстов-сокровищ», но также перекликается как с ранней тибетской практикой погребения в глиняных сосудах, так и с буддистской традицией Центральной Азии хранения текстовых реликвий в глиняных кувшинах, известной нам по манускриптам, выполненным письмом кхароштхи, которые не так давно были обнаружены в Афганистане33.
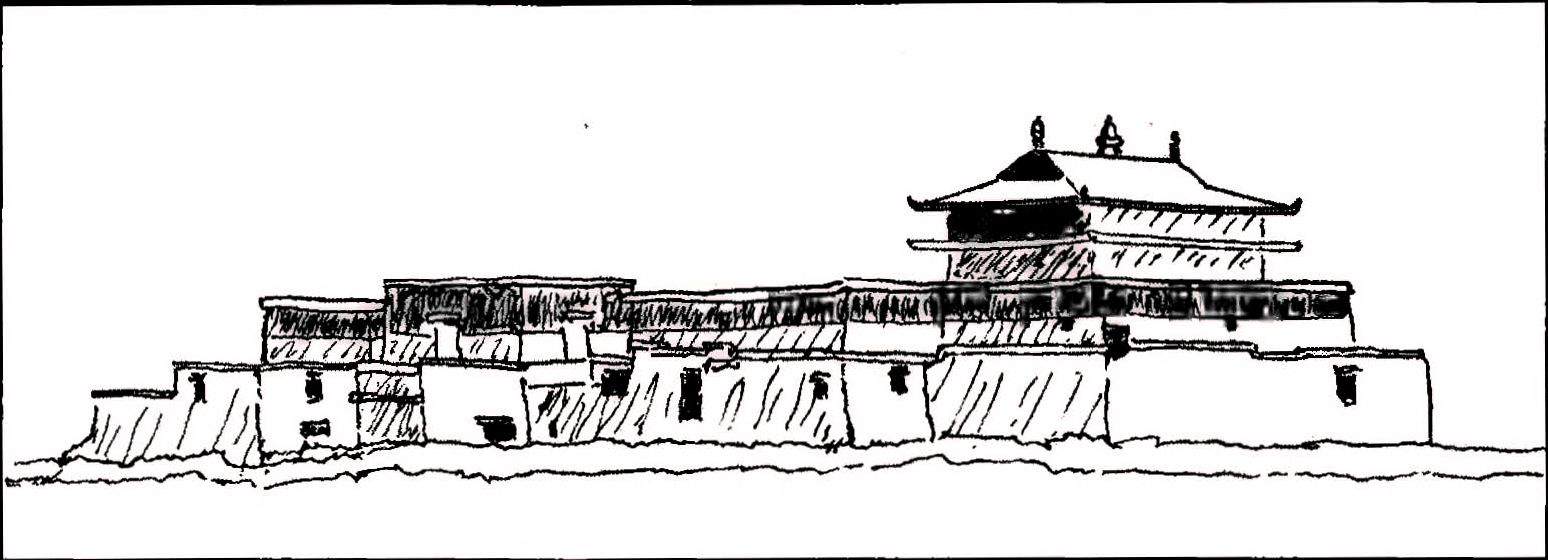 |
|
Илл. 12 Имперский храм Трандрук. Прорисовка по фотографии Ричардсона
|
Согласно большинству этих повествований, относящихся к периоду раннего возрождения, тибетцы считали статуи, драгоценности и тексты более ранних времен священными реликвиями своих предков (yab mes kyi thugs dam)34. Это мировоззрение подкреплялось утверждениями некоторых ранних «текстов-сокровищ» (таких как, например, «Великая хроника Мани Камбума», см. ниже), что данные реликвии в каком-то смысле являются продолжением души или личности правителя (rgyal po’i bla).
«Поскольку правитель [Сонгцен Гампо] был наделен даром предвидения (abhijna), он вверил этот Завет [т.е. Мани Камбум] переводчикам, сказав им при этом:
“Сделайте две копии этого моего учения. Напишите одну из них золотыми и серебряными буквами на голубом “речном шелке” и поместите ее как монаршую особу в сокровищницу в Трандруке [Илл. 12]. Напишите вторую на свитке китайской бумаги и спрячьте его под ногой Хаягривы в храме Махакаруники [в Самье]”» 35.
Понятие души или личности (bla) являлось составной частью аборигенного тибетского мировоззрения. В этой связи тибетская теологическая антропология утверждала, что человеческие существа являются вместилищем ряда элементов, включая различных (иногда до пяти) богов, а также витальную силу (srog) и личностную идентичность36. Мы мало что знаем о том, как выглядели это идеи в ранний период, т.к. они во многом противоречат буддийской доктрине, и поэтому информация о них практически не сохранилась. В лучшем случае они кажутся несколько расплывчатыми, хотя, похоже, что в основном они опирались на религиозные представления о самосущности человека. На самом деле большинство тибетских письменных источников относятся к гораздо более позднему периоду, когда буддистские институты уже одержали окончательную победу над местными воззрениями, и поэтому эти исконно тибетские идеи находят свое отражение главным образом в эпической и медицинской литературе. Однако, в данном вопросе буддистская литература «сокровищ» выглядит как некая аномалия, поскольку является одним из самых ранних среди сохранившихся источников, где отчетливо прослеживаются такие идеи, которые, вне всякого сомнения, гораздо старше самого феномена терма.
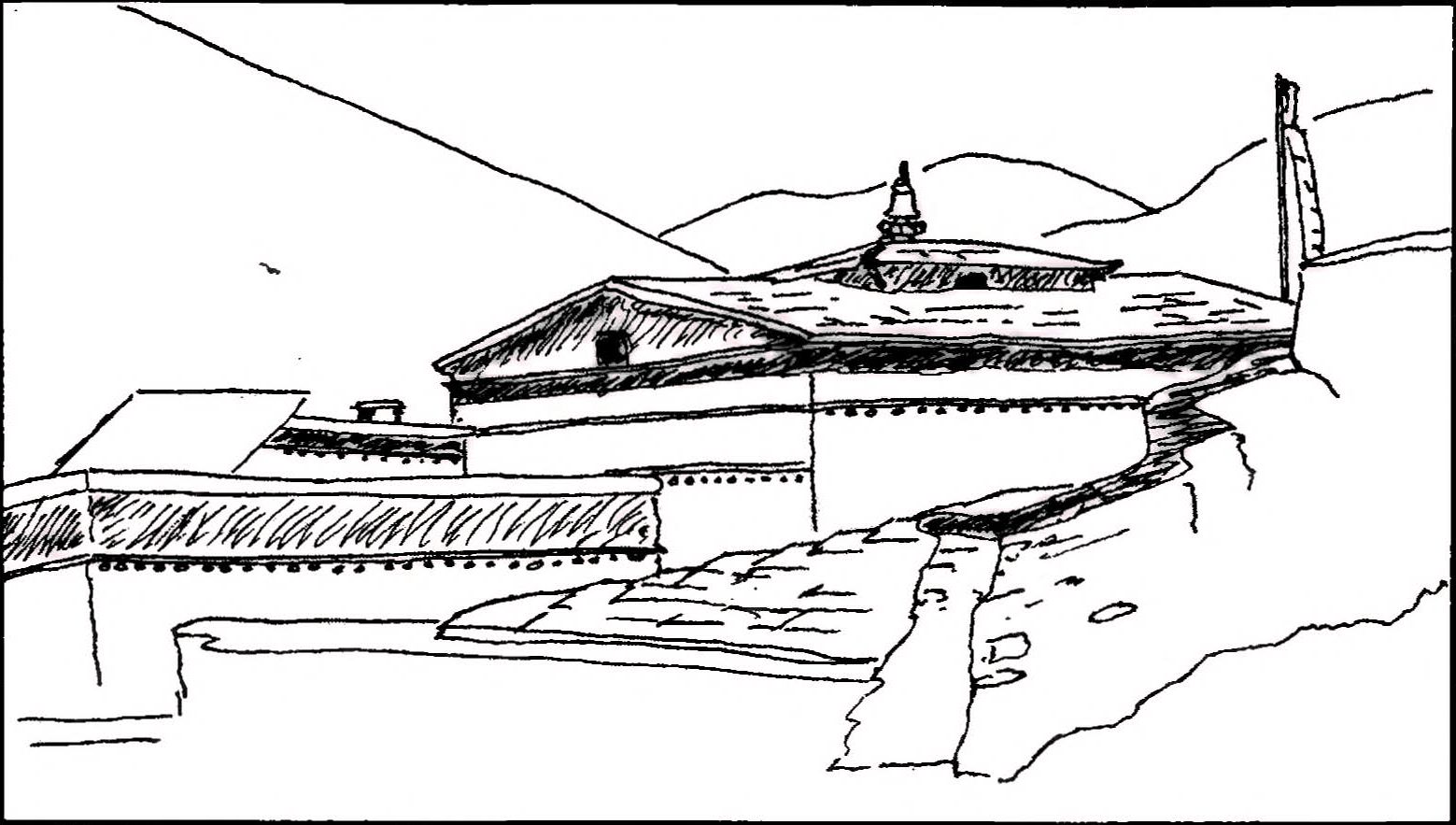 |
|
Илл. 13. Храм Кхон-тинг. Прорисовка по фотографии Ричардсона
|
Термин «ла» (bla) обычно понимается как «душа/личность», хотя как существительное он может употребляться и в других смыслах. Как прилагательное он означает «возвышенный» или «предназначенный», однако, в более старых текстах такая трактовка порой выглядит очень неоднозначно. Я полагаю, что данное слово часто использовалось в смысле «монаршая (или иная) возвышенная личность», и в чем-то подобно индийскому термину «персона» (purusa), которым обозначается как самосущая личность, так и божественность и могущество, пронизывающие весь мир (prakriti). Т.е. многое из того, что касается индийского термина можно отнести (правда с некоторыми оговорками) и к тибетскому слову «ла», поскольку оно может обозначать такие сущностные и возвышенные элементы, без которых человек попросту перестает существовать. Когда Сонгцен Гампо объединил Тибет, он разместил свой личный дворец (bla’i pho brang) в Чинг-нга Так-це (phying nga stag rtse), а его супруга и наследники поселились в другом месте37. Когда Трисонг Децен организовывал в своей империи монашеское сообщество, он назначил влиятельного монаха Ба Селнанга «первым лицом Дхармы» (chos kyi bla) с воинским титулом «командира правой стражи»38. Несколько позже, когда должно было начаться сооружение Самье, Ба Селнанг попросил освободить его от строительства этого «храма имперской персоны» (bla’i gtsug lag khang), а вместо этого разрешить заняться строительством храма в его родных краях в Балам-лаке, расположенном к востоку от Лхасы39. В другом источнике упоминается, что некие целители были назначены личными медиками Сонгцена Гампо (rgyal po’i bla sman), и, соответственно, они должны были врачевать только «возвышенную монаршую персону» (rgyal po’i bla spyad)40. Все это вполне гармонирует с категорией терма, поскольку «личное сокровище правителя» (rgyal po’i bla gter) часто возглавляет список, включающий в себя такие элементы, как «терма заклинаний» (mthu gter), «терма ума» (thugs gter ), и «медицинская терма» (sman gter)41. Кроме того, в источниках сообщается, что личный текст монаршего предка (yab mes kyi bla dpe) был замурован в храме Кхон-тинг, расположенном в Лхо-драке (Илл. 13)42.
Все это должно указывать на то, что терма были тесно связаны с правителем, и что тексты и другие «сокровища» из состава «личного сокровища правителя» в определенном смысле были как бы продолжением его души или какой-то иной самости. Кроме того, тибетцы признавали, что духовная составляющая индивидуальной или даже общественной «персоны» может пребывать в каком-либо определенном объекте. Хотя «тексты-сокровища» могли быть написаны великими святыми праведниками или небесными бодхисатвами и переведены божественными переводчиками, их захоронения производились по императорскому указу во благо последующих поколений тибетцев, и поэтому они являли собой непрерывное воплощение духовности императоров, материализованной в виде священных текстов. Помимо этого, мы часто встречаем в источниках рассказы о людях, чья душа воплотилась в бирюзе, горе, дереве или другом природном объекте. Это явление прославляется даже в некоторых традиционных свадебных песнях. В одной из них группа поддержки невесты строго допрашивает свиту жениха с целью идентификации их места проживания и родовых гор. На что один из подносчиков пива из группы жениха отвечает:
«Задняя гора, подобная высокомерному слону – это вершина души великого отца!
Передняя гора, подобная вознесшейся вверх мандале – это вершина души великой матери!
Правая гора, подобная свернутому белому шарфу – это вершина души похотливого сына!
Левая гора, подобная свернутому пурпурному шарфу – это вершина души невинной дочери!
Это место, подобное восьмилепестковому лотосу, является всеобщей землей восторга и счастья!»43
Используемое в приведенном выше тексте словосочетание «вершина души» является переводом тибетского термина «bla ri», которым обозначается гора, являющаяся обителью или вместилищем души человека или его жизненного начала. К примеру, между Дакпо и Олкхой находится озеро Лхамо ламцо, которое в современный период считалось одновременно и «озером души» (bla mtsho) богини Макзормы, и обителью «души могущества» (bla gnas) далай-лам44. Кроме этого, поскольку родовыми эмблемами местных кланов были тотемные животные: овцы, яки, лошади, олени, крупный рогатый скот, волы, козы и т.п., то и они становились духовным олицетворением клана (bla rtags)45. Отдельные сообщества также могли иметь совокупные «души», и некоторые документы сообщают, что подавление буддизма Дармой привело к тому, что обрушилась и распалась на мелкие части гора, являвшаяся душой всего Тибета.
Являясь «сокровищем души» (bla gter) императора, погребенные тексты были особенно ценны тем, что представляли собой его наследие в виде последнего обращения или завещания (bka’ ‘chems), предназначенного для будущих поколений. Эта идея была настолько значима, что когда в конце двенадцатого столетия bla gter было включено в расширенный список различного рода сокровищ, ему там было отведено почетное первое место. Кроме того, в тексте повествования были произведены две важные замены: первоначальное место его захоронения было изменено с Джокханга на Самье, а правитель – с Сонгцена Гампо на Трисонга Децена, при этом большая часть повествования осталась в неизменном виде47. Гуру Чо-Ванг провозгласил, что «личное сокровище правителя» проявляет свой сущностный смысл 1100 способами, поскольку оно включает в себя как Дхарму, так и сокровища-драгоценности48. Более того, тибетский автор четырнадцатого столетия Ургьен Лингпа при обсуждении этого списка включает в состав «личного сокровища правителя» практически все буддийские канонические тексты, в том числе и тантры ньингмы, что намного превышает объем текстов любого другого из семнадцати видов терма49.
В тибетских текстах душа/сущность (bla) и индивидуальные, семейные или общинные боги (lha) являются взаимодополняющими или даже перекрывающими друг друга категориями. В связи с этим в написании некоторых терминах чередуется bla/lha, как в случае с богами агрессивности (dgra lha/bla) или с дворцом Юмбу, определяемым либо как «личная/главная крепость» (bla mkhar), либо как «наполненный божественностью» (lha sgang) (что по смыслу почти одно и то же)50. В эпической литературе сообщается, что первый из погребенных в гробницах правителей Дригум Ценпо сам стал причиной собственной гибели из-за утраты своих богов51. Готовясь к битве против своего врага Ло-нгама Тадзи Дригум Ценпо закрепил на себе несколько предметов, в том числе черный шелковый тюрбан на голове, труп лисы (шкуру?) на правом плече и труп собаки на левом. Это привело к исчезновению окружавших его бога охоты (mgur lha), бога агрессивности (dgra lha) и бога мужественности (pho lha). Вследствие этого, взмахнув своим мечом, Дригум перерубил магическую веревку и лестницу (rmu thag rmu skas), ведущие в небесные миры. Теперь, утратив связь с небом, он мог быть похоронен только в земной гробнице52, которая и была сооружена вблизи горы Гьянг-то, положив начало самому раннему кладбищу тибетских правителей. Земная усыпальница этого тибетского монарха имела форму кургана (или, иначе, «шатра») и считалась обителью его души (gyang to bla ‘bubs)53. Со временем погребение правителей и императоров Тибета на таких кладбищах стало восприниматься как помещение их останков в места совместного обитания их духов. Кроме того, считалось, что эти останки обладают множеством чудотворных качеств, подобных помещаемым в ступы реликвиям будд, поэтому правители, даже находясь в гробницах, защищают Тибет54.
Некоторые из придворных отправлялись в последний путь вместе с погребенным правителем. Однако, к тому времени, когда составлялись доступные нам сейчас исторические и мифологические записи, предыдущая система человеческих жертвоприношений уже была упразднена и заменена посвящением живых людей, которые прикреплялись к гробнице в качестве ее вечных хранителей (dur srung)55. «Мертвые» (gshin po), как их тогда называли, выбирались из числа министров (nang slon) правителя или императора, и после назначения на службу умершему монарху им больше не разрешалось выходить за пределы пограничных камней, окружавших его могилу. Взамен они могли без ограничений пользоваться едой и сокровищами, помещаемыми в качестве подношений в гробницу, которые были особенно обильны во время ежегодного обряда жертвоприношения. За день до начала этого обряда к могиле приходили представители монаршей семьи и сообщали «мертвым» расписание ритуальной церемонии. После этого «мертвые» министры покидали гробницу – единственный раз, когда им это дозволялось. На следующий день члены семьи монарха приближались к гробнице и провозглашали: «Все мертвые ушли в другую страну!» Не получив никакого ответа, они делали подношения статуям и останкам умершего правителя. Затем «мертвые» стражи гробницы возвращались и забирали себе погребальные предметы, оставленные родственниками монарху.
Если все вышеизложенное сопоставить с описаниями ранних терма, то обнаружатся очевидные сходства как в доктринальной, так и в мифологической части. И это не удивительно, поскольку мировоззрение и мифология тибетцев, связанные с почитанием мест жизнедеятельности и погребения ранних монархов, являются основными источниками повествований о ранних терма. Кроме того, все эти монаршие дворцы, храмы и гробницы являлись хранилищами, а впоследствии стали источниками, разнообразных «сокровищ», будь то драгоценные камни, металлы или письменные тексты. В их сокровищницах обитали внушающие ужас хранители этих богатств: в храмах – духи земли и божества гор, а в гробницах – «мертвецы» в человеческом облике. Каждое из них было местом силы и могущества, опасности и тайн, а сами строения одной своей частью вторгались в смертоносный подземный мир, а другой продолжали оставаться в мире живых людей. Ранние описания терма подразумевали открытие только спрятанных или погребенных материальных «сокровищ», при этом в ранних документах вообще не упоминается такая категория, как «терма ума» (dgongs gter), которая впервые появляется только в тринадцатом столетии56. Конечно, в ранние времена существовало некое подобие «сокровища ума», однако оно ассоциировалось с физическим местом сокрытия и понималось как материальные предметы, несущие в себе духовное наследие царя или какого-либо великого святого праведника57.
Карта 1. Четыре рога Тибета с основными регионами на территории У-Цанг.
Карта 2. Места тантрической активности индийских буддистов в десятом и одиннадцатом столетиях.
Илл. 1. Наропа. Прорисовка настенной росписи начала XIII в. Храм Сум-цек монастыря Алчи.
Илл. 2. Рисунок с изображением линии передачи *марга-пхала. По часовой стрелке от верхнего левого угла: Ваджрадхара, Найратмья, Канха, Вирупа. Тибет, вторая половина пятнадцатого века. Краски и роспись золотом на ткани, 57,5 х 50,2 см. © The Cleveland Museum of Art, 2004 г. Куплено у J. H. Wade Fund, 1960 г.
Карта 3. Регион Хэси и Цонгкха.
Таблица 3. Упрощенная линия преемственности Юмтена в одиннадцатом веке.
Илл. 3. Храм У-це в Самье. Прорисовка с современной фотографии.
Карта 4. Уру и Северный Йору.
Илл. 4. Йерпа. Прорисовка по фотографии Ричардсона.
Илл. 5. Качу. Прорисовка по фотографии Ричардсона.
Илл. 6. Атиша и Дромтон. Прорисовка фрагмента кадампинского рисунка двенадцатого столетия.
Карта 5. Торговые маршруты Непала и Индии, использовавшиеся многими переводчиками.
Илл. 7. Пхарпинг. Фотография автора.
Илл. 8. Секхар Гуток. Прорисовка по фотографии Ричардсона.
Илл. 9. Дрокми-лоцава Шакья Еше. Прорисовка фрагмента изображения шестнадцатого века.
Карта 6. Западный Цанг и Восточный Лато.
Илл. 10. Махасиддха Вирупа. Китай, династия Мин, период Юн-ло, 1403–1424 гг. Позолоченная бронза, высота 43,6 см.© Художественный музей Кливленда, 2004 г. Дар Мэри Б. Ли, К. Бингэм Блоссом, Дадли С. Блоссом III, Лорел Б. Ковачик и Элизабет Б. Блоссом в память об Элизабет Б. Блоссом; 1972,96.
Илл. 11. Небольшой водный храм лу в Самье. Прорисовка по фотографии Ричардсона.
Илл. 12 Имперский храм Трандрук. Прорисовка по фотографии Ричардсона.
Илл. 13. Храм Кхон-тинг. Прорисовка по фотографии Ричардсона.
Илл. 14. Же-лхаканг. Прорисовка по фотографии Ричардсона.
Илл. 15. Падампа и Джангсем Кунга. Прорисовка по иллюстрации рукописи тринадцатого столетия.
Илл. 16. Вход в Джоканг в Лхасе. Фотография автора (в переводе опущена, т.к. очень неразборчива).
Илл. 17 Могила Нгока Лодена Шерапа. Прорисовка по фотографии Ричардсона.
Карта 7. Йору, включая Дакпо и долину Ньел.
Илл. 18. Линия кагьюпы, включающая Марпу, Милу Репу и Гампопу. Фрагмент рисунка начала тринадцатого столетия.
Илл. 19. Линия ламдре после Дрокми. По часовой стрелке, начиная сверху слева: Секхар Чунгва, Жанг Гонпава, Сонам Цемо и Сачен Кунга Ньингпо. Монахи Сакьяпы, около 1500 г. Центральный Тибет, сакьяпинский монастырь. Музей искусств округа Лос-Анджелес, дар Фонда Ахмансона. Фото © 2004 Museum Associates/LACMA.
Илл. 20. Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен. Два патриарха сакьяпы. Тибет, начало-середина пятнадцатого столетия. Музей изящных искусств, Бостон. Дар Джона Гоэлета, 67–831. Фотография © 2004 Музей изящных искусств, Бостон.
Илл. 21. Внешний реликварий Сачена. Прорисовка по фотографии Сайруса Стимса.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Ронгзом и Марпа занимали стратегическое положение в тибетской религиозной жизни, являясь при этом мирскими учеными-тантристами. Этот статус упрощал многие аспекты институциональной жизни, поскольку у них не возникало проблем в вопросах наследования и преемственности. Однако, он нес в себе и определенной подтекст, подразумевающий, что этих лам в отличие от настоящих монахов, таких, как тот же Го-лоцава, нельзя считать полноценными буддистами. Рало по-своему разрешил эту дилемму: он продолжал получать удовольствие от сексуальных контактов когда и как ему заблагорассудится, но при этом делал вид, что по-прежнему соблюдает монашеские обеты. Дрокми же соблюдал свои обеты до самых поздних лет, и только в конце жизни женился на представительнице аристократической семьи. В любом случае всем этим наставниками приходилось принимать решения, учитывая множество разнообразных факторов: клановый и семейный статус, положение в аристократической иерархии, вопросы владения землей и т.п.
Количество и состав преемников Дрокми является наглядной иллюстрацией особой значимости большинства из этих аспектов, поскольку вопрос преемственности в некотором смысле воспринимался как составная часть религиозного наследия. Возможно, подобно Марпе (чьи потомки также не отличались особой религиозностью) Дрокми использовал по отношению к своим ученикам классическую технику «разделяй и властвуй». Распределяя свое наследие, он следовал следующему правилу: если он обучает ученика одному из двух направлений: методу наставлений (*upadesanaya) или экзегетическому методу (*vyakhyanaya), то он никогда не будет обучать его другому. Дрокми также очень строго подходил к вопросам преподавания: он заявил, что никогда не будет преподавать ламдре одновременно «четырем ушам» (т.е. двум людям) и никогда не будет объяснять тантры «шести ушам» (т.е. трем людям). По этой причине тибетские источники, как правило, идентифицируют учеников Дрокми по следующей схеме: пять, которые завершили изучение текстовых материалов, относящихся к экзегетическому методу; трое, которые освоили систему ламдре в части метода наставлений; и семь, которые обрели определенную степень «достижений» (siddhi). Однако, эти списки во многом зависят от конкретной линии передачи и вызывают множество разногласий54.
Сохранились агиографические заметки о двух изучавших тексты учениках Дрокми: Нгарипе Селве Ньингпо и Кхоне Кончоке Гьелпо, основателе сакьи55. Нгарипа написал комментарий к «Хеваджра-тантре», который, по-видимому, является самым ранним из сохранившихся местных комментариев к этому священному писанию56. Отец Нгарипы был священнослужителем либо из Мангьюла, либо из Пуранга – древнего центра государства Гуге. Как и многих других деятелей того периода, Нгарипу научил читать его отец, который, вероятно, специализировался на ньингмапинских ритуалах, возможно, что на Ваджракиле57. В соответствии с традицией обучения ньингмы он изучил три текста восточной мадхьямаки и со временем стал всеми уважаемым учителем58. Вероятно, Нгарипа обратился к Дрокми с просьбой о посвящении в те времена, когда переводчик уже достиг преклонных лет, а в последующем он специализировался на традиции наставлений по практике Падмаваджры/Сарорухаваджры. Считается, что Нгарипа какое-то время преподавал в Конгпо, где приобрел высокую репутацию и накопил богатство, которое и преподнес Дрокми.
Однако, подобно кагьюпе, в традиции ламдре самыми знаменитыми являются те последователи Дрокми, что обучились наставлениям по практике ламдре: Лхацун Кали (зять Дрокми), Дром Депа Тончунг и Сетон Кунрик. И если Лхацун Кали в большей степени ассоциируется с родственными и политическими связями великого переводчика, то Дром Депа Тончунг был известен как важная религиозная фигура. Он принадлежал к наследственной линии дром – клану, обладавшему определенной политической силой и властью, которые он сохранил еще со времен имперской династии59. Дром, являвшийся относительно небольшим кланом, явно процветал и в период раздробленности. В одиннадцатом столетии особо выделялись два человека из этого клана: последователь ламдре Дром Депа Тончунг и Дромтон Гьелве Джунгне, близкий ученик Атишы и основатель монастыря Ретренг60. Оба они были достаточно богаты и имели большой опыт в буддийской практике еще до встречи со своими главными учителями61.
Дром Депа Тончунг был искусным исполнителем ритуалов в ньингмапинской традиции, называемой «Капля жизни матери» (Ma-mo srog tig). Согласно преданию, он, подобно другим деятелям школы ньингма одиннадцатого столетия, открыл в Самье терма из нового цикла Ма-мо под названием «Магический наконечник стрелы богини размером в четыре пальца» (Lha mo’i mde’u thun sor bzhi), а затем отправился в Мугулунг и по пути накопил большое богатство, выполняя за плату ритуалы этого цикла62. Прибыв в резиденцию Дрокми, Дром Депа Тончунг попросил посвятить его в ламдре и при этом был довольно щедр в своих подношениях великому переводчику. Во время ритуала посвящения в каждый отрезок дня он подносил Дрокми золотую мандалу, а также просил разрешения услужить ему путем дарения превосходного шелкового нижнего одеяния (которое в Цанге тогда было достаточно редкой вещью и стоило больше, чем овца), но такое подношение не было принято63. У него были такие огромные лепешки для подношений, что для переноски каждой из них требовалось два человека, и кроме того он отдал великому переводчику из Мугулунга бирюзу под названием «куча творога» (zho spungs).
Пройдя всестороннее обучение, Дром Депа Тончунг на некоторое время задержался в этой местности и однажды попросил Дрокми одолжить ему лошадь. Переводчик резко отказал ему в этой безобидной просьбе, сказав: «Учителя не делают подношений ученикам!» Понятно, что такой ответ Дрокми привел Дрому в смятение, и он отправился в Лато Дингри-ше. По дороге он серьезно заболел и на пороге смерти очень сожалел о своей размолвке с Дрокми, приписывая ее затмевающему разум недостатку веры, который не позволил ему разглядеть в Дрокми самого Будду. Поэтому Дром Депа попросил, чтобы все его книги и вещи, которыми были заполнены вьюки на семнадцати лошадях, были преподнесены великому переводчику. Сообщается, что Дрокми был тронут до слез, когда узнал о судьбе своего преданного ученика, сказав, что он ощутил, как будто бы его сердце покидает тело от горя. В связи с этим он предложил обучить ламдре любого из учеников Дрома, но, что поразительно, мало кто воспользовался этим предложением. Что касается Дрома Депы, то он нашел одну из двух форм ламдре, которая ускользнула от внимания сакьяпы и впоследствии получила название «метод Дрома». В незавершенном исследовании Нгорчена пятнадцатого столетия, посвященном ламдре, сообщается о существование большого собрания литературы (po ti shin tu che ba gcig) этой традиции, включавшего комментарий к «Коренному тексту *маргапхалы», а также более специализированные работы, подобные описанию «десяти секретов»64.
Другим великим учеником Дрокми, постигшим ламдре, был Сетон Кунрик. Он являлся очень влиятельным наставником, поскольку две наиболее значимые традиции учения Дрокми передавались теми, кого обучил Сетон: линии Кхон и Жама. Подобно своему наставнику, Сетон также принадлежал к племени кочевников, пасущих стада яков, однако его родными краями было Догме, расположенное на северном берегу Брахмапутры недалеко от Лхаце, возможно, в нижней части долины Рага-Цангпо65. В отличие от Дрокми, Сетон происходил из клана Се – очень древнего рода, который согласно мифологии являлся одним из первых шести кланов, возникших на Тибете66. По утверждению более позднего автора, у клана Се было две ветви: группа Кья и группа Че, и Сетон принадлежал к последней, которая, по-видимому, каким-то образом была связана с великим кланом Че. В «Синей летописи» сообщается, что, когда Сетон и Сачен Кунга Ньингпо (1092–1158) встретились, Сетону было восемьдесят шесть, а Сачену – «около двадцати», и что вскоре после этого Сетон умер67. Это означает, что Сетон родился где-то в 1026 году или около того и дожил примерно до 1112 года68. Какими бы ни были эти даты, вполне очевидно, что Сетон прожил долгую жизнь, и у нас нет причин сомневаться в достоверности его встречи с Саченом Кунга Ньингпо где-то после 1110 года. Тот факт, что он и Дрокми имели схожее происхождение, возможно, способствовал как принятию им решения отправиться на учебу в Мугулунг, так и тому, что Дрокми согласился удовлетворить его просьбу.
Существует довольно занятная легенда, переходящая из источника в источник, согласно которой в детстве Сетон нашел стадо из тридцати трех диких черных яков и, соблазнив их сладкими травами, сумел поймать нескольких из них. Переправившись со своим стадом яков через Брахмапутру на юг, он передал их в Дрокми в качестве подношения за свое посвящение в ламдре. Очевидно, Сетон прибыл в нужное время, поскольку он входит в список тех немногих преемников, кто получил ламдре после кончины Дрома Депы Тончунга. Тем не менее, его скудное подношение в виде нескольких заурядных яков должно быть выглядело весьма жалко, и с точки зрения алчного Дрокми было явно недостаточным, чтобы оплатить им обучение. В источниках пишут, что он отметил мизерность этого дара, сравнивая его с теми, что он привык получать. Однако, Сетон, продемонстрировав искреннею веры и глубокое отчаяние, сумел переломить ситуацию. В течение последующих лет Сетон жил рядом с Дрокми и практиковал учение, хотя источники расходятся во мнениях относительно того, как долго это продолжалось. Однажды Дрокми, очевидно, в шутку, сказал: «Се надеется на язык [хочет быть проповедником], но он сбежал со всеми моими учениями, как вор»69. На самом деле, это довольно удачный каламбур, поскольку слово «че» на тибетском языке может означать как «язык», так и название благородного клана Че (Сетон происходил из ветви Че под названием Се). Таким образом, Дрокми обвинил Сетона в том, что тот хочет быть благородным, но действует как вор в ночи, или же хочет быть проповедником, но ведет себя как трус. Сетон был страшно расстроен, когда услышал эту критику, но Дрокми заверил его, что он пошутил.
Со временем Сетон основал храм Кхарчунг, в честь которого и получил свое имя Се-Кхарчунгва. Обычно его помещают в средней части долины Мангхар, недалеко от того места, где со временем расположился великий реликварий Царчена, однако, есть упоминания о нахождении Кхарчунга и в других местах. По этой причине мы можем задаться вопросом: а не использовал ли Се название «Кхарчунгва» как обозначение своей резиденции, где бы она ни располагалась?70. Также сообщается, что для завершения своего образования Сетон некоторое время учился у Кхона Кончока Гьелпо, основателя сакьи. Хотя источники в целом весьма немногословны в отношении Сетона, тем не менее, они характеризуют его как человека, который не был склонен совершать великие подношения подобно тому, как это делал Дром Депа Тончунг. В частности они нередко отмечают, что он оказывал небольшую «услугу» (т.е. преподносил мало даров) Дрокми, однако, очень усердно практиковал. Если читать между строк там, где идет речь о его взаимодействии с Жангом Гонпавой, семейством Жама, Саченом и другими, то складывается впечатление, что на самом деле Сетон был довольно замкнутой личностью, склонной скрывать свои познания в новом учении Дрокми, но при этом зарабатывающей себе на жизнь выполнением его основополагающих ритуалов.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
1. gNas bstod kyi nyams dbyangs, p. 348.1.3-6. The very unpolished nature of this “song,” may be noted, especially as the syllables vary idiosyncratically between seven and nine. However, the marked tendency for Sa-skyas to question pilgrimage practices began at least with Crags-pa rgyal-mtshan, although it reached its full value later; see Huber 1990 for some of the polemics engaged in by Sa-Pan and others.
2. Noted by Martin 1996c, p. 188, n. 65, and 1996a, pp. 23-24. The prevalence of laity throughout the early Buddhist traditions in Tibet dilutes the premise of Martin 1996a, as he seems to acknowledge.
3. Kapstein 2000, pp. 141-62, examined this issue in the Ma,:zi bka’ ‘bum and other texts.
4. Good observations on the nature of the sBa bzhed chronicle are found in Kapstein 2000, pp. 23-50.
5. The basic record is in the Rwa lo tsf ba’i rnam thar, pp. 283-84, and is summarized in Deb ther sngon po, vol. 1, p. 458, Blue Annals, vol. 1, p. 378. dGos-lo places the date of me pho khyi on the event, probably from reading the age of Rwa-lo in the hagiography as eighty (he was born in 1016). This apparently is why Martin 200 1a, p. 48, proposed this date. I have less confidence in the Deb ther sngon po early chronologies, however. Martin 2001a maintains that the outlying temples and the wall around the compound were damaged by the sMad ‘dul monks.
6. ‘Bri gung ehos rje ‘jig rten mgon po bka’ ‘bum, vol. 1, p. 50.1.
7. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 448, 8o r; bKa’ ‘ehems ka khol ma, p. 287; mNyam med sgam po pa i rnam thar, p. 167; Lho rong ehos ‘byung, pp. 178- 79. I am inferring that this is how the ‘Bring-tsho destroyed Atisa’s residence; see rNam thar yong grags, p. 177.
8. Except as noted, the following is based on Martin 1992 and 20ora, as well as Jackson 1994b, pp. 58- 72.
9. On part of the mChims clan becoming Zhang, see Deb ther sngon po, vol. 1, p. 125-1; Blue A nn’als vol. 1, p. 95. For an obscure discussion of other Zhang clans, see rGya bod yig tshang chen mo, pp. 236-37.
10. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 807-9.
11. Deb ther dmar po, p. 127.22-23. For these two institutions, see Richardson 1998, p. 306.
12. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 808.11.
13. Dus gsum mkhyen pa’i bk.a’ ‘bum, p. 78.1, indicates that the Karmapa mediated Lama Zhang’s dispute with a Dag-ra-ba (?).
14. Martin 1996c, pp. 185-86, and 1996a, passim.
15. Nyang ral rnam thar, pp. 90-92.
16. mKhas pa i dga’ ston, vol. 1, p. 808.18-19.
17. Astasahasrika-prajnaiparamita-sutra, pp. 191-96.
18. The following is based on his hagiography by rGa-lo m the Dus gsum mkhyen pa’i bka’ ‘bum, vol. 1, pp. 47-128. This work is closely followed by all the standard histories.
19. Phag-mo gru-pa’s hagiographies include the Phag mo gru pa’i rnam thar rin po che’i phreng ba, dKar brgyud gser ‘phreng, pp. 387- 435; sTag lung chos ‘byung, pp. 171-87; Lho rong chos ‘byung, pp. 306-27; rLangs kyi po ti bse ru rgyas pa, p. 103; Deb ther sngon po, vol. r, pp. 651- 66; Blue Annals, vol. 1, pp. 552-65; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 8II-19; and ‘Brug pa’i chos ‘byung,pp. 401-8. rGya bod yig tshang chen mo, pp. 534- 35, provides an anomalous chronology of Phag-mo gru- pa, having him born in the fire-tiger year (1086?) rather than the iron-tiger year (1110) and traveling to Central Tibet at the age of 24 (1110?) rather than at the age of eighteen in 1128. Jackson 1990, pp. 39- 45, and 1994b, pp. 39-42, 60-61, 77, contributed to our understanding of this important figure.
20. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 655, an d Blue A n nals, vol. 1, p. 555, h as him ordained at 25 (1135), but this is contradicted by the dKar brgyud gser phreng, p. 403, and the Lho rong chos ‘byung, p. 307.
21. Phag mo gru pa’i rnam thar rin po che i phreng ba, p. 12.I.
22. Lam ‘bras byung tshul , p. u 8.1.1, has Phag-mo gru-p a living at Sa- skya for twelve years, an improbable number; this is eviden tly followed by A- mes-zhabs, gDung rabs ch en mo, p. 48.
23. dKar brgyud gser phreng, pp. 407-11, emphasizes both Phag-mo gm-pa’s faith and the experiences he receives. As Jackson 1994b, p. 60, notes, the Zhang writings on this period have a peculiar chronology.
24. Sperling 1994.
25. This is rGwa-lo gZhon- nu-dpal (1110/14- 1198/1202). For this figure, see Sperling 1994 and Blue Annals, vol. 2, pp. 469, 475, 555. W e note that th ere was a later rGwa-lo rNam-rgyal rdo-rje (1203-82), who was the hagiographer of Dusgsum mkhyen-pa and was apparently considered the reincarnation of the earlier disciple of rTsa-mi.
26. On this affix, see Kychanov 1978, p. 2rn. This article treats the special position of Tibetans among the Tangut.
27. Dunnall 1992, pp. 94-96; van der Kuijp 1993.
28. On this issue, see Sperling 1987 and Dunnel 1992.
29. Martin 2001b, pp. 148-60, provides an excellent introduction to this material. The composition of the verses is discussed in Dam chos dgongs pa gcig pa’i yig cha, pp. 156-58.
30. ‘Bri gung chos rje Jig rten mgon po bk.a’ ‘b um, p. 166; ‘Brig gung gdan rahs gser phreng, p. 83.
31. bLa ma sa skya pa chen po’i rnam thar, p. 87.2.5-3.1.
32. gDung rabs chen mo, p. 53.
33. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.5.
34. Schoening 1990, p. 14.
35. On Rin-chen bZ ang- po’s mask, see Vitali 2001.
36. bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 52; rGya bod yig tshang chen mo, p. 318; gDung rabs chen mo, p. 31.2-9.
37. The disciples are mentioned in Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 149-51; bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, pp. 66-70; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, pp. 128-34; Lam ‘bras khog phub, pp. 188-90.
38. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 133; a letter is mentioned in the bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 68. This is probably the dGa’ ston la spring yig, SKB III.272.3.6-74.3.2, also contained in the fifteenth-century Pusti dmar chung, pp. 41-49: rJe btsun gyis dga’ ston rdo rje grags la gdams pa.
39. For a different perspective of Phag-mo gru-pa, see Stearns 2001, pp. 26-31.
40. dKar brgyud gser phreng, pp. 407-11, emphasizes both Phag-mo gru-pa’s faith and the experiences he receives.
41. dKar brgyud gser phreng, pp. 414-15; Lho rong chos ‘byung, p. 314.
42. dKar brgyudgser phreng, p. 414-15; compare Lho rong chos ‘byung, p. 314.Jackson 1990, pp. 39-47, discusses the unfortunate proposition (based on Roerich’s interpretation of Blue Annals, 1949, vol. r, p. 559) that Sa-chen and Phag-mo gru-pa had a falling-out, but Jackson rejects this interpretation on good textual grounds.
43. Lam ‘bras byung tshul, p. 1I 8.2.2. See chap. 8 for questions about the sGatheng-ma.
44. This is in a supplement to the homage to Sa-chen by Zhu-byas, gDung rahs chen mo, pp. 49-51, which A-mes-zhabs follows.
45. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 130.
46. gDung rahs chen mo, p. 62.
47. Jackson 1987, vol. 2, pp. 344-47, presents Sa-skya Pacyq.ita’s summary of the thirteenth-century Tibetan understanding of the five Buddhist and five non-Buddhist areas of knowledge: Buddhist areas constitute the philosophical systems of the Vaibha ika, Sautrantika, Vijnapti[-matrata-vada], and the Nihsvabhavavada (Madhyamaka); non-Buddhist systems are *Vaidaka (Mimamsa), Samkhya, Aulukya (Vaisesika), Ksapanaka (Jaina), and Carvaka. The areas of knowledge listed in the Mahavyutpatti, nos. 1554- 59, 4953-71, do not include any specifically Buddhist studies and collectively demonstrate the changing nature of these rubrics.
48. gDung rabs chen mo, p. 63.
49. Lam ‘bras byung tshul, p. 120.1.4; gDung rabs chen mo, p. 63.
50. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.6.
51. For Phya-pa, see van der Kuijp 1978 and 1983, pp. 59-70.
52. sLob dpon Phya pa la bstod pa, p. 41.r.5. He evidently sent a copy to gSang-phu Ne’u-thog as an offering, p. 41.2.2. Phya-pa’s death date, offerings made on his behalf, and the areas of his intellectual emphasis are mentioned in this panegyric as well.
53. This was maintained in the episodes in which Phag-mo gru-pa was favored by Sa-chen, who liked the way he answered questions put to him; for example, Deb ther sngon po, vol. 1, p. 656; Blue Annals, vol. 2, p. 556.
54. bDag med ma’i dbang gi tho yig, p. 404.3.2-6. This short work is mentioned in his rGya sgom tshul khrims grags la spring ba of 1165, p. 39.3.2-3.
55. brGyud pa dang bcas pa la gsol ba ‘debs pa, p. 39.r.5.
56. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba; p. 39, passim, is very difficult, with very obscure twelfth-century words and honorific usages.
57. sLob dpon Phya pa la bstod pa, p. 40.2.2-5, is especially significant.
58. This emphasis on Sa-skya Pandita’s position is found, for example, in Jackson 1983, p. 7. A-mes-zhabs notes the importance of prosody in bSod-nams rtsemo’s compositions; gDung rabs chen mo, p. 66.
59. gDung rabs chen mo, p. 64: ‘dzam bu gling pa bstan pa’i srog shing chen po.
60. gD ung rabs chen mo, p. 64.
6r. Sam pu ta’i ti ka gnad kyi gsal byed, p. 189.35. .
62. dPal kye rdo rje’i sgrub thabs mtsho skyes kyi ti ka, p. 131.6.
63. The Yig ge’i bklag thabs byis pa bde blag tu ‘jug pa is discussed late r. Punyagra is found in the colophon to his Dang po’i las can gyi bya ba i rim pa dang lam rim bgrod t sh ul, p. 147.r.6; Dveshavajra is found in dPal kye rdo rje rtsa ba’i rgyud brtag pa gnyis pa’i bsdus don, p. 176.r.5.
64. gDung rabs chen mo, pp. 66- 67.
65. bL a ma rje btsun chen po’i rnam thar, SKB V.143.1.1- 154.4.6. The other essential sources are gDung rabs chen mo, pp. 69-85, and his dream record in rJe btsun pa’i mnal lam.
66. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, pp. 144.1.2, 144.1.6 , 144.2.3, 144-4-4, 145.1.2.
67. rJe btsun pa’i mnal lam. The SKB editor includes a note ( V.x) that Ngor-chen claims the letter was dictated by Grags- pa rgyal-mt shan to mKhas-pa sbal-st on at an uncertain date, and this also is indicated in the colophon to the text as contained in LL I.64.1: rje btsun pa’i mnal lam sbal ston seng ge rgyal mtshan gyis bris so j.
68. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.4- 3.2; Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig, p. 104.2.6, includes the death date of his youngest brother, dPal-chen ‘od – po (1150-1203).
69. bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, p. 143.2.2. Here nagaraja (klu’i rgyal po) would be understood as the king of elephants in India (since elephants and snakes are frequently seen as variations of the same entity), and I presume that Sa-skya Pandita would be using the term in this manner.
70. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 661; Blue Annals, vol. 1, p. 561. He is listed as a disciple of Sa-chen and is considered an incarnation of Avalokitesvara in gDung rabs chen mo, p. 50. For his connection to the ‘Brom-lugs, see Lam ‘bras byung tshul, p. 114-4-2.
71. gDung rabs chen mo, p. 69.
72. rJe btsun pa”i mnal lam, p. 98.3.1-4.2; bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, p. 144,4,4-6.
73. For example, bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, pp. 143.4.1, 144.1.1-2; gDung rabs chen mo, p. 51, gives Par:i-chen Mi-nyag grags-rdor’s supplementary list of Sa-chens disciples, which includes two Zhang: Zhang-ston gSum-thog-pa and Zhang-ston sPe’i dmar-ba.
74. gDung rahs chen mo, p. 70; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 140.2, adds rCya-sgom tshul-khrims-grags to the list of Crags-pa rgyal- mtshan ‘s important teachers.
75. gDung rahs chen mo, p. 83, mentions some of the different reports.
76. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba, pp. 39.3.5 and 39-4-1-2.
77. bLa ma 1je btsun chen po’i rnam thar, p. 144.4.1; compare gDung rabs chen mo, p. 75, which numbers more than three hundred and places the hundred in the temple housing the remains of the great Sa-skya teachers (gong ma), a designation usually meaning Sa-chen, his two sons, Sa-pan and ‘Phags-pa, although it is not clear that their remains were housed together at this time.
78. Tshar chen rnam thar, p. 500; Ferrari 1958, p. 65.
79. rje btsun pa’i mnal lam, SKB IV.99.1.2-3.4.
80. bDe mchog kun tu spyod pa i rgyud kyi gsal byed, p. 55.2.4.
81. This may be inferred by Sa-skya Pandita’s observation at the end of the outline, rGyud sde spyi’i rnam gzhag dang rgyud kyi mngon par rtogs pa’i stong thun sa bead, SKB 111.81.2.4-5, that he was fourteen years old when he edited the summary. These works are also referenced in his brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan, p. 162.3.3.
82. rGyud sde spyi’i rnam gzhag dang rgyud kyi mngon par rtogs pa’i stong thun sa bead, SKB 111.81.2.4-5; rGyud kyi rgyal po chen po sam pu fa zhe bya ba dpal ldan sa skya pan(ii ta i mchan dang bcas pa, p. 668.4 (fol. 3oob4), indicates that Sa-par:i had heard from Crags-pa rgyal-mtshan the Samputa five times and the Samputa-tilaka two before he wrote the notes at age sixteen (1198).
83. For example, dPal ldan sa skya pandi ta chen po’i rnam par thar pa, pp. 434.1.4-436.3.2, provides a long list of topics and titles, most of which are attributed to Crags-pa rgyal-mtshan s teaching; pp. 436.1.3 and 436.3.1 specifically list rNying-ma esoteric works and the study of Sanskrit.
84. Jackson 1985, p. 23, acknowledges that the disparity between Sa-skya Pandita’s list of his uncle’s studies and the lists provided in the latter’s hagiographies in this case, concerning Madhyamaka studies-but refrains from concluding that we have the hagiographer’s art at its source.
85. Vidyadharikeli-srivajravarahi-sadhana, SKB IV.29.2.3, and see SKB IV.28.2.5- 30.4.4.
86. Stearns 1996, pp. 132-34, provides sources for this issue.
87. Dunnel 1996, p. 158.
88. Kychanov 1978, p. 208.
89. Bod rje lha btsan po’i gdung rahs tshig nyung don gsal, p. 84. The discussion of Vinaya is on pp. 82-85. Sakyasri becomes an important culture hero celebrated in the Myang chos ‘byung, pp. 68-73.
90. Phag mo las bcu’i gsal byed, SKB IV.28.2.3. For Mi-nyag as a national designation, see Stein 1951, 1966, p. 288.
91. Bya spyod rigs gsum spyi’i rig gtad kyi cho ga, SKB IV.255-1.3-5.
92. Nges brjod bla ma’i ‘khrul ‘khor bri thabs, SKB IV.45.4.5, requested by rTsami; A rga’i cho ga dang rah tu gnas pa don gsal, SKB IV.252.2.6, requested by sNgeston (? = sDe-ston) dKon-mchog-grags and mDo-smad gling- kha’i yul du skyes pa yi dGe-slong lDe-ston-pa; Kun rig gi cho ga gzhan phan ‘od zer, SKB IV.228.1.4, requested by Lle’u dge-slong Seng-ge-mgon; gZhan phan nyer mkho, SKB IV.237.2.4, requested by gTsang-kha (= Tsong-kha) snyid-ston dGe-slong Rinchen-grag s; rTsa ba’i ltung ha bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘khrul spong, SKB III.265.3.4, requested by bTsong-ga’i dGe-slong rDor-rje grags-mched; rTsa dbu ma’i khr id yig, SKB IV.42.4.2, requested by mDo-smad gyar-mo-thang gi ston-pa gZhon-nu; Chos spyod rin chen phreng ba, SKB IV.320.2.6, requested by rTsongkha’i cang-ston (?) dGe-slong brTson-‘grus-grags.
93. Byin rlabs tshar gsum khug pa, p. 95.3.3- 4.
94. bDud rtsi ‘khyil pa sg rub thabs las sbyor dang bcas pa, SKB IV.67.2.6. This is the only time that I have found he used this designation.
95. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba, p. 39.4.3; Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig, p. ro 4.4.4- 5.
96. The section beginning rje btsun pa’i mnal lam, SKB IV.99.4.4, which mentions his looking toward sixty- nine years of age, I take to be a continua tion of the dream at sixty -six beginning on p. 99.4.1. This is how it is understood in gDung rahs chen mo, p. 81, whereas bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 145.3.2, seems to say that it happened two years before his death.
97. rJe btsun pa i mnal lam, p. 99.4.1-4. Compare LL I. 62.3- 5.
98. The term is used in describing the episode in the Lam ‘bras khog phub, p. 190.5; I know of no instan ce where it is used before this text.
99. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 145.1.2- 2.2.
100. gD ung rah chen mo, p. 79; gDams ngag byung tshul gyi zi n bris gsang chen bstan pa rgyas byed, pp. 139-40; Lam ‘bras khog phub, p. 190 .5.
101. bLa ma rje btsun chen po’i rna m thar, p. 145.1.2- 4, is almost identical with rJe btsun pa’i mnal lam, pp. 98.4.6- 99.1.2.
102. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 145.r.5-2.1. While all the preceding sources report the verse, none agrees, so Sa-skya Pandita’s version appears to be the most authentic.
103. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 146.2.2-3.
104. Personal communications from Ngor Thar-rtse zhabs-drung (1981) and Ngor Thar-rtse mkhan-po (1982). These works were the rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, the rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po ehe’i ljon shing, the hrTag gnyis rnam ‘grel dag ldan, and the sDom gsum rab dbye.
105. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 144.1.4-5; see a similar expression in gDung rah chen mo, p. 74.
106. His Chas la ‘jug pa’i sgo is examined later; the Amoghapasa lineage materials are found in his ‘Phags pa don yod zhags pa’i lo rgyus.
107. Genealogical material is included in Chas la ‘jug pa’i sgo, pp. 343.r.2-46.2.4, of bSod-nams rtse-mo and in the dedicated Bod kyi rgyal rahs of Crags-pa rgyalmtshan. ‘Khan lineal matters occupy the bLa ma sa skya pa ehen po’i rnam thar, p. 84.r.4-2.2, and is the topic of Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig.
108. Besides the hagiography of his father, his major hagiographical contributions are Virupa’s in his bLa ma rgya gar ba’i lo rgyus; Kanha’s in his Nag po dkyil chog gi bshad sbyar, pp. 304.3.4-306.2.2; Ghantapada’s in the sLob dpon rdo r:je drii bu pa’i lo rgyus; and Luipa’s in the bDem mehog lu hi pa’i lugs kyi bla ma brgyud pa’i lo rgyus. Both his Notes on Vajrayana Systems (rDo rje ‘byung ba’i yig sn a ) and his Notes on Individual Sadhanas (sGrub thabs so so’i yig sna) also contain odd bits of curious stories.
109. rGya bod kyi sde pa’i gyes mdo.
110. Lam ‘bras ‘byung tshul, p. 120.r. Note that A-myes-zhabs presents the reading gseg shubs ma, indicating a standard book case (gsegs); Lam ‘bras khog phub, p. 275.
111. dPal sa skya pa’i man ngag gees btus pa rin po ehe ‘i phreng ba, SKB I.268.2.1-81.2.6. The numbering is uncertain, for some texts appear to work in conjunction with works before or after, and there is no dkar-chag to enumerate the works as intended.
112. For example, compare Sras don ma, pp. 95-99, and dPal sa skya pa’i man ngag gees btus pa rin po ehe’i phreng ba, SKB I.275.r.5-75.4.3.
113. Phyag rgya ehen po gees pa btus pa’i man ngag, SKB IV.302.3.1-1 r.4.5. The uncertainty of numbering for Sa-chen’s collection applies to Crags-pa rgyal-mtshan’s as well.
114. Ehrhard 2002, p. 40.
115. gLegs bam gyi dkar chags, p. 3-1.
116. For the relationship of Tibetan color terminology to English, see Nagano 1979, pp. 11-23.
117. gLegs bam gyi dkar-ehags, p. 8.r-2.
118. See his gSung ngag rin po ehe lam ‘bras bu dang bcas pa ngor lugs thun min slob bshad dang | thun mong tshogs bshad tha dad kyi smin grol yan fang dang beas pa’i brgyud yig gser gyi phreng ba byin zab ‘od brgya ‘bar ba, LL XX.417-511; compare Smith 2001, pp. 235-58.
119. Lam bras khog phub, pp. 301-3.
120. Stearns 2001, pp. 32-35, already summarized the Pod ser contents, but his discussion emphasizes elements different from mine, so they are complementary rather than redundant.
121. Lam-bras khog phub, p. 187.
122. Crags-pargyal-mtshan was apparently responsible for the following works (with their pages in the Pod ser): Kun gzhi rgyu rgyud (128-31); gDan stshogs kyi yi ge (131-35); Bum dbang gi ‘da’ ka ma’i skabs su ‘chi ltas | ‘khrul ‘khor | ‘chi bslu dang bcas pa (138-44); Lam dus kyi dbang rgyas ‘bring bsdus gsum (154-58); Tshad ma bzhi’i yi ge (158-61); gDams ngag drug gi yi ge (161-63); Crib ma khrus sel (167-69); Crib ma satstshas sel ba (169-70 ); Thig le bsrung ba (170-71); and the Jig rten pa’i lam gyi skabs su rlung gi sbyor ba bdun gyis lam khrid pa (173-83). The others are by Sa-chen, according to the gLegs bam kyi dkar chags.
123. gLegs bam kyi dkar chags, p. 5.1-2.
124. Wayman 1977, pp. 137-80, is still the only significant treatment of the Guhyasamaja material.
125. Tachikawa 1975 is devoted to an examination of this issue with respect to the dGe-lugs understanding found in the sGrub mtha’ shel gyi me long of Thu’u-bkwan bLo-bzang chos kyi nyi-ma.
126. Stearns 2001, pp. 30-32, argues that some short works in the Pod ser are based on Lam-‘bras writings of Phag-mo gru-pa. This may prove to be true, but his argument as presented is not entirely compelling, as it relies on the idea that Sa-chen used no texts; compare Stearns 2001, pp. 32-35.
127. Lung ‘di nyid dang mdor bsdus su sbyar (Pod ser, pp. 481-93), Lung ‘di nyid dang zhib tu sbyar ba (Pod ser, pp. 493-529), and Lam ‘bras bu dang bcas pa’i don rnams lung ci rigs pa dang sbyar (Pod ser, pp. 529-81).
128. Besides Pod ser, sec. IV, pp. 144-51 and 185-87, there is a longer work, Kye rdor lus dkyil gyi dbang gi bya ba mdor bsdus pa, ascribed to bLa-ma Sa-chen-pa and close to the language associated with Sa-chen’s other works. On fol. 7a4 ( p. 19.4), the signature of the Lam ‘bras, the rdo rje rba rlabs bsgom pa, is mentioned; compare a supplemental work on the Vajracaryabhiseka, Gong tu ma bstan pa’i rdo rje slob dpon gyi dbang gi tho, Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung ma phyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 21-25. There is another short text, sMon lam dbang bzhi’i bshad par sbyar ba, which is not definitely a Lam-‘ bras-related work; Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung ma phyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 81-84.
129. Guhyasamaja-tantra XII, vv. 60-76, pp. 42-44.
130. For references, see Davidson 1992, pp. 178-79, n. 20.
131. For a discussion of this ritual and related concerns, see Davidson 1992, pp. u4-20.
132. For a discussion of many of these issues, see Nor-chen’s bsKyed rim gnad kyi zla zer, pp. 190.1 ff.; and Go-rams-pa’s bsKyed rim gnad kyi zla zer la rtsod pa spong ba gnad kyi gsal byed, pp. 597 ff.
133. rTsa ba’i ltung ba bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘kh rul spong.
134. Eimer 1997.
135. bLa ma mnga’ ris pas mdzad pa’i brtag gnyis kyi tshig ‘grel. Compare the acknowledgement of Durjayacandra’s and mNga’-ris- pa’s commentaries in dPal kye rdo rje’i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer, p. 109.3.1.
136. Kye rdo rje’i rtsa rgyud brtag gnyis kyi dka’ ‘grel.
137. dPal kye rdo rje’i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer.
138. brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan.
139. Guhyasamaja-tantra XVIII.34.
140. rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 22.3.5, 34.3.3, 35.4.5, 36.1.3, 36.3.3.
14r. See Steinkellner 1978; Broida 1982, 1983, and 1984; Arenes 1998.
142. His sources are identified in rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 31.4.5, 32.1.2, 32.1.6, 32.3.1, 32.3.3, 32.3.4, 33.1.5, 33.2.6, 34.2.1, 34.2.4, 34.3.6, 35.1.1, 35.2.4, 35.3.4, 35.4.6.
143. rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 11.4.4-12.1.2.
144. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, p. 2.1.3.
145. Grags-pa rgyal- mtshan’s scriptural source for this is HT II.ii.14-15, and HTII.viii.9-10.
146. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, 17.1.6-2.3, citing the Sarvatathagatatattvasamgraha and the Samputa; compare HTII.iv.76.
147. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, pp. 22.1.1-4, 26.3.2-4.
148. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, pp. 22.3.2, 26.1.3. We also see his interest in this level of encounter and refutation in his rTsa ba’i ltung ba bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘khrul spong, pp. 261.2.6-65.2.6, where he refutes four “incorrect opinions” with respect to the Vajrayana.
149. The identity of this place is not certain. The Rwa lo rnam thar, p. 46, mentions a sNye-nam na-mo-che in La-stod, and the rNam thar rgyas pa yong grags, p. 157, mentions a sNe-len in La-stod.
150. Yi ge’i bklag thab byis pa bde blag tu ‘jug pa.
151. Verhagen 1995, 2001, pp. 58-63, studies this work.
152. sMra sgo’i mtshon cha’i mchan rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa; gDung rabs chen mo, p. 74; Jackson 1987, vol. 1, pp. rr 6- rr 7; Verhagen 2001, p. 52.
153. Byang chub sems dpa’i spyod pa la ‘jug pa’i ‘grel pa; see p. 515.2.5 for his debt to Phya-pa.
154. bSod-nams rtse-mo’s Dang po’i las can gyi bya ba’i rim pa dang lam rim bgrod tshul, and the Chos spyod rin chen phreng ba of Grags-pa rgyal-mtshan.
155. gDung rabs chen mo, p. 64.
156. gDung rabs chen mo, p. 72.
157. Ruegg 1966, pp. 112-13, discusses this episode.
158. For a discussion of this controversy, see Stearns 1996, pp. 152-55.
159. gDung rabs chen mo, pp. 80-81.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Возникновение буддийского эзотеризма напрямую связано с определенными территориями и важнейшими точками отсчета в истории раннесредневековой Индии. В первую очередь это, конечно же, окончательный уход с политической сцены императорских Гуптов около 550 г. н.э. Важнейшими событиями также были смерть Харши в 647 г. н.э. и последующей упадок династии Пушьябхутов. Для индийцев это были очень трудные времена, поскольку изменились почти все параметры их обыденной жизни. Северная Индия, до сих пор доминировавшая или, по крайней мере, равная югу в военном и политическом отношении, в этот период впервые за всю историю утратила свою мощь и изобилие. Вместо нее ведущее положение заняла Южная Индия с ее энергичными и преимущественно шиваитскими правителями. Прежде всего, это означало, что государства Северной Индии все чаще были вынуждены смиряться с оскорбительными набегами на их территории, лишаясь своего богатства и утрачивая безопасность своих городов. Самым сложным был период военных кампаний между серединой седьмого и серединой восьмого столетий, в течение которого мы наблюдаем практически полное отсутствие жизнеспособности Северной Индии и вместе с тем видим подавляющее преимущество Паллавов, Гаригов и связанных с ними государств юга Декана. К середине восьмого столетия в Индии возникли серьезные противоречия между крупными державами, расположенными в Канаудже (Гурджара-Пратихара), Бенгалии (Палы) и в долине реки Кришны (Раштракуты). В течение двух столетий, между 750 и 950 годами н.э., эти три династии боролись за власть, причем Раштракуты доминировал почти во всех сферах. Но их падение вовсе не означало начала возрождения севера, поскольку Газневиды уже были готовы занять их место и начать грабительские набеги из Афганистана, а на юге Индостана набирала силу изысканная цивилизация Чолов. Какое-то время Палы, по всей видимости, не принимали участия в этой борьбе, но так продолжалось ненадолго, и в конце концов их династия была окончательно уничтожена с перераспределением власти в пользу южной Бенгалии. Таким образом, к концу двенадцатого столетия, как раз перед началом массовых вторжений тюрок-мусульман, политическая структура Северной Индии снова была представлена рядом фрагментированных государств, расположенных на обширной территории от Бенгалии до Гуджарата и от Кашмира до Деканского плоскогорья. Только Южная Индия пока что оставалась сильной и относительно сплоченной.
Эти политические реалии несколько затмевают природу межгосударственных отношений, основанных на особой иерархической системе, которую называют либо согласно Чаттопадхьяи (Chattopadhyaya) саманта-феодализмом, либо в соответствии с моделью, предложенной Штейном (Stein)2, сегментарным государством. Если вкратце, то смысл этих определений в том, что более крупные государства устанавливали набор определенных отношений с более мелкими, смежными с ними государствами. Внутри себя каждое из этих образований, неважно, большое оно или малое, имело сходные с другими слои бюрократии. Таким образом, у каждого из них имелись министр войны и мира и главные полководцы, а также формальные ритуальные отношения с конкретными религиозными традициями и т.п. Подчиненные государства устанавливали налоговые/коммерческие отношения (в виде дани) со своими повелителями (rajadhiraja), причем правитель меньшего государства часто наделялся властью своим повелителем посредством церемонии коронации (abhiseka) или же путем присутствия на коронации самого повелителя. Таким образом, в период раннего средневековья большая часть Индии была охвачена межгосударственными ритуальными, торговыми и военными отношениями, при этом меньшие государства пользовались защитой и привилегиями, хотя и страдали от последствий своего участия в отношениях с великими владыками. Эти меньшие государства играли роль буферных или клиентских государств между более крупными политическими образованиями и входили в матрицу (mandala) из вассальных стран, расположенных вокруг повелителя по всем направлениям. Но иногда меньшее государство становилось сильным и затмевало своим могуществом более крупное государство, особенно если в последнем велась борьба за престолонаследие, или если оно обращалось со своими вассалами с бесцеремонной безнаказанностью. В этих обстоятельствах вассалы могли временно объединиться, чтобы попытаться свергнуть верховного повелителя, в результате чего одно из ранее бывших подчиненным государств становилось новой великой державой этого региона.
Для Северной Индии экономические последствия этого периода были разрушительными, и в особенности это отразилось на крупных мегаполисах. Начиная с седьмого столетия, из-за частых набегов они страдали от постоянной убыли населения, происходившей не столько из-за общего сокращения населения Индии, сколько из-за непрекращающегося процесса внутреннего переселения, когда отдельные лица и целые семьи становились политическими или экономическими беженцами. С упадком прежних столичных центров крепко стоявшие на ногах торговые системы и гильдии также стали жертвами этих смутных времен, в том числе и из-за появившихся в начале восьмого столетия новых международных торговых монополий исламских и манихейских купцов. К примеру, Раштракуты сочли, что в их интересах поддерживать именно исламских торговцев, а дирхамы Аббасидов были привилегированной валютой южного государства в течение почти двух столетий. На региональном уровне местные правители также брали под свое покровительство местные торговые рынки. Это делалось для приумножения богатство гильдий и храмов, которое затем можно было использовать для обеспечения дорогостоящих военных кампаний, проводимых либо в целях политического авантюризма, либо для защиты государства. В результате всего этого богатства Северной Индии все в больших объемах переходило в руки местных правителей или южных князей.
Постепенно небольшие региональные центры стали главным направлением переселения большей части населения. В период раннего средневековья можно было наблюдать возникновение и слияние множества мелких государств, причем это происходило в тех местах, где раньше ничего подобного не было, или же там, где обитали только племенные группы, многие из которых стали основой новых государств. Гурджары, Абхиры, Шабары, Гонды, Кираты и пр. со временем образовали новые небольшие государства, в которых основными зонами размещения населения стали их традиционные земли, но только теперь здесь проводились мелиоративные работы с сопутствующей вырубкой лесов. Между основными областями жизнедеятельности располагались периферийные зоны, где подсечно-огневое земледелие и образ жизни охотников-собирателей племенных или полуиндуизированных народов затрудняли их вхождение в состав государства, при этом периферия всегда оставалась под вопросом не только в части присоединения, но и лояльности в целом.
С новым населением в региональные центры пришла новая эстетика и проблема новых идентичностей и богов. Эта эстетика базировалась на изображениях автохтонных божеств и традиционных декоративных узорах, но теперь она воплощалась с помощью таких материалов как камень, который ранее эти люди никогда не обрабатывали. Поэтому можно сказать, что художественные мастерские прямо из столичной культуры перенеслись в племенную полусельскую среду. Многие из этих небольших государств активно оказывали внимание не только мастерам творческих профессий, но и брахманам – за их юридические знания и религиозное право подтверждать правовой статус правителей. Кроме того, легитимность правления часто устанавливалась ритуальными средствами, а также путем наделения властными полномочиями, которое осуществлялось другими властителями с аналогичным статусом (с высечением эпиграфических надписей, содержащих такие решения или перечни исключительных права правителя).
Правовые навыки брахманов использовались и для того, чтобы ссылаясь на прецеденты других мест, приводить договоренности с коренными народами и соглашения с местными традициями к соответствию рамкам паниндийской общественно-религиозной структуры. Эти усилия, по большей части, повлекли за собой отнесение этой группы к некой пристройке к кастовой системе (К какой касте относится правитель шабаров? Каковы их обряды перехода?), а также помещению их богов в пантеон развивающегося корпуса пуранической литературы3. В ходе данного процесса племенные народы – как тогда, так и сейчас – вместо того, чтобы быть включенными в число землевладельцев, часто оказывались изгнанными со своих земель, или же понижались в статусе до положения, намного уступающего вольному могуществу и авторитету, которыми они обладали ранее. Теперь, когда их священные места были присвоены другими, а их родовые земли обрабатывались брахманами, племенные народы в целом стали получать гораздо меньше, чем им причиталось.
Основные религиозные течения этого периода ведут свое происхождение от шиваитских культов, причем преимущественно с южных территорий. Племенные боги и местные духи также испытали воздействие как новых агрессивных государств, так и сопутствующих им групп перемещенного населения, поскольку племенные регионы, расположенные за пределами прежних индуистских территорий, стали желанным местом размещения новых поселений. В результате этого произошел взрывной рост количества антропоморфных и зооморфных божеств, причем некоторые из них (в особенности многие местные богини) были попросту идентифицированы как форма того или иного индуистского женского божества или даже самой Великой богини (Mahadevi). Интересно, что в то время как такой феномен религиозной преданности, как бхакти (bhakti) продолжал прирастать приверженцами по всей Индии (и, опять же, в основном на юге), буддистские авторы на него практически не обратили внимания. То есть буддистские писатели периода с седьмого по двенадцатое столетие, как правило, не осознавали важность этой новой формы религиозной эмоциональности.
Следует отметить, что у буддистов в качестве главных антагонистов буддадхармы наряду с обычными («заурядными») брахманами часто фигурируют и шиваиты-аскеты. Причем наибольшее внимание привлекали к себе экстремальные группы шиваитов, чьи ритуальные практики включали в себя использование человеческих костей или неординарное поведение (такое как, например, омофагия или скатофагия). Некоторые группы (особенно каулы) занимались ритуальными совокуплениями, а племенные народы часто приносили человеческие жертвы богиням земли или своей местности. Вся эта деятельность вызывала у буддистских авторов довольно разнообразные реакции: восхищение, насмешки, подражание, а также иные ответные чувства. Среди наиболее значимых групп шиваитов выделялись капалики, ритуально имитирующие покаяние Шивы-Бхайравы после обезглавливания им создателя мира Брахмы. Другой выдающейся группой были пашупаты, ставшие объектом общественного восхищения и покровительства монарших семей за свое стремление к незаслуженному публичному осуждению (посредством имитации поведения собак и домашнего скота) и виртуозность в песнях и танцах (внесшей значительный вклад в классическое исполнительское искусство).
В культурном отношении средневековый период был воистину классическим временем для поэзии, искусства, музыки и танца. Это была великая эпоха строительства индуистских храмов, когда были спроектированы и возведены одни из самых величественных сооружений Индии. Несмотря на то, что данный период представляется мрачным и хаотичным, и это справедливо для нескольких десятилетий между шестым и восьмым веками, в нем не наблюдалось культурной дезинтеграции, которую принято считать отличительной чертой индийского средневековья. Наоборот, это были времена изменения старых стандартов и создания новых норм, одни из которых демонстрируют нам интеллектуальное и художественное совершенство, в то время как другие говорят о подавлении чувства гражданской ответственности, восхвалявшееся в документах предыдущих веков. Это было время, когда властителям и священникам приписывали божественность, тем самым предоставляя им ничем не ограниченные права, которыми некоторые их них, безусловно, злоупотребляли. Необходимо отметить, что общественные институты Индии того периода принимали разобщенность и отсутствие непрерывности как данность и воспринимали их как естественные условия. Так что такие темы, которые в современном мире считаются само собой разумеющимися, как равенство, единство и всеобщность, попросту отсутствовали во всеобщем дискурсе этой цивилизации.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
Теперь я поведаю о том, каким образом Святая Дхарма возникла из тлеющих углей,
И то, каким образом распространялись традиции.
Итак, Гонгпа-сел, имеющий четыре титула, возродил ее
Во времена трех наследников престола:
Нгадака Тричунга, Триде Гонцена и [Цаланы] Еше Гьелцена.
Да, заповеди Будды подобны волнам в океане – гребни и впадины.
Или подобны восходу и заходу солнца и луны – сияние и сумерки.
Или подобны лестницам – ведущие вверх и вниз.
Или подобны пшенице – колосящиеся летом, но имеющие вид стерни зимой.
Ученый Деу (ок. 1260 г.)1
|
Наконец, мы приступаем к рассмотрению центрально-тибетского ренессанса, который, как и европейское Возрождение, иногда рассматривается в совокупности с реформаторским движением. В тибетской религиозной истории деятельность тибетцев и индийцев этого периода носит собирательное название «позднее распространение» или «поздние переводы» Дхармы и иллюстрируется тибетской метафорой огня, возникающего из, казалось бы, уже остывших углей. «Позднее распространение» – это термин тибетской периодизации, поскольку общепринято делить тибетское взаимодействие с индийскими и буддистскими цивилизациями на более раннее проникновение буддизма в период имперских династий с седьмого по середину девятого столетия (snga dar) и более позднее распространение Дхармы (phyi dar), начавшееся во второй половины десятого века. Иногда это представляется как периоды «ранних» (snga gyur) и «новых перевода» (gsar gyur), причем этот литературный образ присутствует во всей местной тибетской литературе, хотя в некоторых случаях он и оспаривается.
Центрально-тибетское возрождение десятого-тринадцатого столетий стало возможным благодаря деятельности нескольких движений, и не все них получили сбалансированную оценку как в местной тибетской литературе, так и в современной науке. Среди них обращает на себе особое внимание «реимпорт» Винаи (уставных правил буддистского монашества) из северо-восточных частей тибетского культурного мира, расположенных на границах с Китаем и Средней Азией.
В этой главе рассматривается возрождение монашества в «четырех рогах» Тибета горсткой тибетцев, предпринявших путешествие в уцелевшие монашеские центры северо-востока (Амдо). Там они смогли раздобыть «Муласарвастивада-винаю», а также другие составляющие программы обучения монахов времен имперской династии. Вернувшись со всем этим в У-Цанг, они заново ввели традиционные ритуалы и обучение, преодолев противодействие тех, кто имел свои интересы в укоренившихся привычках и обычаях. Кроме того, в данной главе мы также рассмотрим как протекало возрождение на западе Тибета в регионах Гуге и Пуранг под покровительством потомков Осунга, главным событием которого стало приглашение знаменитого индийского монаха Атишы и основание им школы кадампа. Причем вопреки общепринятой точке зрения в главе утверждается, что в середине одиннадцатого столетия школа кадампа обладала в Центральном Тибете весьма скромным влиянием. На самом деле, самым значимым событием этого периода стало развитие всеохватной и потому жизненно важной храмовой системы под руководством центрально-тибетских монахов Люме, Латона и других, хотя в более поздней литературе гораздо большее внимание уделяется Атише и его школе кадампа. Тем не менее, усилий Восточной винаи и групп кадампы (представлявших монашеское нормативное движение махаяны) было недостаточно для стимулирования великого возрождения тибетской цивилизации, хотя это возрождение, пусть и по-разному, зависело от них обоих.
Трудно понять мотивы повторного обращения тибетцев к монашескому буддизму в этот период. Отчасти это можно объяснить исторической памятью, отчасти – вопросами экономической и политической безопасности, отчасти – неудовлетворенностью существующими традициями. В первом случае жители Центрального Тибета унаследовали от династии четыре вещи: память об империи, воплощенную в историях того периода и уцелевших представителях имперской наследственной линии; чувство утраты и ужаса от хаоса, возникшего в результате ее раздробленности; физические остатки небольших храмов, гробниц, монолитов и рукописей того периода; и все еще заметные религиозные практики в руках отдельных лиц, представлявших либо пережившие период раздробленности великие кланы, либо квазимонахов-мирян, сберегающих храмы и совершающих в них свои обряды.
Между убийством Дармы и началом движения по возвращению в Центральный Тибет буддистского монашества прошло более века, но эти усилия тормозились царившим в стране экономическими и политическими беспорядками. Для Центрального Тибета поддержка духовенства с его строительными и прочими затратными инициативами привела бы к быстрому истощению тогдашней чисто сельской экономики. На аристократическом уровне вспыхивающая время от времени борьба за власть, которой в этот период «воюющих государств» были охвачены все «четыре рога» Тибета, препятствовала наращиванию инвестиций в международную торговлю, развитию общенациональных гильдий, созданию центров производства товаров и т.п. Более того, многие представители аристократии, должно быть, были в большей степени озабочены собственной судьбой, ища свое место в изменчивых союзах, формировавших вокруг оставшихся в живых преемников Юмтена и Осунга. Но политические и экономические проблемы редко длятся вечно, и у нас есть довольно привлекательное предположение, что вторая половина десятого столетия стала временем экономической интеграции и возрождения некоторой политической стабильности.
Возможно, что самой важной причиной восстановления монашества стала глубокая неудовлетворенность состоянием просвещенности буддистских общин того времени, охватившая все слои населения. Вполне очевидно, что к концу десятого столетия стали возникать сомнения в подлинности многих буддистских практик, а вмести ними и сильное ощущение, что возрождение тибетской цивилизации самым непосредственным образом зависит от того, будут ли храмы снова заняты настоящими монахами, а не хранителями ключей от них, которые практикуют, когда им заблагорассудится2. Это чувство выражено в нескольких записях, где отмечается, что истинный буддизм сохранился за пределами «четырех рогов» Тибета, особенно на северо-востоке, где тибетцы уже давно сформировали оживленный региональный центр. Переломным моментом в религиозной истории страны стало возвращение в самое сердце Тибета Винаи, основанной на буддистской практике, сохранившейся на границе между Тибетом и Китаем.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Период «позднего распространения» Дхармы был эпохой уникальных возможностей для распространения новых религиозных систем и йогических практик (а также перевода нового «слова Будды»). Однако, он также знаменовал собой наступление времен, преисполненных трудностей и неопределенностей. Это было время, когда жители Центрального Тибета возрождали древнее учение, освобождая свое сознание от пелены психологической (а то и физической) тьмы и заново знакомясь с миром, который, как им казалось, был в их полном распоряжении. Они могли бы отвергнуть остатки позднего индийского буддизма, заимствовав его китайские разновидности, приняв веру в Аллаха как единого бога, или же просто продолжив создавать какие-нибудь новые ритуальные системы, находясь на службе аристократии. Ведь на самом деле, жители ряда районов Афганистана и Центральной Азии исповедовали буддизм гораздо дольше, чем тибетцы, да и монголы поддерживали буддизм около 150 лет, но все они со временем сдались под напором призывов или принудительных действий других религий. Однако, жители Центрального Тибета пошли своим путем: поиском источников буддийского вдохновения и воссозданием собственного тибетского буддизма.
Произведения десятого и одиннадцатого столетий создают устойчивое впечатление, что основные усилия тибетцев в этот период были направлены как на укрепление персональных прав и реализацию новых возможностей, так и на поиски взаимопонимания. Отдельные индивиды и целые кланы стремились усилить свои позиции в хаотичном и потенциально враждебном мире, ища свою идентичность в сложных построениях микрокосмической йоги и макрокосмической мандалы. Преклонение перед ритуалами абхичары Рало, неварскими магическими формулами, йогическими системами и разнообразными мистическими силами – все это является свидетельством постоянной погони за ускользающей химерой власти. Для многих тибетцев описания разнообразных ритуалов лишения жизни в работах, полученных ими от своих индийских наставников, (а также письменные свидетельства об их использовании) были красноречивым подтверждением существования отдельной категории буддистов, не доверявших своему окружению и относившихся с подозрительностью к своим собратьям. Подобным образом, распространение практик сексуальной йоги, продвигаемых отдельными переводчиками, ускорило тенденцию отказа от монашеских норм безбрачия. А появившееся в результате этого потомство членов аристократических кланов (как, например, в случае с детьми Марпы) только укрепило тибетскую предрасположенность к объединению религиозных, социальных и политических наследственных линий, так что теперь религиозная харизма, права на территорию, политический авторитет и реальная власть рассматривались как элементы одного и того же континуума.
Однако в конце этого туннеля уже был виден свет. Признавая глубокое влияние, которое ученость оказала на его столетие, Боккаччо назвал высокообразованного ученого вторым Прометеем, принесшим цивилизации новый огонь вопреки воли богов121. Нет сомнений, что тибетские переводчики пользовались аналогичным уважением и почетом, даже если им иногда (как Прометею) приходилось страдать от последствий своей гордыни. Конечно, десятое и одиннадцатое столетия Центрального Тибета еще мало в чем соответствовали идеалам, воспетым в цветистом панегирике учености, с которого начинается «Истории Дхармы» Бутона (1322). Однако, мы можем себе представить, какое впечатление должны были производить изысканный интеллект и утонченный ум на тех, кто обладал лишь политической властью122. Собрание переводчиков и ученых в Толинге в 1076 году на самом деле казалось предвестником новой эпохи (по крайней мере, так его трактовали сами участники в своих более поздних описаниях)123, поскольку им удалось добиться того, в чем их предшественники потерпели неудачу. Они смогли сформировать устойчивые институты, существовавшие уже целое столетие и ежедневно завоевывавшие признание широких слоев населения; разработать средства, гарантирующие, что продвигаемые ими ценности будут воплощены в этих учреждениях; формализовать критику местного сочинительства – и все это ради того, чтобы истинная Дхарма Индии воцарилась на самом высоком уровне.
В процессе этого они попытались создать в У-Цанге новую текстовую культуру, опиравшуюся на литературные стандарты современной им Индии, которые стали для них эталоном святости, элегантности и организации перевода124. Индийские сочинения являлись текстуальной иконой того времени, поэтому тибетцы без колебаний заимствовали используемые в них подходы к построению вступительной части, комментированию, резюмированию и т.п. Однако в итоге в Тибете так и не сформировалось единого текстуального сообщества, поскольку все противостояло установлению единообразия текстовой культуры: и проникновение во все слои общества тибетских нарративов, и быстрое появление множества священных текстов местного происхождения, и разрозненность индийских линий передачи, и сильные позиции учебной программы восточной Винаи. По этой причине, тибетцы не смогли создать общей тантрической программы, так и оставась в неведении, что единый свод знаний является высшим достижением буддистского мира. В этом вопросе их поведение ничем не отличались от многих других буддистских культур, однако резко контрастировало с европейским опытом.
Возможно, что новый акцент на мистическое знание (jnana) и самоосознавание (rang gi rig pa) литературы периода с десятого по двенадцатое столетия является прямым следствием выбора именно такого пути. Казалось, что новое знание с его впечатляющим когнитивным потенциалом должно было оказать ни с чем не сравнимое воздействие, т.к. его возможности намного превосходили все, что было известно ранее, однако, тибетцы попросту не смогли отказаться от своего славного прошлого. Кроме того, погрузившись с головой в драматические события тех времен, тибетцы совершенно упустили из виду, что однажды взявшись за восстановление письменной культуры, необходимо все время ее развивать и поддерживать. При чтении агиографий переводчиков вновь и вновь поражаешься тому, что решение об институционализации изучения классического языка, оказавшее столь явное влияние на итальянское Возрождения и последующие этапы культурного развития, так и не было принято в Тибете. Подобно европейской цивилизации, впитавшей в себя наследие классических греческого и римского миров, возрождающаяся тибетская культура напрямую зависела от импорта религиозных и интеллектуальных моделей из Индии. Но при этом, вполне очевидно, что Тибет практически не предпринимал попыток институционализировать изучение санскрита. Тибетцы хранили санскритские тексты в монастырских библиотеках Самье, Нгора, Ретренга, Сакьи и пр., помимо этого в непосредственной близости от них в Непале находились большие архивы и анклавы ученых, изучающих санскритский буддизм. Однако, большинство тибетских священнослужителей предпочитали просто запоминать переводы, а не читать их сохранившиеся оригиналы или же снова окунуться в океан санскритской литературы. За исключением отдельных эксцентричных личностей, предпринимавших ради этого путешествия в Непал, изучение санскрита в Тибете фактически прекратилось к концу четырнадцатого столетия.
Кроме того, многие переводчики воспринимали свое обучение как важный этап на пути к повышению их правового и социального статуса. Т.е. для них их интеллект и ученость являлись лишь инструментом для достижения личных целей. Переводчики были звездами развивающейся культуры Центрального Тибета, и они это знали. Однако, любое сходство между данными персонами и великими писателями итальянского Возрождения следует воспринимать с большим сомнением. Переводчики тантрической литературы Центрального Тибета одиннадцатого столетия слишком часто подменяли буддистский идеал индивидуального освобождения неким спущенным им свыше правом распространять Дхарму, которым к тому же можно было щеголять перед другими. Те, кто придерживался такой системы ценностей, плохо усвоили уроки, прослушанные ими в великих монастырях Магадхи, Бенгалии и Кашмира, сделав упор в своей деятельности на нерелигиозные достижения. Вместо того, чтобы направить свои усилия на достижение совершенства в мистическом знании, они обратились к вполне очевидным целям, лежащим в основе мировоззрения политически и культурно раздробленного Тибета тех времен: контроль, господство, авторитет, власть и право карать. Тем не менее, в тибетской сангхе было достаточно много скромных ученых (сразу же приходит на ум Нагцо-лоцава), однако, большинство из них не относилось к известным наставникам мантраяны, а специализировалось в эпистемологии или практиках пути бодхисатвы. Таким образом, тантрические переводчики, а в первую очередь Дрокми-лоцава и его коллеги, представляли собой реальное воплощение недвойственности нашего мира (со всеми его чаяниями и притязаниями) и абсолюта.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Достаточно сложно ответить на вопрос когда и как с исторической точки зрения возник т.н. «феномен терма». Это связано с тем, что в действительности мифология терма развивалась по трем взаимосвязанным и взаимно подкрепляющим друг друга направлениям. Во-первых, текстам, созданным или явленным в более поздние периоды, нередко присваивалась более ранняя атрибуция, причем как в отношении времени их написания, так и в отношении времени их открытия. Этот процесс начался довольно рано и со временем приобрел кумулятивный характер, поэтому к девятнадцатому столетию «Драгоценная сокровищница» Конгтрула и «Агиографии 108 открывателей сокровищ» по большей части были заполнены довольно поздними текстами и сомнительными агиографиями, выдающими себя за ранние писания. Во-вторых, уже в ранние времена стали появляется отдельные тексты, предсказывающие будущие открытия «сокровищ» с указанием мест их обнаружения и их открывателей. К четырнадцатому столетию Ургьен Лингпа приводит в своих работах множество имен предполагаемых открывателей, хотя ближе к концу его списка они уже выглядят довольно стереотипно58. Эта тенденция породила феномен т.н. «самоисполняющихся пророчеств», поскольку отдельные индивидуумы более поздних времен, уже социализированные в системе «сокровищ», стали отождествлять себя с личностями, указанными в этих «пророческих» источниках (как, например, Ургьен Тердак Лингпа (1646–1714)), а затем разыскивать терма, следуя приведенным в них описаниям. Такие описания со временем развились в вполне официальные секретные руководства (byang bu), которые информировали потенциального открывателя терма о соответствующих знамениях и местах сокрытия «текстов-сокровищ». Т.е. теперь для того, чтобы бы найти истинное терма, человек должен был быть обладателем специального «поискового» терма59. И наконец, главным побудительным мотивом создания этой тщательно проработанной мифологии стало огромное изобилие тантрического материала, созданного самими тибетцами и в основной своей массе являвшегося анонимным. К двенадцатому столетию начал формироваться Старинный тантрический канон (rNying ma rgyud ‘bum), в который была включена и литература терма. Далее мы рассмотрим каждое из этих трех направлений более подробно
Согласно стандартной историографии открытие текстов терма началось в десятом столетии. Именно в этот период открывателями «сокровищ» (gter ston) как бонского, так и буддистского толка были впервые обнаружены тексты имперского династического периода. При этом легенды бонпо гласят, что многие из них были найдены благодаря счастливой случайности торговцами или странствующими охотниками за сокровищами, такими как три знаменитых непальских ученых, скитавшихся по Тибету в поисках доступного золота60. Опубликованная Кварне (Kvarne) хронологическая таблица бонпо, а также современная «Сокровищница благих изречений», переведенная Кармаем (Karmay), указывают на то, что, по всей видимости, бонские терма были впервые обнаружены в десятом столетии61. Тем не менее, самым ранним открывателем бонпо, тексты которого, как считается, дошли до наших дней, является Шенчен Луга, открывший терма в 1017 году. С тех пор этот год считается очень значимой датой для всех последователей бонпо62.
У буддистов самым ранним открывателем «текстов-сокровищ» считается Сангье Лама, который, согласно источникам, жил и трудился во время первой половины жизни Ринчена Зангпо (958–1055), однако, его имя отсутствует в списке открывателей терма, чьи тексты сохранились до наших дней63. Согласно сообщению Конгтрула от девятнадцатого столетия его близкий коллега Джамьянг Кхьенце Вангпо таинственным образом обрел терма, которое по его же утверждению впервые было открыто Сангье Ламой, затем утеряно и повторно открыто (yang gter) Кхьенце. Конгтрул воспроизвел этот текст в своей великой «Драгоценной сокровищнице» (Rin chen gter mdzod), однако, его ценность для ранней истории терма выглядит весьма сомнительной64. И «История Дхармы» (Gur bkra chos ‘byung) Гуру Траши, и «Агиография 108 открывателей сокровищ» (gTer ston rgya rtsa rnam thar) того же Конгтрула содержат множество очень сомнительных агиографических повествований о неких открывателях одиннадцатого столетия, но практически ничего из приписываемых им текстов до наших времен не сохранилось. Более того, в некоторых случаях вызывает сомнения сам факт существования такого человека, поскольку он не упоминается ни в одном из известных нам ранних источников. Учитывая отсутствие дополнительных свидетельств, можно предположить, что многие из этих повествований не имеют исторической основы и были созданы в рамках общей стратегии подтверждения аутентичности более поздних линий передачи, опирающихся на упомянутые в них терма.
Судя по всему, пик обнаружения «текстов-сокровищ» пришелся на конец одиннадцатого и начало двенадцатого столетий. Далее мы тщательно рассмотрим некоторые из самых ранних сохранившихся произведений этого жанра, приписываемые определенным деятелям одиннадцатого столетия, но, вероятнее всего, являющиеся результатом творчества авторов (или компиляторов) двенадцатого столетия. Здесь важно понимать, что в случае с ранними терма мы имеем дело с двойной системой апокрифической атрибуции, т.е. не только сами тексты представляются как произведения деятелей, живших в имперский династический период, но и их обнаружения приписываются людям, жившим намного раньше их действительных открывателей65. Для нас наиболее важным фактором являются биографические данные личностей, которым приписываются открытия терма, поскольку некоторые из мнимых открывателей десятого и одиннадцатого столетий были хорошо известны и имели определенный политический статус. К примеру, Лхацун Нгонмо, известный как сын Бодхиратсы, монаршего покровителя Атишы, в перечне Конгтрула фигурирует как открыватель терма, но затем он же указывает, что приписываемый ему текст был обнаружен только в девятнадцатом столетии66.
Можно привести множество таких примеров, однако, мы рассмотрим только наиболее значимые. Как мы уже знаем, Драпа Нгонше (1012–1090) был очень известным монахом Восточной винаи, поскольку он интегрировал ньингмапинскую модель тантрической практики в учебную программу храмов Восточной винаи. В конце концов, он сложил с себя монашеские обеты (наряду с Дрокми, это еще один выдающийся случай одиннадцатого столетия) и стал светским гуру эзотерической системы. Ни в одном из известных нам документов, касающихся его жизнедеятельности в составе линии Восточной винаи, ничего не говорится об открытии текстовых «сокровищ», и даже апологеты школы ньингма признавали, что его традиционная агиография не содержит сведений об открытии им каких-либо «сокровищ»67. Однако к двенадцатому столетии Ньянг-рел указывает на Драпу как на открывателя «сокровищ» в удивительно коротком перечне таких персон, совершенно непохожем на сильно раздутые списки девятнадцатого столетия. «Итак, Атиша из храма Айрапало, и то, что открыто Драпой Нгонше, в то время как Латон, Ньяктон, Друптоб Нгодруп извлекли терма из-под статуи Хаягривы в храме Махакаруники (т.е. Айрапало). Я, Ньянг-релпачен, открыл терма из Самье, Трандрука и храма Кхан-тинг»68. Здесь Драпе Нгонше не приписывается ни один из «текстов-сокровищ». Кроме того, в перечне Ургьена Лингпы четырнадцатого столетия он также не ассоциируется с каким-либо текстом, а просто сообщается, что он заполнил 108 мест (текстами?) и был главой храма имперского периода69. Медицинские тексты были важной категорией терма, и Гуру Чо-ванг в своей работе подтверждает статус «сокровищ» для множества таких текстов. Однако, при этом он не упоминает, что Драпа Нгонше был как-то связан с медицинскими терма70. Похоже, что примерно в это же время Драпе Нгонше было приписано открытие четырех классических медицинских тантр, и поэтому они фигурируют в «Голубом берилле» Сангье Гьямцо (Bairjurya sngon po), хотя он, несомненно, полагался на более раннюю атрибуцию71. Довольно интересно, что некоторые традиционные тибетские ученые, исследуя утверждения об открытии «сокровищ» медицинских тантр, пришли к выводу, что Драпа Нгонше практически не имеет отношения к медицинским терма72.
Точно так же нет особых причин верить в то, что сам Атиша или кто-либо из его ближайшего окружения имели хоть какое-то отношение к знаменитому «Колонному завету» (bKa’ ‘chems ka khol ma), хотя рассказ об этом событии вроде бы должен вызывать доверие, поскольку в самом тексте обсуждается, каким образом Атиша обнаружил данный «Завет». Однако, последующие учителя кадампы, имевшие сильный уклон в сторону ньингмы, такие как, например, живший в двенадцатого веке Шангтон Дарма Гьелцен, выдвигали на роль открывателя этого великого текста гораздо более подходящих кандидатов. Свое мнение имели и многочисленные представители кагьюпы, чьим претендентом на эту роль после восстановления Джокханга стал Дакпо Гомцул (1116–1169), который также упоминается в «Колонном завете»73. Кроме того, мы располагаем примерами текстов, прямо утверждающих об их открытии деятелями движения «новых переводов». Эти заявления нигде и ничем больше не подтверждаются и, как кажется, являются вполне очевидной попыткой придания легитимности неизвестному писанию посредством ассоциации со знаменитой личностью. К примеру, в Канджуре из Пукдрака фигурирует тантра под названием «Владычественная тантра мантры жизни Рематис» (Re ma ti srog sngags kyi rgyud kyis rgyal po)74. В ней утверждается, что этот текст был сокрыт Падмасамбхавой и впоследствии обнаружен Дрокми. Но мне, хорошо изучившему его творческое наследие, трудно поверить в участие Дрокми в подобных открытиях терма. На самом деле, невольными персонажами агиографического творчества, связанного с открытием терма, стали сразу несколько переводчиков одиннадцатого столетия, в том числе Рало, Гья-лоцава и Ньо-лоцава75. Из всего этого напрашивается вывод, что в данном случае мы имеем дело с примерами методологии, принятой на вооружение более поздними авторами, которая основывалась на отождествлении их собственных произведений с давно умершими знаменитыми личностями.
Кроме того, в одном из разделов «Колонного завета», ставшим одним из самых влиятельных источников в литературе терма, указывается, где будут обнаружены будущие «сокровища». В этом разделе, который следует сразу после наставлений о том, как писать терма и рисовать картины, рассказывается, где они должны были быть сокрыты и, соответственно, где они могут быть обнаружены. А в середине своих наставлений по строительству Джокханга Сонгцен Гампо дает указания своей непальской супруге спрятать «сокровища» в различных местах на территории этого храма, а также в других храмах империи:
«Для того, чтобы распространять святую Дхарму на этой покрытой снегами земле Тибета, спрячьте сокровище Дхармы в месте, расположенном рядом с “лиственной” колонной [Джокханга]. Благодаря своим качествам Дхарма распространится среди всех живых существ этой покрытой снегами земли, моих министров и императорских потомков. Поэтому, чтобы защитить их от тех, кто мог бы причинить им вред, спрячьте сокровище свирепой магии заклинаний в месте, расположенном рядом со “змееголовой” колонной. Благодаря ее благодатности, ни одному человеку или иному живому существу, верящему в Лхасу, не будет причинено вреда. Чтобы убедиться, что злые мантры не причинят вреда, и чтобы повернуть назад армии из пограничных государств, спрячьте перевернутое сокровище в месте, расположенном рядом с колонной «львиной дойки»[?]. Благодаря его благодатности, ни одному человеку или иному живому существу, верящему в Лхасу, не будет причинено вреда. Спрячьте сокровище медицинской практики в месте, расположенном рядом с “лиственной” колонной… [далее следует еще много указаний, касающихся Джокханга]. Кроме того, спрячьте сокровище, предназначенное лу в храме Трандрук в Йору. Спрячьте вечное бонское сокровище в храме Кхон-тинг в Лхо-драке. От этого будет огромная польза для последующих поколений простых людей. Спрячьте астрологическое сокровище в храме Лонгтанг Дролма в Кхаме. Спрячьте главное сокровище мантры в храме Бур-чу в Конгпо. Спрячьте сокровище с инструкциями по медитации в храме Дромпа-гьянг в Цанге. Благодаря его силе в Цанге проявится множество сиддхов. Спрячьте сокровища множества подразделений имперской наследственной линии в храме Пел-чен в Чанге. Благодаря этому императорский род никогда не прервется76».
Вышеперечисленные храмы имели особую значимость не только в одиннадцатом столетии, но и в имперский период, поскольку в те времена они служили хранилищами копий имперских постановлений. Поэтому в период раннего возрождения их архивы представляли собой мешанину из реальных и выдуманных имперских документов77. Со временем данный раздел «Колонного завета» превратился в образцовую модель для множества будущих пророчеств терма. Кроме того, начиная с конца двенадцатого столетия, он постоянно прирастал новыми дополнениями78. Тексты, подобные приведенному выше, преследовали две равнозначные цели. Во-первых, они подтверждали достоверность апокрифических писаний прошлого, которые представлялись их создателями как результат имперских замыслов. Во-вторых, они способствовали легитимизации новых сочинений последующих времен, поскольку эти, в том числе и неписанные, тексты открывались как скрытые писания из прошлого.
Одной из наиболее важных задач терма в период с десятого по двенадцатое столетия было подтверждение подлинности все разрастающегося объема ньингмапинских тантр класса «кахма» (kahma) – апокрифических произведений, которые, как считалось в традиции, ведут свое происхождение из периода «ранних переводов». Применение методики обнаружения «текстов-сокровищ» позволяло без проблем превращать многочисленные сомнительные тексты кахмы в истинные тантрические писания, поскольку из подлинности одного из них следовала подлинность всех связанных с ним тантрических произведений. Это было важнейшим решением, позволившим обеспечить выживание автохтонных тибетских писаний, а также сохранить авторитет держателей линий передачи этих текстов, поскольку ранние тантры ньингмы не соответствовали стандартам новых тантрических писаний, пришедших из Индии в одиннадцатом и двенадцатом столетиях. Как уже указывалось ранее, большинство ранних ньингмапинских тантр гораздо более философичны и абстрактны и этим во многом отличаются от своих индийских прототипов, где основной упор делается на ритуалистику. Кроме того, многие тантры кахмы и терма опираются на доктрины и медитативные практики Великого совершенства (rdzogs chen), его лексикон и модели реальности.
Одним из главных объектов антиньингмапинской критики являлся как термин, так и само понятие «Великое совершенство». Это было связано с тем, что ассоциируемые с ним доктрины и практики не помещались в рамки нормативного индийского представления о сущности эзотерического буддизма. Переводчики одиннадцатого столетия были очень хорошо осведомлены о том, что в индийских священных писаниях отсутствуют концепции, которые хоть как-то могли бы соответствовать широкому диапазону идей и вариантов медитативных практик, условно классифицируемых как Великое совершенство. Причина такого расхождения заключается в том, что Великое совершенство было исконно тибетским творением, при этом его литература содержала одни из самых оригинальных концепций в истории буддизма, сопоставимые с творчеством таких восточноазиатских деятелей, как, например, Догэн. В любом случае, большинство текстов Великого совершенства изначально не считались «сокровищем», а были частью непрерывно передаваемого наследия кахмы (bka ma) имперского периода. Следует также отметить, что история защиты «текстов-сокровищ» наглядно демонстрирует тот факт, что кахма и терма взаимно поддерживали друг друга, и что одно не могло функционировать без другого79.
Существует, как минимум, одна группа текстов, в которой так или иначе присутствуют обе эти категории. Речь идет об одной из самых значимых систем Великого совершенства одиннадцатого и двенадцатого столетий, которая представлена текстами «Основополагающей сущности» (sNying tig), иначе называемыми семнадцатью тантрами «Собрания наставлений» (man ngag sde)80. Этот свод священных писаний, как мне кажется, был создан в одиннадцатом и двенадцатом столетиях, а у его истоков стоял аристократический клана Че (lCe), которому позже помогал Жанг. Сохранив свои связи с имперским династическим периодом, выжив во времена распада государства и последующих беспорядков и возродившись в былой силе в период «нового распространения» Дхармы, Че представлял собой клан, который сумел разработать собственную стратегию выживания, во многом опиравшуюся на религиозные ценности. Его члены обладали огромной властью в Цанге, особенно в долине реки Ньянг, построив как минимум два укрепленных дворца и контролируя, как и многие другие великие кланы того периода, духовную и светскую деятельность 81. Члены семейства Че основали и следили за содержанием монастыря Шалу, который в конечном счете сыграл чрезвычайно важную роль в формировании тибетского буддийского канона, надолго став обителью Бутона Ринчендрупа. Члены клана Че предпринимали путешествия в Индию с целью получения монашеского посвящения, были держателями линий передачи отдельных систем ньингмы, а также активно участвовали в открытии «сокровищ» как в У, так и в Цанге. Подобно Кхонам, которые рассматриваются в следующей главе, и другим великим тибетским кланам, Че в полной мере олицетворяли собой жизненную силу тибетского религиозного ландшафта одиннадцатого и двенадцатого столетий.
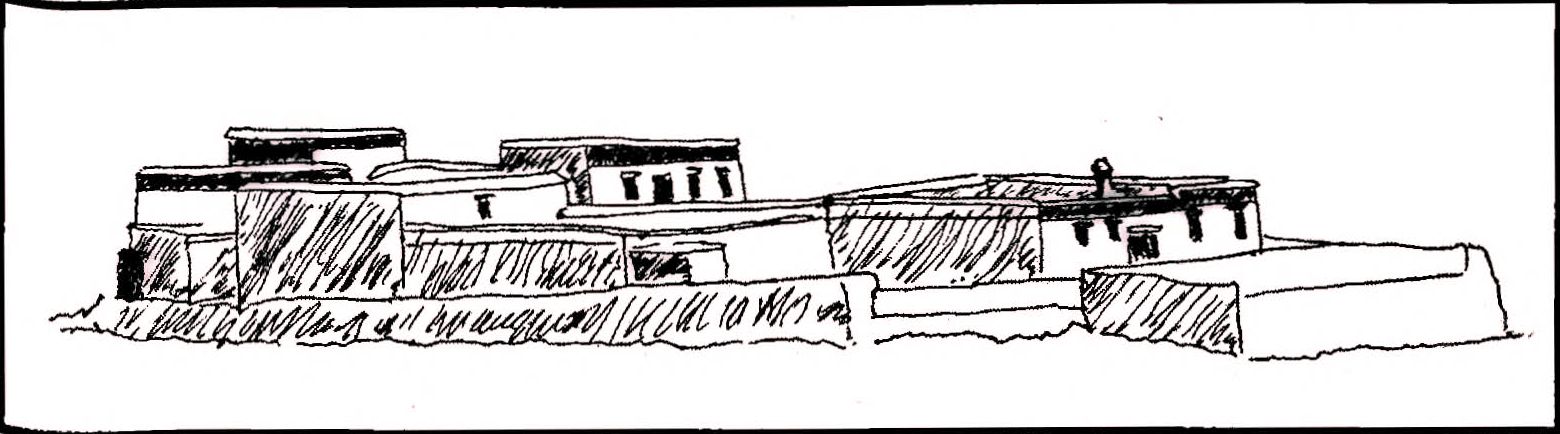 |
|
Илл. 14. Же-лхаканг. Прорисовка по фотографии Ричардсона
|
Нет никаких сомнений в том, что семнадцать тантр были корпусом «текстов-сокровищ», даже несмотря на то, что они не ассоциированы с великим Гуру Падмасамбхавой, а позже были включены не в собрания «текстов-сокровищ», а в компендиумы передаваемой традиционным образом кахмы. Причиной такого несоответствия является то, что история тибетских «сокровищ» в одиннадцатом и двенадцатом столетиях представляла собой череду конкурирующих взглядов на события раннего периода, в которых фигурировали такие разные персонажи, как Байрочана, Сонгцен Гампо, Вималамитра и Падмасамбхава. В нашем случае эти семнадцать тантрических текстов представлялись в качестве наследия Вималамитры – монаха восьмого столетия, который, пожалуй, бы изумился, узнав, что является центральной фигурой этой традиции. Общепризнанное свидетельство открытия этих семнадцати писаний можно найти в колофоне самой длинной из тантр данной группы: «Великой тантры самопроявления чистой осознанности» (Rigpa rang shar chen po’i rgyud). Этот колофон содержит агиографическое открытие данного текста Дангмой Лхунгьелом, членом старинного клана Данг(ма) и смотрителем древнего храма Же-лхаканг, одного из старинных имперских храмов Уру, расположенного к востоку от Лхасы (Илл. 14)82.
«Да хранят Слово Защитники, [Махакала] брат и сестра! Да перережут они жизненную жилу тем, кто оскверняет свои обеты, высасывая кровь из их сердец! Да хранит Слово темно-багровая Гневная владычица Экаджати! Пусть владыка славного Же-лхаканга, держатель обета, освободит это Слово, лишив свободы тех, кто не дал надлежащих обетов! Если оно дано тем, кто нарушил свои обеты, да будут они приговорены восемнадцатью классами даков! В те времена эта тайная Разъяснительная тантра была переведена [Вималамитрой] с трех разных языков и передана двоим: владыке [Трисонгу Децену] и министру [?Ба Селнангу, ?Дранке Пелиону], однако, эта великая тантра далее не была передана Ньянг-бену. Заключив ее между двумя украшенными драгоценностями хрустальными обложками и поместив в серебряный реликварий, владыка [Трисонг Децен] скрепил его четырьмя большими гвоздями. Затем владыка сказал Ньянг-бену: “Поскольку это вредоносная мантра (текст), которая может расколоть Тибет, если случится так, что она расколет Тибет, перемести ее в отдаленную местность”. Дав наставление таким образом, он завернул ее в черный войлок из шерсти яка и вручил ее только одному Ньянг-бену. Затем великий Ньянг-бен спрятал ее в Же-лхаканге, доверив ее владыке Дре-тагчену. Это был безошибочный тайный замысел владыки [Трисонга Децена]. Затем стхавира Дангма даровал ее Че-цуну Сенге Вангчуку, а Лхадже [Дангма] очень подробно разъяснил практические указания, касающиеся этого текста. Он научил Че-цуна практиковать способом, совершенно отличным от любой другой практики. Это священное наставление секретного множества затем было спрятано отдельно. Будьте уверены, что этот повелитель священных писаний не встречается больше нигде в Джамбудвипе! Нет необходимости слушать [объяснение писания], достаточно просто обладать текстом [чтобы осознать его]! Если же дать этого повелителя наставлений тому, кто не является подходящим сосудом, то оба будут уничтожены. Пусть он будет найдён тем, кто учён и одарён правильной деятельностью! Тогда да пребудет Учение о Тайных мантрах на долгие времена! Прояснится туман невежества живых существ! Безумец Че-цун, такой же, как и я, послал мне эту устную линию преемственности ученых Индии, заключенную в этом глубоком наставлении о совершенном смысле. Это глубокое наставление, редкостное и непонятное для всех, было сокрыто, как земное сокровище83. “Пусть оно будет найдено одним из тех, кто ведет надлежащую деятельность!” Так владыка Че-цун, изъявив свое желание, спрятал писание, как земное сокровище. И это было правильным».
В «Великих анналах линии основополагающей сущности» (sNying thig lo rgyus chen mo) излагается несколько иная версия сокрытия и обнаружения материалов «Ньинг-тика». Однако, нет никаких сомнений в том, что оба повествования имели своей целью декларирование ряда особых тибетских ценностей84. Во-первых, стандарты духовности могли появиться только во времена великой Тибетской империи, но никак не в период раздробленности Тибета. Причем эти стандарты являются единственно истинными и поэтому не зависят от того, сколько новых писаний и наставлений было доставлено в Тибет более поздними переводчиками. Во-вторых, причина, по которой древние писания были неизвестны нынешним индийцам, заключается в том, что это более позднее выродившееся поколение индийских пандитов было неспособно войти в контакт с духовными силами, которые поддерживали и продолжают поддерживать Тибет. В-третьих, сокрытие и последующее возвращение тибетцам истинного священного писания в полной мере соответствует замыслам императора Трисонга Децена. В-четвертых, поскольку автохтонные защитники и второстепенные боги Тибета являются неотъемлемой частью этой непрерывно развивающейся духовности, то отказ от их посреднических функций (как это предлагалось новыми переводческими традициями) не только бы нанес оскорбление великим прародителям империи, но и стал бы угрозой для существования самого Тибета. И наконец, представители тибетской религии имперского периода никогда не покидали тибетцев, поэтому постоянное присутствие Вималамитры, Падмасамбхавы, Трисонга Децена, Авалокитешвары и пр. поддерживало Тибет в те мрачные времена, что наступили вслед за падением империи. Поэтому тибетцы подвергают себя серьезной опасности, когда игнорируют материальное наследие в виде священных писаний, которое эти благородные личности в свое время сокрыли ради будущего блага крыши мира.
Гениальность идеи терма заключалась в том, что благодаря «текстам-сокровищам» Тибет стал активным и равноправным партнером всей буддистской вселенной. Вместо того, чтобы быть взъерошенным пасынком великой индийской цивилизации, снежная земля Тибета с помощью терма превратилась в подлинно буддийскую территорию со своим источником слова Будды. Терма произвело литературное воскрешение имперских предков тибетцев, которые, согласно этим текстам, ведут свое происхождение из глубины веков от индийского клана Шакья, как и сам Будда Шакьямуни. Также благодаря литературе терма первый тибетский император Сонгцен Гампо стал эманацией бодхисатвы Авалокитешвары. В процессе формализации терма с опорой на личность Падмасамбхавы малоизвестный индийский маг стал символом взаимодействия двух соседних культур. Он женился на тибетской принцессе, был одновременно и великим правителем, и буддой, постоянно являл себя своим тибетским последователям и творил свою магию, невзирая на иерархию и приводя в одно мгновение к смирению как духов, так и императоров.
Вряд ли можно сомневаться в том, что такая литература одновременно и обнадеживала, и побуждала к действию аудитории как высокого, так и низкого уровня – от имперского двора до сельского населения. Кроме того, в своих повествованиях «тексты-сокровища» опирались на знакомый культурный ландшафт: гробницы древних правителей; семейства, не давшие распасться Центральному Тибету в разгар гражданской войны; наследие старой империи; монаршии храмы, которые одновременно смиряли демоницу и были культовыми местами паломничество; авторитет тибетского языка, а также множество других местных культурных особенностей. Новые религиозные материалы позволили тибетцам сформулировать свой нативистский ответ в тот момент, когда их уже охватывало чувство неуверенности. Этот ответ впитал в себя основную часть нового учения и представил его в обнадеживающем формате, который вселял уверенность в тибетском превосходстве во всем священном.
Общепринятая орфографическая транскрипция тибетских слов включает в себя массу согласных, которые простой смертный попросту не сможет воспроизвести, не зная всех особенностей употребления непроизносимых букв, сдвигов гласных, тональных модификаций, а также множества других тонкостей, необходимых для их понимания. Следуя примеру некоторых своих коллег, я применил метод правописания аналогичный тому, что использовал в ряде своих публикаций Тони Хубер (Toni Huber), но с поправкой на то произношение, с которым я чаще всего сталкивался во время своего обучения у лам Цанга. Главным моим нововведением является использование гласной «é», которая произносится как «ау» в английском слове «day». Я также использовал умлаут как для назализации гласных (например, в названии клана Khön), так и для того, чтобы подчеркнуть (как в случае с Deü) раздельное произношение гласных, читаемых последовательно. У этих вариантов, конечно же, есть свои недостатки, но они все же лучше множества других альтернатив. Как говорится: «У каждого ламы свое учение, у каждой долины свой диалект». Так что, хотя я и знал, что имя выдающегося учителя произносится как «Потова» (Potowa), я спокойно относился к тому, что мой собственный учитель обычно говорил «Потоба» (Potoba). Для знатоков тибетского языка в конце тома я поместил орфографический справочник, переводящий мою транскрипцию в стандартную систему Уайли, при этом во всех примечаниях мною используется общепринятая тибетская орфография. Санскритские слова латинизированы в соответствии со стандартным методом транскрипции, а несколько китайских слов были транскрибированы с использованием системы пиньинь.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
Я построил этот монастырь Сакья на вершине крепости духов лу, чтобы в последующие времена его благосостояние прирастало. Но есть риск, что лу причинят людям вред, если практика этого места станет вульгарно тибетской. Так что возьмите мое чистое тело, вложите его в пилюли и поместите в ступу, установленную над ущельем Лагеря копьеносцев. Я буду пребывать там.
Последний завет Кхона Кончока Гьелпо, 1102 г. 1
|
Ко второй половине одиннадцатого столетия тибетцы достигли поистине выдающихся успехов. Центральный Тибет обрел такую экономическую жизнеспособность и социальную стабильность, о которой в десятом столетии можно было бы лишь только мечтать. Разнообразные истории повествуют нам о состоятельных кланах У-Цанга, обладавших изрядными материальными и финансовыми ресурсами, причем некоторые из них обрели все эти богатства только в недавние времена. Теперь у тибетцев был свой собственный, постоянно развивающийся литературный язык, благодаря которому им стало доступно огромное количество количества переводов ритуальных и философских материалов, выполненных переводчиками, которые постоянно совершенствовали свою ученость и утонченность изложения. Тибетцы наслаждались возрожденным чувством идентичности и собственной значимости, отчасти возникшим вследствие переформатирования исконно тибетских идей с использованием метафорических образов «текстов-сокровищ», посредством которых императоры прошлого продолжали проявлять свою заботу о землях своих потомков. Монахи Восточной винаи организовали всеохватную сеть храмов, позволявшую любому монаху путешествовать от непальской границы до Конгпо, делая остановки в буддистских храмах и монастырях практически на всем своем пути.
Однако оставалось еще множество проблем, поскольку центрально-тибетский ренессанс нес в себе ощущение не только новизны, но и определенной неустойчивости в части душевного равновесия. И самым главным здесь было то, что новые тантрические линии передачи пока что испытывали некоторую институциональную нестабильность. Религиозные традиции становятся устойчивыми, когда их институции демонстрируют централизованность и долговечность, но в этом-то и состояла главная проблема переводчиков, их ближайших последователей и их потомков. Две обуславливающие ее причины вполне очевидно проявили себя в конце одиннадцатого столетия. Во-первых, новые институции основывались ради достижения совершенно разнородных целей, т.е. религиозное подвижничество никак не отделялось от устремлений к вполне овеществленному мирскому успеху. Во-вторых, тантрическая парадигма не просто препятствовала политическому объединению, но и принижала статус последователей и преемников различных парадигматических лидеров, поскольку тантрические наставники (как ньингмы, так и сармы) продолжали занимать положение квазифеодальных вождей. Характерно, что переводчики одиннадцатого столетия оставляли после себя как семейную линию передачи для своих сыновей, наследовавших их недвижимость и богатство, так и одну или несколько религиозных линий для своих учеников, которые передавали их учения другим, причем эти две линии совпадали достаточно редко. В следующем столетии многие из этих проблем были разрешены с помощью различных средств, причем применение некоторых из них можно было наблюдать уже в конце одиннадцатого века.
В этой главе рассматриваются события второй половины одиннадцатого столетия, которые ранее еще не обсуждались. Помимо прочего, здесь проводится краткое исследование притока новых религиозных материалов, осуществлявшегося под эгидой одного из самых сомнительных деятелей одиннадцатого века Падампы Сангье, т.к. это явление особо наглядно иллюстрирует непрекращающийся процесс взаимных уступок между индийской и тибетской культурами. Мы также рассмотрим новые религиозные формы представителей кадампы и кагьюпы, так или иначе связанные с народной религией, и продемонстрируем их творческий подход к формализации исконно тибетских образов. Кроме того, в одиннадцатом столетии возродилась значимость добродетели, и авторитеты кадампы стали особо подчеркивать важность махаянских идей чистоты помыслов и кармы. Последняя четверть столетия стала ключевым периодом в развитии новой ортодоксии. Именно в эти времена у тибетцев возникло понимание необходимости надлежащего подхода к богатству индийских доктринальных материалов, включающего в себя стратификацию индийских текстов и идей по согласованной шкале ценностей, а также, при необходимости, и валоризацию тибетских сочинений. В данной главе также обращается внимание на проблемы тантрической передачи, возникающие после смерти известного деятеля какой-либо линии (в данном случае Дрокми), а завершается она рассмотрением истории возникновения клана Кхон, его мифологии и основания им в 1073 году своего центрального учреждения – монастыря Сакья. Во всех этих случаях новые системы постоянно поддерживали общение и вырабатывали принципы взаимодействия с ньингмой и другими местными религиозными и литературными традициями. Поэтому все успешные линии передачи сармы в конечном счете так или иначе пришли к определенному сближению со старыми формациями.
Эзотерический буддизм возник в начале седьмого столетия вследствие произошедшей в период раннего средневековья регионализации индийской государственности и религии. В Индии это выглядело как более или менее успешная реорганизация различных религиозных сообществ, направленная на решение проблем, возникавших вследствие экономической дестабилизации, миграции населения, утраты покровительств, новой изменчивой политики саманта-феодализма, роста значимости кастовой системы и почитания богов, а также возникновения новых региональных центров. Помимо этого, данные сообщества столкнулись с драматическими изменениями в своей буддистской идентичности, выразившимися в прекращении участия в их делах женщин, смещении интеллектуальных ценностей в сторону брахманических моделей, а так же утрате ими роли как этического, так и интеллектуального центров притяжения. На эти вызовы индийские буддисты ответили заимствованием и сакрализацией отдельных аспектов социально-политической сферы, хотя этот ответ привносил в их среду новую для буддистской традиции внутреннюю напряженность. С одной стороны были те, кто одобрял и сакрализовывал real politik того времени в лице буддистских монахов великих монастырей долины Ганга, а также (хотя и в ограниченной степени) некоторых других мест. Используя модель становления «верховным правителем» (rajadhiraja), они разработали и повсеместно распространили медитативную систему с сопутствующими ей ритуалами, которая наглядно демонстрирует их глубинное понимание сущности идеалов и методов саманта-феодализма. Создавая сакральные буддийские парадигмы властных отношений, основанные на принципах функционирования окружавших их политических мандал, они трансформировали идею центральных зон власти и буферных клиентских государств в систему отношений между буддами и бодхисатвами в визуализируемых священных сферах.
На другом конце религиозного спектра располагалась недавно возникшая формация сиддхов, целью которых была личная власть в качестве верховного повелителя магов (vidyadhara) и даже самих богов. Традиции сиддхов также культивировали политику господства и контроля, которая, однако, была сфокусирована на интересах отдельного сиддхи, а не на улучшении положения окружающего его сообщества. Присваивая и перерабатывая методы, заимствованные из шиваизма и других источников, буддистские сиддхи создавали невиданные ранее в буддистском мире радикальные медитативные техники, используя при этом язык, который был одновременно игривым и свирепым, эротичным и разрушительным. В средневековой Индии сиддхи буддийского толка, самым наглядным примером которых являлся Вирупа, стали активными поборниками использования региональных языков и культур, самоутверждения племен и сегментации власти. Они вынуждали монастыри реагировать на их новые ритуалы и системы йоги разработкой новых формы герменевтики, освоением быстро развивающейся иконографии, а также использованием песен и танцев в ритуалах подношений новым формам будд. Кроме того, монастырские учреждения оказались вовлечены в создание совершенно нового канона, в котором махайога- и йогини-тантры порой находились в тени новых йогических наставлений (upadesa), переданных определенному сиддху, причем зачастую женским проявлением абсолюта.
Тибетцы, невары и другие гималайские народы взяли на вооружение новаторские разработки седьмого-одиннадцатого столетий и задействовали эти новые формы буддизма в деле возрождения своих фрагментированных культур. Если в Индии обе системы: институциональная и сиддховская, возникла в результате воздействия на общества череды непреодолимых трудностей, то в Центральном Тибете данные формы религии стали тем связующим компонентом, который переводчики одиннадцатого столетия использовали для воскрешения тибетской идентичности и создания неразрывной связи между ней и эзотерической буддийской практикой. Тибетцы только что пережили мрачный период своей истории, последовавший за распадом империи, и находились в поисках вдохновляющей формы буддизма, способной обеспечить общетибетский дискурс о превращении яда хаоса в нектар цивилизации. Грубый язык новых писаний, магическое очарование и скользкая этика тех, кто его использовал, а также ярко выраженный акцент на харизматических личностей – все это привлекало не только определенную часть зарождающейся тибетской интеллигенции, но и многих представителей великих кланов Тибетского плато. Они обосновывались в действующих храмах и небольших монастырях, возрожденных монахами Восточной винаи, получивших посвящение в уцелевших храмах Цонкхи и принесших свои монастырские программы обучения в Центральный Тибет. Следующим поколением буддистских подвижников стали великие переводчики, которые благодаря своим способностям и преданности делу смогли повторно объединить тибетскую духовность с индийским буддизмом, смыв таким образом пятна позора с разбитой имперской мечты целебными водами индийской религии.
Начинающие переводчики отыскивали новые священные писания в великих монастырях и скромных медитационных убежищах Индии, Кашмира и Непала. Личность добившегося успеха в своей деятельности переводчика, как правило, характеризовалась рядом типовых качеств: феодальный статус, обретенный благодаря личной харизме; принадлежность к какому-либо клану; утонченная ученость; проявлявшаяся время от времени истинная святость; ритуальная виртуозность; и неоспоримая преданность любимому делу. Дрокми Шакья Еше и его современники использовали ценности средневекового индийского мира для воссоздания и реформирования тибетской культуры, одновременно с этим стремясь внедрить такую культуру в существующие социальные отношения, что только упрочивало фрагментацию и политическую разобщенность страны. Ни личная скупость Дрокми, ни этические прегрешения Гаядхары не убедили тибетцев в том, что такие системы религиозности дорого обходятся им самим и их обществу. В качестве компенсации за свои исторические ошибки эзотерические переводчики одиннадцатого столетия совершили один из величайших интеллектуальных подвигов в истории, переведя на классический тибетский язык обширный свод ритуальных, медицинских и философских доктрин. В то время как контролируемые переводчиками храмы редко добивались стабильного признания, монастыри, возведенные их непосредственными последователями, смогли обрести новую социальную форму, совместив идею религиозной линии передачи с устойчивой системой наследования родовых владений, т.е. добились того, что ранее оказалось не по силам монахам Восточной винаи.
Период возрождения отмечен началом процесса тибетизации местной религии, в рамках которого происходил активный поиск и изучение останков имперского религиозного наследия. Опираясь на формы религии, уцелевшие после распада династии, традиции ньингмы начали разрабатывать новые разновидности ритуалов и духовной литературы. Движущей силой этого процесса отчасти была реакция на новые переводы, отчасти стремление подтвердить святость вождей кланов, очень часто являвшихся главами старинных линий передачи, отчасти желание подтвердить подлинность исконно тибетских сочинений, а отчасти одновременное ощущение и утраты, и веры в великие династические достижения. Они «открывали» в старых династических поселениях по всему Центральному Тибету как литературные, так и материальные скрытые сокровища, объявляя их личными сокровищами императоров, оставленными ими в качестве посланий тибетскому народу в целях его поддержки в период отсутствия централизованной власти. Терма использовали местную эстетику, поддерживали почитание автохтонных духов и богов и представляли Тибет не периферией буддистского мира, а центром деятельной активности будд и бодхисатв. Аналогичным образом развивали свои новые идеи и авторитеты сармы одиннадцатого и в особенности двенадцатого столетий. Будь то новое представление махамудры под руководством Гампопы, эпистемологические разработки Чапы или рост популярности ритуалов Чо с Мачик Лабдрон, все это означало, что представители сармы в У-Цанге начали понимать, что для окончательного укоренения буддизма в Тибете необходимо, чтобы религия Индия была открыта для восприятия специфически тибетских доктринальных идей. Все были увлечены неведомыми ранее формами познания и осознавания, а также новыми возможностями множества гносеологических методик, возникших в период эпохи возрождения.
Вследствие всего этого эзотерические тексты – как ньингмапинские терма, так и переводы сармы – представляли собой культовые композиции, несущие в себе множество отправных точек, которые использовались в своих целях отдельными сообществами тибетского общества. В высшей степени эзотерические и бдительно охраняемые медитативные наставления не только вели к освобождению своих приверженцев, но и являлись символом их статуса и превосходства над другими. В ходе этого процессе возникло множество различных текстовых сообществ, каждое из которых опиралось на узкую группу собственных священных текстов и при этом претендовало на абсолютную святость своей линии передачи и религиозной традиции. Однако, все эти претензии звучали на фоне такого выдающегося явления, как всеохватная текстуализация Тибета, поскольку даже в те времена, когда его религиозные деятели спорили по поводу признания авторитетности тех или иных произведений, в целом Тибет признавался и ценился как страна, изобилующая священными текстами, а его ландшафт воспринимался как вдохновляющий источник религиозного творчества великих святых праведников и всеведущих императоров.
Одним из проявлений процесса индигенизации Тибета стала религиозная специализация ряда тибетских кланов, таких как, например, Че, Нгок, Ньо, Ньива и Кьюра. Однако, самым выдающимся примером этой трансформации, несомненно, был клан Кхон. Создав мифологию, в которой в конечном счете слились воедино мифы о нисхождении на их земли небесных бодхисатв и о происхождении их предков от тибетских богов, Кхон стал одними из самых успешных религиозных кланов одиннадцатого-двенадцатого столетий. Кхон Кончок Гьялпо построил монастырь Сакья в 1073 году, и с тех пор это учреждение постоянно поддерживалось членами клана Кхон, которые, использовав свой незаурядный ум и практический опыт, создали собственную цитадель учености в феодализированной духовной среде провинции Цанг. С помощью большого числа высокообразованных соратников они, опираясь на переводы Дрокми и Бари-лоцавы (в особенности это касается эзотерической системы ламдре), разработали устойчивую ритуальную основу, благодаря которой тибетская практика могла соперничать с любой из индийских практик тех времен, к тому же предлагая своим последователем такой же развитый культ реликвий. Как и другие успешные кланы Центрального Тибета, клан Кхон перешел от духовного наследования по линии «от отца к сыну» к наследованию по принципу «от дяди к племяннику», а религиозным идеалом взамен женатого мудреца прошлых времен отныне являлся безбрачный монах.
Крах индийских монастырских центров в двенадцатом и тринадцатом столетиях укрепил репутацию Сакьи и других тибетских монастырей, заставив индийских монахов воздать дань уважения тибетским мирянам, которые оказались более удачливы и более искусны в деле поддержания буддхадхармы, нежели их индийские покровители. Сачен Кунга Ньингпо и два его высококвалифицированных сына еще более возвысили это учреждение, а также «одомашили» дикий образ Вирупы, сделав ламдре – одну из самых эзотерических систем практики сиддхов – опорой, возможно, самого консервативного буддистского центра. Эта синхронная «доместикация» как самых йогини-тантр, так и пояснительных йогических руководств потребовала привязки внутренних медитаций к такой ритуальной форме мандалы, которая бы подчеркивала единообразие группы священных текстов и придавала более общинный вид слишком индивидуалистическому образу сиддхов. Кроме того возник новый тип мифологических персонажей – мистический иерофант, преемник индийских монахов и сиддхов, искусный в делах нашего мира, духовно зрелый, наделенный магическими и административными способностями, управляющий внутренними божествами и внешними союзами, т.е. могущественный во всех смыслах этого слова. Успехи Кхона во всех этих начинаниях составили основу той почвы, из которой в конечном итоге произросли семена союза патриархов сакьи с Хубилай-ханом.
В то же время беспорядки в Тибете двенадцатого столетия, такие как сожжение Самье и Джокханга, междоусобицы учеников линии шангпа Кхьюнгпо Нелджора и религиозная воинственность ламы Жанга, порождали ощущение потенциальной возможности краха всей социальной структуры, как это уже случалось в девятом и десятом столетиях. Под давлением таких факторов, как вторжение тюрок в Северную Индию, захват Средней Азии исламскими армиями, возвышение монгольских держав и столкновения на своих границах, тибетцы сформировали собственное представление об ортодоксальном буддизме, которое по своей сути было правильным. Внутренне тибетцы понимали, что они сохранили большую часть наследия великой монастырской системы Северной Индии, которое к тому времени уже было практически утеряно самими индийцами. Ощущение международного буддистского кризиса в сочетании с увлеченностью индийцами и тангутами Тибетом способствовало развитию неоконсервативного движения, продвигаемого Дригунгом Джиктеном Гонпо, Сакья Пандитой, Чагло Чодже-пелом и другими. Они полагали, что то, что они считали истинным посланием Будды, эродирует как снаружи, так и изнутри, а естественное творчество тибетского народа, воплощенное в работах Чапы, Гампопы, наставников терма и других, воспринималось ими как ересь и измена нормативной доктрине. Стремясь подавить любое отклонение от нормы, они критиковали всякую буддийскую деятельность, которую считали неиндийской, следуя при этом собственному стандарту, который был скорее их теоретической позицией, чем реальной индийской концепцией. Неоконсерваторы не знали или не хотели признавать, что многие из тех моделей поведения и идей, которые они критиковали в Тибете начала тринадцатого века, существовали в Индии на протяжении многих столетий.
Три фактора способствовали упрочению их положения. Во-первых, монголы поняли, что Монголии лучше всего подходит неоконсервативное видение, и поэтому Хубилай-хан институционализировал личность Сакья Пандиты как образцового представителя тибетской религии. Монголы были просто очарованы мудрецом, который, казалось, был средоточием разнообразных знаний в части йогических систем, магических обрядов, монашеского этикета, клановых отношений, медицины, логики, языков и пр., а также обладал особой проницательностью и выдающимися административными способностями. По-видимому данный факт стал причиной того, что на протяжении столетий многовекового участия монголов в тибетской религиозной жизни они в большинстве случаев останавливали свой выбор на самых высокообразованных наставниках. Также не будет преувеличением сказать, что выдвижение Сакья Пандиты во многих отношениях стало кульминацией семнадцатисотлетней истории буддизма. Во-вторых, тибетцы начали понимать, что их социальное благополучие во многом зависит от институциональной жизнеспособности больших, хорошо управляемых монастырей, которые к тому времени уже полностью олицетворяли собой симбиоз аристократических кланов и позднего индийского буддизма. В этом монголы следовали их примеру, поскольку исторически они не были знакомы со столь стабильными религиозными институтами, а многочисленные китайские вариации таких учреждений вызывали у них интуитивное недоверие, т.к. воплощали в себе непривлекательные по монгольским меркам эстетические и интеллектуальные направления. Наконец, неоконсерваторы, будучи благонравными буддистами, не стали навязывать свое видение силой закона, хотя их монгольские повелители предоставили им такую возможность. Они были великодушными правителями, и, одержав победу, могли себе позволить даровать религиозную свободу тем, кто был отодвинут от власти. В этом они были схожи с другими буддистами, которых вполне устраивало то, что рано или поздно весь мир все равно придет к истине.
В начале тринадцатого столетия, опираясь на помощь беженцев из индийских монастырей и монгольских военачальников, неоконсервативное движение формализовало большую часть институциональной структуры Тибета. Одним из столпов идеологии этой структуры был образ буддистского монаха, представляющего сильную йогическую и каноническую традицию, который долго казался незыблемым, в том числе и после отпадения Сакьи от власти и возвышения в 1348 году иерарха Пагмо Друпы Джангчуба Гьелцена. Периодически добиваясь определенных успехов, эти личности, которых можно назвать монахами-иерархами, противостояли идеологии мирского политического лидера вплоть до прихода к власти в семнадцатом столетии правительства Далай-ламы. Следует отметить, что корни данного явления лежат в самоотверженных усилиях нескольких одержимых людей десятого-двенадцатого столетий, которые, мобилизовав все свои интеллектуальные и духовные способности, преодолевали невообразимые трудности в те времена, когда Тибет так отчаянно нуждался в успехе их начинаний. В продолжение всей их деятельности буддийская религия являлась надежным источником материалов, используемых для реконструкции тибетского общества, а доктрина пробуждения в ее различных обличьях стала социальным, интеллектуальным и духовным катализатором возрождения тибетской культуры.
Это не означает, что все тибетские нововведения или безрассудство тибетских сиддхов канули в небытие, поскольку все это являлось проявлением извечных моделей человеческого поведения. Безумные ньон-па по-прежнему фигурировали среди деятелей кагью и ньингмы, а странствующие тибетские сиддхи некоторое время еще оживляли атмосферу собраний религиозных институтов. Их существование в какой-то мере компенсировались не только неоконсервативной идеологией, но и развитием парадигмы перерождения лам, которая в большинстве случаев институционализировала клановые структуры, поскольку кланы воспринимали более мелкие подразделения буддистских монастырей как свою частную собственность, которой они могут управлять единолично, в то время как перерожденцы были преимущественно выходцами из аристократии. Тибетские инновации продолжались, а впереди была еще и великая ересь: «другая пустота» джонангпы. И до сих пор одной из доминирующих тем тибетской религиозной жизни остаются дискуссии, направленные на одобрение или осуждение стратифицированных интеллектуальных и социальных систем.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Хотя этот термин более привычен нам в контексте специфических средневековых религиозных движений, похоже, что выражение «совершенный» (siddha) впервые было использовано для обозначения категории джайнских святых за столетия до н.э. В данном значении сиддхи – это существа свободные от кармы, вечно пребывающие в высших обителях на вершине вселенной4. Для джайнских авторов отсутствие кармы означает, что душа не отягощена мирским, что делает сиддхов невидимыми для обычного восприятия. Их утонченные тела имеют почти человеческую форму, но туманны и нечетки. Но, несмотря на свое бестелесное естество, такие сиддхи еще не достигли окончательного освобождения джайнских архатов.
А вот легко узнаваемых предшественников буддийских сиддхов можно найти в индийских политических текстах и романтической литературе, причем джайны иногда пренебрежительно упоминали о них как о «мирских сиддхах», поскольку те были озабочены обретением земного могущества (siddhi). Вместо того, чтобы быть загадочными и неприметным, эти сиддхи были очень заметны, хотя и действовали на периферии общественного пространства: в сумеречной зоне между лесом и полями, являвшейся местом обитания могущественных сил и проведения магических ритуалов. Здесь сиддхи проводили свои обряды, с помощью которых стремились принудить могущественных существ наделить их высоким статусом, долголетием, магическим мастерством, умением летать и другими способностями. В литературе о сиддхах сообщается, что они были одержимы обретением могущества и сверхъестественных способностей, приписываемых аналогичному классу людей – магам-видьядхарам (vidyadhara). Такое название последние получили вследствие того, что владели заклинаниями и знаниями (vidya), посредством которых достигали своих целей в земных и небесных сферах.
Развитие традиции сиддхов как новой формы буддистских святых подвижников в конечном счете зависело от совокупного воздействия множества разрозненных факторов, таких как осознанная потребность в новой разновидности буддистского праведника; контакты с племенными народами и внекастовыми группами; заимствование шиваитских и шактистских практик и текстовых материалов; перемещение населения из больших торговых городов, которые ранее поддерживали монашеский буддизм и продолжали поддерживать его, но уже в институциональной эзотерический форме; интеграция в еще только зарождающиеся местные и племенные феодальные системы и т.п. Буддийские сиддхи являли собой новый социальный прототип, предложивший региональным центрам и бесправным группам модель автономной власти, позволявшую игнорировать ухищрения кастового индуизма, а также изощренную конфессиональную систему, не требующую отказа от региональной идентичности (в отличие от обезличивания буддистских монахов в великих монастырях). Сиддхи распевали песни, написанные на разных языках и диалектах и отражавшие эстетику и образы, используемые и ожидаемые этими новыми группами. Сиддхи признавали значимость местной культуры с ее племенными ритуалами, а также естественностью джунглей, гор, городских окраин, границ лесов и полей – все эти ценности восхвалялись в литературе буддийских сиддхов. Они использовали образы и рассказывали истории, которые попирали брахманские идеалы, и этим, должно быть, одновременно шокировали и восхищали свою аудиторию. Их вовлеченность в повествовательный жанр стала канонической и упоминается даже в самых экстремальных буддийских писаниях – йогини-тантрах. Они свободно манипулировали языком, как дети играют игрушками, причем иногда безответственно и даже с потенциально пагубными результатами.
При институционализации выборочного творчества сиддхов более консервативным сиддхским и монашеским сообществом оно по максимуму опиралось на самые развитые герменевтические стратегии из всех, которые когда-либо видел буддизм, однако, при этом имело весьма ограниченный успех. В процессе окультуривания эти неординарные личности становились почти такими же литературными персонажами, как если бы они были обычными человеческими существами. При этом их жизнеописания компоновались в особые сборники по количеству, подобранному в соответствии с некой нумерологией. Особенно часто использовались числа сорок, пятьдесят, от восьмидесяти до восьмидесяти четырех и восемьдесят пять, которые засвидетельствованы в описаниях количественного состава сельских округов и региональных политические структур. Таким образом, численные принципы организации экономических и политических структур Ориссы, Бенгалии, Мадхья-Прадеша, Удияны и побережья Конкана стали сакральными формулами, в соответствии с которыми в институциональной литературе происходила компоновка агиографий сиддхов. Вследствие этой институционализации неинституционального эзотеризма тантрический канон вобрал в себя идеи и модели поведения, заимствованные у шиваитов, шактов, сауров, вишнуитов, а также из культов региональных божеств и местных кладбищенских традиций сиддхов, причем все это без какой-либо упорядоченности. В целом процесс институционального окультуривания занял почти четыре столетия, с восьмого по одиннадцатый века, но некоторая незавершенность этого мероприятия заметна даже сегодня.
Как спектр, так и континуум поведения совершенных (как минимум, для некоторых случаев) охватывает не только весь средневековый период – от описания сиддхов в «Артхашастре» и до буддистских и натхских сиддхов, – но и включает в себя деятельность современных садху. Будучи эксцентричными, а порой даже и преступными личностями, сиддхи часто становились объектом восхищения и почитания, поскольку создавали вокруг себя ауру власти и могущества, никем не демонстрировавшуюся до них с такой успешностью. Этот спектр поведения (а так же используемых ими священных языков) был следствием того факта, что сиддхи происходили из самых разных слоев общества и не имели общеиндийской институциональной структуры, обеспечивающей относительно однородную социализацию, как, например, в случае с монахами эзотерической направленности буддистских монастырей. Некоторые сиддхи происходили из элиты и имели хорошее образование, полученное ими на самом высоком уровне, но оставили монастыри, столицы или дворы правителей, чтобы начать новую жизнь в примитивном сообществе, свободном от жестких ограничений, в рамках которых находились индийцы, во всем строго придерживающиеся своего статуса. Другие были из низшего сословия и выбрали жизнь сиддхов в отчаянном стремлении понять сущность окружающего мира, который продолжал рушиться на их глазах, поскольку боги, похоже, поддерживали только капризное поведение людей, владеющих мечом, властью и богатством. Деятельность сиддхов всех уровней несла в себе как сильные, так и слабые стороны, вследствие чего формирующаяся культура совершенных включала в себя лишь ряд ритуальных обязательств и личный практический опыт, в которых харизма и преданность играли такую же важную роль, как интеллект и естественность.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Остатки дома Юмтена могли выступать в роли опоры будущего возрождения, к которому так стремились тибетцы, хотя о выживших членах этой ветви династии пишут, что они весьма неохотно поддерживали устремления своих сторонников. При этом к концу десятого столетия, несмотря на вопрос законнорожденности Юмтена, его преемники доминировали во многих областях Центрального Тибета, наиболее тесно связанных со старой династией (см. Таблицу 3).
 |
|
Таблица 3. Упрощенная линия преемственности Юмтена в одиннадцатом столетии
|
Юноши У-Цанга – будь их четыре, пять, шесть, семь, десять, двенадцать или тринадцать (такие количества упоминаются в разных источниках) – прибывали на северо-восток для получения монашеского посвящения в Цонгкхе. Большинство источников описывает их как прямых учеников Геваселя, что маловероятно и скорее отражает склонность тибетцев ассоциировать известных религиозных деятелей с другими известными личностями. Даже более поздние тибетские авторы, такие как Цеванг Норбу (1698-1755), были осведомлены о хронологических противоречиях в их жизнеописаниях и должны были как-то объяснять это, выдвигая предположение, что некоторые из этих людей прожили непомерно долгую жизнь27. Однако, все-таки, похоже, что Геваселя и группу мужчин, которые в конечном счете и были распространителями монашеского буддизма северо-востока, разделяло несколько монашеских поколений. Также не вызывает сомнений, что у них было множество разных учителей и наставников, т.к. имена некоторых из них можно найти в доступных источниках: Друм Еше Гьелцен, Дро Манджушри, Чог-ро Пелгьи Вангчук, Друм Чинглакчен и Тулва Еше Гьелцен29. Хотя мы не можем безоглядно доверять этому списку, он, безусловно, указывает на жизнеспособность монашеской практики, а также на то, что клан Друм занимал первостепенное положение в поддержке монахов.
Согласно легенде, каждому из новых монахов У-Цанга учителя в зависимости от их способностей определили или различные должности, или род занятий: Луме Шерап Цултрим (или Цултрим Шерап) из У-Шатсара был назначен поддерживать Винаю; Цонгцун Шерап Сенге, поскольку был умен, стал ведущим учителем (bshad pa mkhan); Лорон Дордже Вангчук, обладавший великой силой, был определен в защитники Дхармы; Дринг Еше Йонтен, благодаря своей властности, был назначен хранителем храма; Ба Цултрим Лотро стал наставником медитации, а Сумпа Еше Лотро сделался казначеем. По ходу своего описания этих назначений, Деу Джосе саркастически замечает, что, конечно, хотя все они и получили эти назначения волевым решением, никто из них не слушался своего настоятеля (якобы, Геваселя или же Друма Еше Гьелцена), который их назначал, и каждый из них делал то, что ему нравилось30. Готовясь к холодам северных равнин, которые им пришлось пересечь, чтобы добраться до «четырех рогов» Тибета, они специально сшили плащи (ber nag) и ритуальные шапки особого бонского стиля (zhwa ‘ob), но с четырьмя углами, обмазанными желтым веществом, чтобы идентифицировать их как буддистские. Со временем такая шапка стала опознавательным знаком различных групп, выросших из этого движения31.
В некоторых источниках приводится интригующая история личной инициативы Лотона, ускорившей их отъезд. Согласно этому повествованию, Лотон решил сначала посетить Центральный Тибет с группой торговцев, чтобы посмотреть, смогут ли они там найти поддержку их предприятию.
«Лотон сказал остальным: “Подождите здесь. Я поеду в У-Цанг и посмотрю, сможем ли мы распространять Дхарму или нет. Если сможем, то я останусь там, а вы все собирайтесь. Если же мы не сможем распространять учение, я вернусь сюда”. Затем он сопровождал некоторых торговцев из Денмы (в Кхаме), и они добились хороших результатов в Сумтранге. Когда они дали понять, что хотят вернуться [в восточный Тибет], он ответил: “Ребята, вы еще даже не начинали заниматься хорошей торговлей!” Итак, они отправились в Цанг. В Гурмо Рапкхе [родном городе Лотона] жил Лонак Цуксен. Лотан сказал ему: “Твой сын должен остаться в У после получения посвящения”. Итак, мальчик был отправлен, и Лотан послал письмо [обратно в Дентик, сообщая Люме, что можно прийти]. И поскольку торговые дела [между восточным Тибетом и Цангом] шли хорошо, возник рынок Гурмо. Этот рынок существует также благодаря добрым делам Лотона»32.
Если бы Лотон отправился в У-Цанг раньше других, то это было бы очень удобным объяснением той скорости, с которой происходило восстановление монашества Цанга. Однако, источники частично противоречат друг другу, поскольку некоторые утверждают, что монахи по разным причинам в конце концов отправились различными путями. В любом случае, нет никаких сомнений в том, что с постепенным расширением деловых отношений между Цонгкхой и возрождающимися районами Центрального Тибета началось воссоздание исторического симбиоза буддистского духовенства и странствующих торговцев, который во все времена истории Центральной Азии служил надежной опорой буддистских миссионерских устремлений.
К тому времени, когда группа целиком отправилась в путь, Луме и Лотон считались ее лидерами, и далее какое-то время они продолжали сохранять этот свой статус. Очевидно, они вели переписку с Триде Гонценом, которому решили довериться, при этом существует раннее предание, согласно которому молодые люди отправились в Цонгкху за получением посвящения в первую очередь по его наущению33. Какими бы ни были реальные обстоятельства, и этот правитель монарших кровей, и его двоюродный брат (или сын, или брат) Цалана Еше Гьелцен приветствовали их возвращение в У и предоставили им приют и поддержку. В источниках приводятся разные даты их прибытия в Центральный Тибет, и, хотя они сильно различаются: 978 год у Дромтона и 988 год у Кхепа-деу, вероятно, правильная дата заключена где-то в этом интервале34. Ранняя хроника предлагает наглядное описание разрухи в Самье (и, надо понимать, в других имперских храмах) с которой столкнулись эти люди:35
«Затем эти десять человек из У и Цанга прибыли в Самье. Там их принял Триде Гонцен, который спросила их: “Кто у вас главный?” “Луме”, – ответили они. Тогда Триде Гонцен вложил в руку Луме целую связку ржавых ключей от главного храма Самье У-це. Луме открыл дверь коридора-обхода (‘khor sa) и увидел, что он зарос ежевикой и завален обвалившейся штукатуркой36. Вода с веток деревьев (попадающая через окна) залила все стенные росписи. В Барабанном зале (rnga khang) четыре колонны из двенадцати, расположенные по середине и по краям помещения, были срублены37. Остальные иссохли [от гниения] и навалились друг на друга38. Промежуточный коридор-обход (‘khor sa bar pa) предстал перед [Луме] наполненным богатством храмовых пожертвований с лисьим логовом посередине. У всех статуй У-це на руках и на макушках располагались птичьи гнезда. Все их кроны источали зловоние из-за птичьих экскрементов. Луме заглянул в сокровищницу храма. Затем он запечатал все двери магической веревкой, защищающей от змей и демонов. “Это место просто как трясина!”, – сказал он и собрал все ключи обратно в связку39. Он вернул их правителю и промолвил: “Я настоятель. А так как настоятелей оскверняет присутствие храмовых сокровищ, я не возьму на себя ответственность за это место!” Затем ему предложили Кхамсум Сангкханг, но он все равно отказался. Буцел Серкханг-линг был предложен двоим: Лотону и Цонгцуну Шерапу Сенге, но они не приняли его. Они ответили: “Есть много учеников в других местах, которые должны быть обращены в буддизм!”, и отправились в Цанг (на свою родину). Ракши Цултриму Джунге был предложен Гегье, а впоследствии также вверен Буцел. Затем Луме предложили Качу (на какое-то время он согласился). Затем он попрощался с остальными, сказав: “Идите к Уру и Йонру!”40 Затем Луме собрал множество вьюков добра (здесь «вьюк» (у автора horse load) – это общий вес, который способна нести лошадь – прим shus), чтобы возродить У-це в Самье, и в конце концов ему удалось отремонтировать его, решив множество проблем41. Затем он вверил ключи Ба Цултриму Лотро и Ракши Цултриму Джунгне».
Не вызывает сомнений, что большинство старинных храмов находилось в таком же состоянии, что и Самье: с разбитой штукатуркой и гнилыми стропилами или даже балками. Поэтому первоочередной задачей этих людей было возрождение разрушенных очагов духовности, которые к тому же тесно ассоциировались с древними императорами (Илл. 3). Следовательно, нежелание Люме брать на себя ответственность за сокровищницу Самье вовсе не означало его безразличие к вопросу возрождения этого самого престижного монастыря (что подтверждают дальнейшие эпизоды). Скорее он понимал, что политическая аура этих святилищ и постоянное участие остатков императорского дома и старых аристократических кланов в распоряжении и пользовании такими храмами означали, что любой, кто служит в них в качестве храмового священника или ламы-резидента, не сможет оставаться независимым от системы, по-прежнему продолжавшей фрагментировать тибетскую культуру. В действительности, внимание Луме к центральному храму Самье У-це почти сразу же породило политические проблемы, причем источником их была его собственная традиция. Его первоначальные усилия по обновлению храма были заблокированы Ба Цултримом Лотро и Ракши Цултримом Джунгне из-за спора по поводу территории, что заставило Луме просить Триде Гонцена лично вмешаться в этот вопрос, а также наделить его соответствующими полномочиями42.
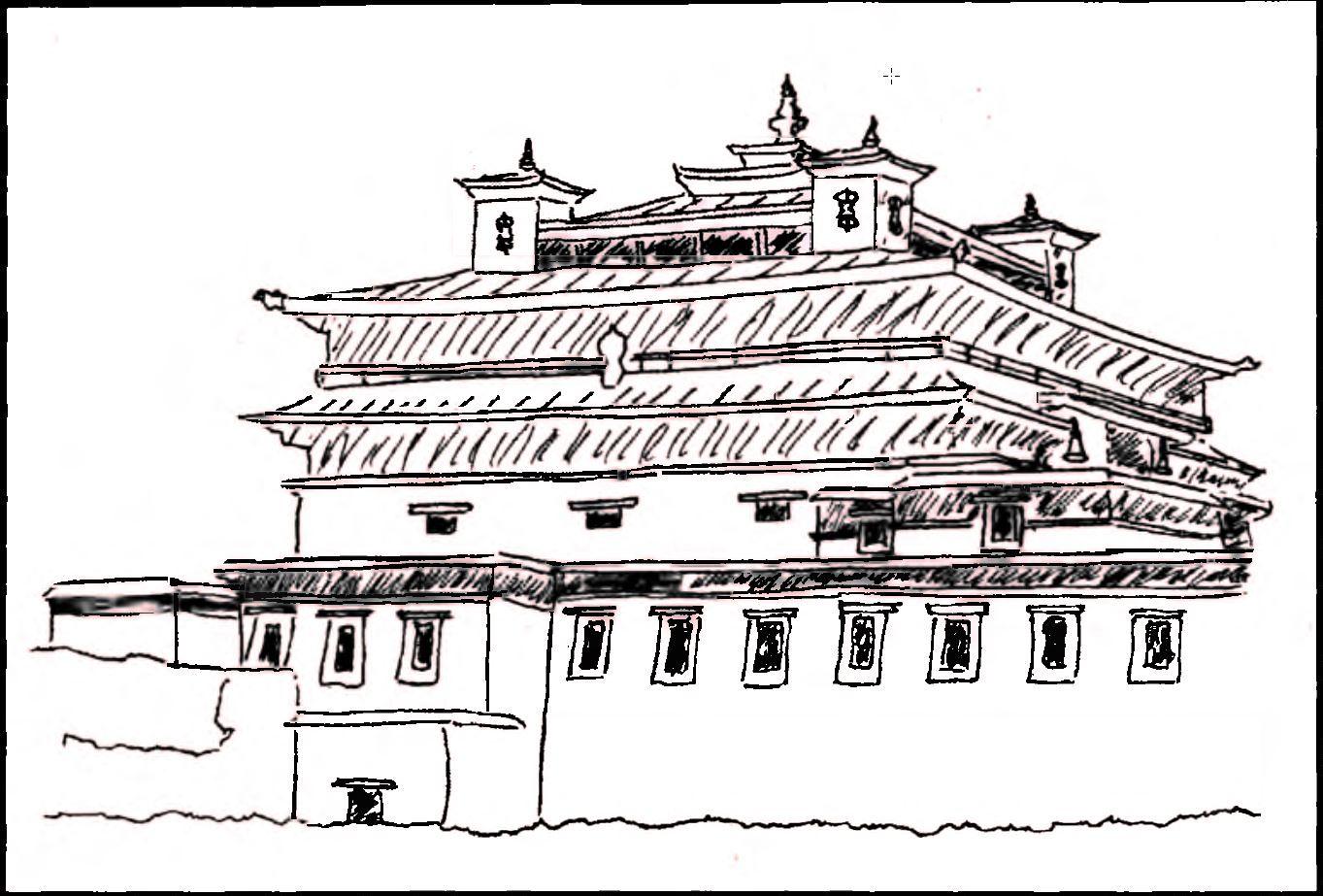 |
|
Илл. 3. Храм У-це в Самье. Прорисовка с современной фотографии
|
Храмы и кланы, поддерживающие их реконструкцию, закрепили легитимность этих новых монахов, так что другие территории теперь могли воспользоваться возникшей возможностью и тоже стать источниками формирования совершенно новых буддистских институтов. Таким образом, храмы были отправной точкой, но не конечной целью стратегии миссионеров, и они вслед за этим начали процесс формирования монашеского сообщества и институционализации своих винайных систем. Общины (tsho/sde pa), организованные ими в У («рога» Уру и Йору) и Цанге («рога» Йеру и Рулак), стали основой для возрождения и строительства храмов в нескольких областях43. Эти группы формализовали некоторые базовые принципы стабильного возрождения буддизма в Центральном Тибете, и уже основываясь на их успехах следующее поколение миссионеров начало строить настоящие монастыри. Однако капризность в отношениях, проявившаяся уже в самом начале в виде конфликта из-за желания Луме обновить Самье, продолжала оставаться отличительной чертой монашеских общин Восточной винаи на протяжении последующих двух столетий.
В то время как Луме пребывал в заботах о Качу, Самье и других имперских династических местах в У, два главных монаха из Цанга – Лотон Дордже Вангчук и Цонгцун Шерап Сенге, – как уже упоминалось выше, отправились к себе на родину44. Лотон основал Гьенгонг (997 г.) в районе Ньянг-ронга, неподалеку от возможного места расположения Шалу, и взял себе на обучение двадцать четыре ученика (mkhan bu)45. Он также упоминается в связи с различными видениями, такими как явление одной из мирских дакини Дордже Раптенмы на дороге, ведущей в Пелмо Пельту в Цанге, когда эта богиня поведала ему о своей духовной связи с его будущим монастырем46. А когда он закладывал фундамент храма в Гьенгонге, то уже знал, что это место благоприятно для строительства, т.к. ему было видение четырех местных женских божеств (dkar mo mched bzhi), предложивших свою помощь47. Среди великих миссионеров, принесших монашества в Цанг в одиннадцатом столетии, было восемь первых учеников Лотона48. В то время как Сумтон Пакпа Гьелцен возложил на себя обязанности настоятеля Гьенгонга, Гья Шакья Жону построил Тан в Лато-маре и стал настоятелем Дромпа-гьянга. Именно в нем были ординированы два знаменитых монаха, отправившихся учиться в Индию: Таг-ло и Дрокми. Между Гьенгонгом и Таном Гья Шакья Жону также основал Булдок-лхак Лхакханг. Лангтон Джампа построил храм Омпука и еще ряд храмов в Цангдраме, Бумтанге, Чагсе, Тригонге, Гатоне, Тролме и других местах, поэтому его монашеские общины разделились на западную и восточную ветви49. Кьи Атсарья Еше Вангпо также был достойным подражания в своей деятельности, имея три храма в районе Шанга: Шанг Кхарлунг, Гьере Лангра и Мушанг-кьи Рокам. Однако, именно Четону Шерапу Джунгне было суждено основать самый великий из всех здесь перечисленных монастырь: Шалу, который со временем стал обителью многих выдающихся ученых, начиная с Бутона Ринчендрупа (см. Таблицу 4)50.
Таблица 4. Монахи Восточной винаи У-Цанга
|
Монахи
|
Главные ученики
|
|
У
|
|
Луме Шерап Цултрим
|
Друмер Цултрим Джунгне, Жанг Нанам Дордже Вангчук, Нгок Джангчуб Джунгне, Лен Еше Шерап
|
|
Дринг Еше Йонтен
|
Нгок Лекпе Шерап, Ан Шакья-кьяп, Я-цун Кончок Гьелва, Цур-цун Гьелва, Мар-цун Гьелва
|
|
Сумпа Еше Лотро
|
|
|
Бацун Лотро Вангчук
|
Цултрим Джангчуб
|
|
Ракши Цултрим Джунгне
|
Чен-нгок Лотро Гьелва, Кава Шакья Вангчук
|
|
Цанг
|
|
Лотон Дордже Вангчук
|
Сумтон Пакпа Гьелцен, Гья Шакья Жону, Кьйотон Шерап Дордже, Лангтон Джампа, Кьи Атсарья Еше Вангпо, Четон Шерап Джунгне, Жутон Жон-ну Цондру, Дхартон Шакья Лотро Цонцун Шерап Сенге
|
|
Цонгцун Шерап Сенгне
|
Батсун Лотро Йонтен
|
Один из попутчиков Лотона, Цонгцун Шерап Сенге, так же не сидел без дела. Его дом находился в Шабкьи Гонге, расположенном в долине Шах, которую он использовал в качестве опорного пункта для разворачивания своей деятельности, причем точное местонахождение этого селения пока что не установлено. Он самостоятельно создал, как минимум, четыре монашеских центра: два на западе и два на востоке. Те, что на востоке, находились в долине Ньянг при храмах Не-ньинг и Не-сар, по обе стороны от возникшего уже позднее города Гьянце. К западу от них располагались храмы Келкор и Гьенкор, местонахождение которых в настоящее время неизвестно51. Ученики Цонгцуна продолжили и расширили его работу, создав из других общин (пишут, что их было пять) укрупненное объединение. Бацун Лотро Йонтен был назначен настоятелем Ци-лхакханга, а его ученик принял под свою опеку Кек Не-ньинг. Этот храм стал опорным для группы Западных Ба, точно также, как Ци-лакханг – для группы Восточных Ба, а все остальные располагались между ними52. Таким же образом, группы и общины, связанные с другими храмами этой территории, было предложено возглавить Батсуну из Йолтогбепа, Ра Лотро Зангпо, Гье Цулсенгу, Конгпо Еджунгу, Марпе Дордже Еше, Непо Дракпе Гьелцену и другим, которые так и остаются для нас всего лишь именами в этом быстрорастущем списке. Храмы и монастыри, преподнесенные ими Цонгцуну – это не просто результат индивидуальной миссионерской деятельность нескольких учеников, а возрождение иерархической монашеской структуры, ранее растворившейся во мраке периода раздробленности.
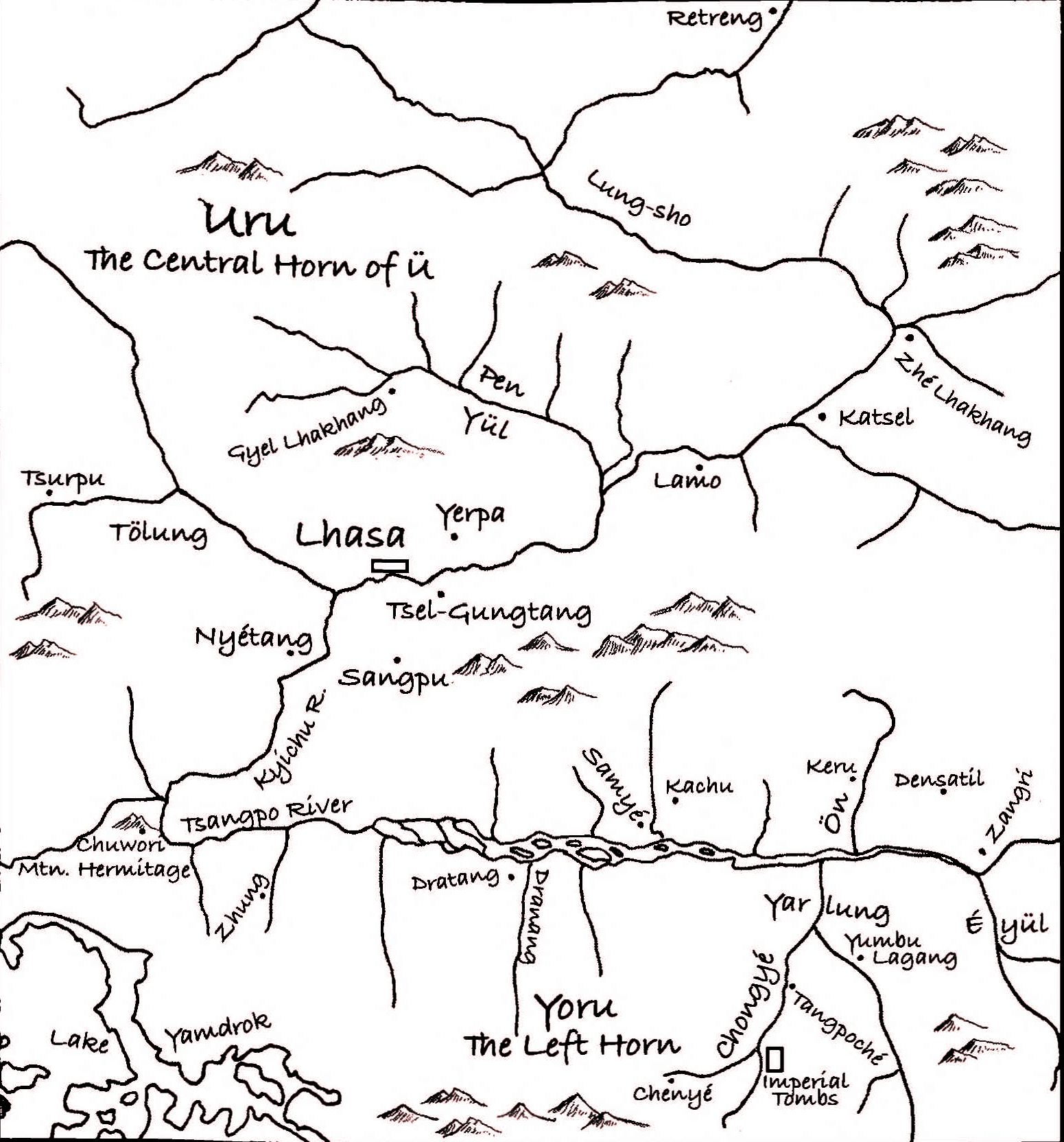 |
|
Карта 4. Уру и Северный Йору
|
Однако, самым великим представителем этой возрождающейся структуры, пожалуй, был все-таки Луме, поскольку в У он сумел объединить в одно целое тонкости иерархического покровительства, значимость старых построек имперской династии и высокий статус буддистской монашеской дисциплины (см. Карту 4). Об его успехах свидетельствует тот факт, что как сам Луме, так и его ученики и потомки широко представлены в тибетской исторической литературе того периода, при этом оценка значимости его наследия не ограничивается рамками ареала деятельности и собственной монашеской линии. Очевидно, что вначале большую часть своего времени он тратил на ремонт центрального храма У-це в Самье. И действительно, источники подтверждают, что Луме в основном ограничивал свои перемещения Самье, Качу и Йерпой, не выезжая далеко за пределы У. Йерпа, который находится к востоку от Лхасы и теперь называется Драк Йерпой, также был храмом имперской династии. Во второй половине своей жизни в качестве опорных пунктов для осуществления своей деятельности и мест, где он проводил обучения, Луме использовал как Качу, храм к северо-востоку от Самье, так и Йерпу (ок. 1010 г.). Однако иногда он посещал и другие территории, такие как Дрисиру, Ламо Чагдеу (возможно, то же, что и Дре Кьиру), Балам-не, Мора-гьел (1009 г.), Магар Дреса (1017 г., по приглашению Драмы Барвы Джангчуба), Тангчен и Сера Пукпа53. Проживая в Сера Пукпе, Луме умер по дороге в очень значимый монастырь Солнак Тангпоче (1017 г.), построенный одним из его главных учеников Дру-мером54. И он, и Дру-мер обрели свой покой в ступе Сияющего Света (mchod rten ‘od’ bar), расположенной в Тангпоче.
У Луме было четыре основных ученика, известных как «четыре столпа» – один из многих случаев, когда особо значимые личности представляются посредством метафор архитектуры и строительства55. Источники указывают, что эти ученики в основном обучались в Йерпе, вероятно, после 1010 г., а ознакомившись с описанием Туччи (Tucci) этого места в том виде, каким он его увидел в 1949 г., мы сможем понять, чем оно так привлекало Луме и его последователей (см. Илл. 4):56
«На повороте дороги перед моим взором неожиданно возник Йерпа, выглядевший как каскад маленьких белых домиков на крутых, заросших зеленью скалах. Можно было подумать, что ты не в Тибете. Гигантские можжевельники и пучки рододендронов возвышались над густой мешаниной подлеска, хвороста и травы, победоносно сражаясь с жесткой бесплодностью скал. Утесы были испещрены норами и пещерами, причем некоторые из них находились так высоко на обрыве крутого холма, что взбираться к ним было довольно рискованно. В более крупных были оборудованы храмы и часовни. Мы достигли этого места в сумерках и были встречены трелями и щебетанием птиц, создававших вокруг этой уединенной обители атмосферу неожиданного веселья»57.
 |
|
Илл. 4. Йерпа. Прорисовка по фотографии Ричардсона
|
Действительно, Йерпа занимал чрезвычайно важное место в тибетской религиозной истории. Помимо того, что убийца Дармы Лха-лунг Пелгьи Дордже отправился в путь именно из Йерпы, почти все самые значимые наставники периода возрождения провели там хоть какое-то время. К примеру, несколько позже Атиша нашел Йерпу очень близким ему по духу, когда впервые прибыл туда в 1048 году, и, очевидно, предпочел его неспокойной атмосфере Лхасы. Со временем Йерпу стали сравнивать с Лхасой: если столица была древом жизни (srog shing) Тибета, то Йерпа был древом жизни Лхасы – намек на древнее тибетское поверье, что сущность человека или группы людей может быть сокрыта в природном объекте. В один из путеводителей для паломников по Йерпе включен длинный панегирик его достоинствам, что совсем не характерно для такой литературы, однако, эти эпитеты иногда можно найти даже в нормативных тибетских историях58.
Другой ученик Луме Жанг Нанам Дордже Вангчук является одним из немногих учеников первых монахов, чья датировка жизни точно известна (976–1060). Предполагается, что он основал Гьел-лук Лхекьи Лхакханг (или Гьел Лхакханг) в 1012 году, после того как уже построил Рачак59. Его биография содержит один из самых ранних среди известных нам случаев, когда монах из У отправился в Индию для обучения. Вполне вероятно, что это произошло где-то во времена Дрокми, которого мы подробно рассмотрим позднее, ведь согласно традиции Жанг Нанам также, как и Дрокми, в Индии получил наставления по Винае от монаха/сиддхи Ваджрасаны, и также как он обучал этому в Индии других (возможно, тибетцев). Ученики Жанга дали посвящение нескольким первым монахам кадампы, а знаменитый учитель кадампы Потоба (1031–1105), как говорят, был одним из настоятелей Гьел Лхакханга – одного из трех буддийских центров, сожженных монгольской армией в 1239/40 годах60. Еще одним известным учеником Луме был Нгок Джангчуб Джунгне, который принял Йерпу после кончины своего учителя. Он построил или помогал в сооружении множества небольших храмов, из которых было завершено, как минимум, десять или даже более61. Говорят, что Нгок смог стать наставником и учителем новых монахов только после ухода Луме, поскольку когда Луме был жив, никто не осмеливался претендовать на руководящую должность. Но Нгок был менее удачлив, а его притягательная сила была не настолько сильна, чтобы сохранить целостности раннего сообщества. Поэтому в период его руководства у отдельных групп Восточной винаи начала формироваться своя собственная идентичность62. Кроме Нгока, необходимо также упомянуть Лена Еше Шерапа, который также был из Йерпы, а также Дру-мера Цултрима Джунгне, погребенного вместе со своим наставником. И Лен Еше Шерап, и Дру-мер Цултрим Джунгне вместе со многими из своих учеников также отвечали за деятельность нескольких новых или восстановленных храмов, расширяя таким образом свою основную деятельность.
Многие из этих миссионеров после посвящения в монахи и обучения стремились вернуться в свои родные города, т.е. туда, где у них были политические и экономические контакты, посредством которых они могли заручиться необходимой поддержкой. Неважно, получали ли они ключи от старых храмов времен имперской династии или наделялись земельными участками для нового строительства, в обоих случаях они формировали свои группы покровителей из членов прежних сообществ, которых объединяли приверженность идеологии религиозного возрождения, ностальгия по старой династии и надежда на восстановление экономических отношений с другими регионами. Вполне очевидно, что группы их покровителей и последователей считали возрождение буддизма центральным вопросом в восстановлении тибетской цивилизации, поэтому в конечном счете все формы тибетской культуры стали рассматриваться как производное от восстановленной религии. Большинство тибетских историков отчетливо понимало, что в последующие века страна в военном отношении так и останется беззащитной, поскольку до установления господства монголов в тринадцатом столетии в ней не существовало ничего похожего на единую политическую систему. На самом деле «золотое ярмо» царского закона (rgyal khrims) продолжало находиться в раздробленном состоянии (sil bu) даже на фоне роста влиятельности «шелкового шнура» религиозных норм (chos khrims). В этой связи Кхепа-деу отмечал, что они полагались на религию в надеже таким образом защитить Тибет, как человек полагается на благословение защитной шелковой нити (dar mdud), чтобы сохранить в безопасности свою жизнь63. Итак, к одиннадцатому столетию монахи Центрального Тибета уже классифицировались как «важные персоны» (mi chen po), а их усилия по распространению Учения считались вкладом в социальную сплоченность и организованность — характерная особенность тибетской общественной жизни, которая продолжает существовать и поныне64.
Я привел здесь небольшую, но репрезентативную подборку упоминаний различных личностей из ранних исторических записей. Эти списки по большей части включают в себя только имена, дополненные небольшим количеством информации, хотя в них можно найти и собрать воедино отдельные данные о географическом местоположении храмов, большинство из которых до наших дней, похоже, не сохранилось. Причем этой миссионерской деятельностью занимались и другие активные личности того периода: Сумпа, Ракши, Ба, Дринг Еше Йонтен и др. При погружении в эту литературу перед нами разворачивается головокружительный процесс строительства храмов и формирования монашеских сообществ в У и Цанге с конца десятого по двенадцатое столетие, когда под руководством лучших представителей этой традиции было создано несколько сотен религиозных мест и буддистских общин65.
В Приложении 1 перечислены 246 храмов, пещер и обителей, которые, вероятно, использовались монахами Восточной винаи к середине одиннадцатого столетия. Однако этот список является предварительным, и к нему следует подходить с некоторой осторожностью. По большинству храмов мы не располагаем точной хронологией, и я просто ограничил этот перечень храмами, построенными первым поколением прибывших в У-Цанг монахов Восточной винаи, а также их непосредственными учениками. Проблемы этого списка носят разноплановый характер, начиная с того факта, что один и тот же храм может иметь два разных названия (например, Lan parta ‘bres = Lan pa’i pho brang), а два разных храма часто имеют очень схожие названия, и их можно легко перепутать66. К ним также относится тот факт, что, хотя многие из учеников второго поколения к этому времени, безусловно, могли возвести собственные храмы, дополняющие изначальный круг религиозных сооружений, результаты их работы также не включены в данный список. Более того, в списке не указаны храмы, строившиеся или хотя бы находившиеся в стадии завершения к середине одиннадцатого столетия, о которых говорится в агиографии Атишы, причем бенгальского монаха призывали освящать храмы, которые он сам не строил и не контролировал67. Таким образом, мы должны рассматривать Приложение 1 только как приблизительный вариант. Количество храмов, построенных ко времени прибытия Атишы в У, по всей видимости, составляло от двухсот до трехсот единиц или, возможно, немногим больше.
 |
|
Илл. 5. Качу. Прорисовка по фотографии Ричардсона
|
Как и в случае построек, фотографии которых датированы до 1959 г., большинство этих храмов, несомненно, были небольшими одно- или двухэтажными зданиями с одним главным и, возможно, вторым небольшим залом, т.е. в целом представляли собой очень скромные религиозные учреждения (см. Илл. 5). Несмотря на превозносимый в тибетской литературе образ монахов Восточной винаи, возродивших Винаю в У-Цанге «из тлеющих углей», мы не должны ни преувеличивать размеры зданий, которые они ремонтировали и строили, ни преуменьшать важность их вклада. Многие из этих строений использовались не круглый год, и нам известны случаи, когда монахи закрывали свои храмы, чтобы получить наставления или принять участие в ритуалах в расположенном поблизости крупном монастыре, который мог себе позволить субсидировать выступление учителя или проведение ритуального мероприятия.
Кроме того, поскольку большинство монахов проходило обучение у нескольких учителей, точная принадлежность многих храмов описывается по-разному, к примеру, один источник приписывает здание группе Бацуна, а другой указывает на его принадлежность к общине Дринга. Однако, в этих вопросах их отношения строились на основе взаимоуважения, хотя между ними порой и возникали разногласия, отчасти связанные с экономикой этих учреждений. Иерархия отношений часто поддерживалась направлением средств из второстепенных общин в главный храм или монастырь, такой как Солнак Тангпоче или другой большой храм. Это финансирование называлось «налогом» (khral) или «монашеским налогом» (sham thabs khral), хотя в тот период этот термин трактовался скорее как что-то вроде обязательных профессиональных взносов. Поэтому даже при наличии пусть слабых, но все-таки правительственных структур, не было никаких оснований для какого-либо их участия в сборе и распределении таких средств68. Конечно, в это время практиковался и централизованный сбор религиозных активов. В частности, в агиографии Атишы сообщается, что Сумпа Еше Лотро предлагал, чтобы все средства, собранные с монахов четырех школ Тибета, были пожертвованы этому бенгальскому учителю69.
Возможно, что ситуацию с централизованным сбором средств лучше всего иллюстрирует информация из провинции Цанг, где у Лотана будто бы было восемь с половиной доходных групп, финансирующих его деятельность: три принадлежали его «верхним» сообществам, и пять с половиной – к «нижним», причем это была лишь небольшая часть местных сообществ70. Подобным образом, Цонгцтина поддерживало девять групп, финансировавших его главный монастырь Нголинг. Также несомненно, что родственные сообщества время от времени собирались в различных целях, таких как, например, принятие решений о размещении в монастырях начинающих монахов, чьи наставники умерли71. К сожалению, о данной системе финансирования помимо этого почти ничего неизвестно (объемы средств, договорные отношения и т.п.), за исключением того, что последующие ученики, идущие путем Восточной Винаи, продолжали следовать той же практике72.
Влияние традиции Восточной винаи помимо прочего объяснялось еще и тем, что Луме, Лотан и другие не просто принесли в Центральный Тибет Винаю, как это принято представлять в тибетских и современных научных исследованиях. Ранние документы ясно показывают, что Виная была их наиболее значимым вкладом, т.к. четко формализовывала исходную институциональную структуру, систему внутренних и внешних отношений, правила жизнедеятельности монашеского сообщества, процедуры разрешения споров и т.п. Однако, новые монахи с северо-востока также принесли с собой учебную программу, которая использовалась в древних имперских храмах. Основной упор в ней делался на изучение писаний праджняпарамиты, но помимо этого повышенное внимание также уделялось технической литературе индийского буддизма. В частности, это означало обучение абхидхарме, вероятно, махаянской по йогачаринскому трактату «Абхидхармасамуччая», хотя некоторые источники также сообщают об изучении объемного труда «Йогачарабхуми»73. В этом не было ничего удивительного, учитывая сильную традицию по изучению работ йогачары, которая процветала в Дуньхуане во времена тибетской оккупации. Так что наследие этой схоластической традиции не могло не повлиять на учебную программу, принесенную в Центральный Тибет. В результате Солнак Тангпоче, которому Луме отдавал особое предпочтение, стал центром схоластики и олицетворял собой возрождение имперской учебной программы в религиозной жизни долины Ярлунг74. Со времени его постройки (1017 г.) и до конца двенадцатого столетия он был центром изучения «совершенства мудрости» и трактатов мадхьямаки. Его настоятели, такие как Кхутон Цондру Юнгдрунг (1011–1075 гг.), в конечном счете встали во главе слияния старой учебной программы с новыми материалами кадампы, появившимися в Центральном Тибете в середине – конце одиннадцатого столетия75.
Помимо этого, группа монахов Восточной винаи была тесно связана как со старинными тантрическими системами периода раннего распространения Дхармы, так и с более поздними эзотерическими системами, которые начали появляться благодаря усилиям переводчиков одиннадцатого столетия. Одним из выдающихся монашеских тантристов ньингмы был эксцентричный Драпа Нгонше (1012–1090), отпрыск одного из великих аристократических кланов тибетской империи Чим76. Он был ординирован двумя монахами из линии Луме: Бесо Кервой и Ямшу Гьелва-о, и стал знаменит благодаря своим глубоким познаниям в абхидхарме (вероятно, «Абхидхармасамуччаи»), в связи с чем и именовался «знаток (shes) абхидхармы (mngon pa)». Несмотря на это, Драпа Нгонше стал центральным звеном в строительстве и развитии монастырей Восточной винаи, поддерживавших тантрические практики77. Два наиболее значимых тантрических учебных центра Восточной винаи Пукпоче и Дратанг (1081 г.) были напрямую связаны с Драпой Нгонше, его учителем Ямшу и его учениками78. Драпа Нгонше настолько преуспел в том, чтобы убедить монахов Восточной винаи принять эзотерическую ритуальную систему, что вызвал этим зависть у Кхутона – ученика Луме и настоятеля великого монастыря Солнак Тангпоче. Рассказывают, что Кхутон даже прибег к черной магии, чтобы уничтожить Драпу Нгонше, но безрезультатно79.
В более позднем возрасте, как это случалось с некоторыми тантрическими монахами одиннадцатого столетия, Драпа Нгонше отказался от своих монашеских одеяний, покинул округ Дрананг, расположенный около Брахмапутры, и перебрался на юго-восток в Ярлунг, где основал новый центр Ченье80. Он, безусловно, получал как ньингмапинские, так и новые учения (последние в основном через Зангскара-лоцаву), и традиция ньингма помнит его и как наставника традиционной системы, и как выдающегося открывателя «текстов-сокровищ»81. Намного позже, Драпа стал фигурой, напрямую не связанной ни с одной из традиций, как, впрочем, и многие личности одиннадцатого столетия. Помимо прочего, ему приписывают открытие в 1038 году «Четырех медицинских тантр», хотя, похоже, что это утверждение не имеет под собой достаточных исторических оснований.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
- Rwa lo tsa ba’i rnam thar, p. 10.9-10.
- *Catuhkrama, fol. 358b6-7; C rags- pa shes-rab must be an approximate contemporary of rNgog-lo bLo-ldan shes-rah (1059- 1109), for both worked with Sumatikirti. De Jong 1972, p. 516, maintains that the phrases la gtugs pa or dang gtugs pa indicate “to compare [one text] with [another].” While this is the implied meaning in some circumstances with respect to texts (not here, where the text secured is the only one), gtugs actually means to encounter or to consult, in these cases with the purpose of collation. De Jong’s interpretation causes him some problems, pp. 533- 34, when colophons indicate that individuals are encountered (or not: pandita la ma gtugs shing), which do not indicate that a text was compared with a pandita but that a pandita had not been met who could solve textual difficulties .
- Rwa lo tsa ba’ i rnam thar, p. 310.1-7.
- Snellgrove 1987, vol. 2, p. 470, sums up the received wisdom: “The second diffusion of Indian Buddhi sm in Tibet, regarded primarily as a necessary scholarly enterprise, was a very important phase in the history of the conversion of Tibet, but it represented a new beginning only so far as the collation and translating of Indian Buddhist scriptures were concerned.”
- The literature on this phenomenon is vast; a convenient summary is in Rabil 1988, pp. 350-81.
- For the Shong-ston bLo-gros brtan-pa, see Davidson 1981, p. 14, n. 38; the unacceptable translation system of Bu-ston is evinced in his work on the Taramulakalpa, To. 724.
- This explanation is based in the discussion in Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi’i bcud, p. 459; compare mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 396; the rNam thar yongs grags, p.113, is especially adamant that doubts about the correct path were the issue.
- Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi ‘i bcud, p. 462.18-21, mentions the unsuccessful search for sections of esoteric literature in old temple libraries.
- Indicating the textual history, Sorensen 1994, pp. 14-22, and van der Kuijp 1996, p. 47, pointed to one of the two lineage lists in the conclusion of the text printed in Lanzhou (p. 320: Atisa, Bang-ston, sTod-lung-pa [1032-16], sNe’uzur-ba [ro42-1n8/r9], ‘Bri-gung-pa [1143-1217], rGya-ma-ba [1138-1210], Rwasgreng-ba, dKon-bzang, rDor-je tshul-khrims [1154-1221], and then the redactor), although both suggested that the list might be made more historical than it is by emending ‘Bri-gung-pa to Lha-chen ‘Bri-gang-pa [ca. 1100/ro-1190]. However, I believe the real message here is that some bKa’-brgyud monks appropriated the Atisa legend to augment their position in the midst of the rise of the Sa-skya in the thirteenth century and were unable to invoke the bKa’-gdams lineage in a logical chronology, resulting in the chronological inconsistency. The text recognizes ( p. 321) that it is the longest version of a threefold short, medium, and long version circulating in gTsang and mentions (p. 287.ro) one whose name ends in snying-po (snying po’i mtha ‘ can), undoubtedly indicating Dwags-po sGom-tshul (1116-69; full name: Tshul-khrims snying-po, see his short hagiography appended to the mNyam med sgam po pa”i rnam thar, p. 166.9), and thus the text is probably the product of his followers who participated in the renovation of the Jokhang around 1165.
- See, for example, the *Vajrayanamulapattitika, To. 2486, fol. 19ob4.
- On this topic, see Davidson 1990.
- This is important and neglected evidence about a Candrakirti. If this Indian proves to be the same as the author of the Pradipodyotana commentary on the Guhyasamaja, then that would assist our chronology of lndic tantra. See Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi i bcud, p. 459; compare mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 394, where he gives a delightful narrative of a second translation team, sNubs Yeses rgya-mtsho and Dhanadhala (?), and the latter’s evil mantras.
- A helpful review on the opinions of the circumstances of the later diffusion is found in Kah-thog Tshe-dbang nor-bus Bod rje lha btsan po’i gdung rabs tshig nyung don gsal, pp. 77-85.
- Early versions of the Smrti story are found in Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, pp. 459-60, and mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 396.
- For this character, the text reads khyeng rje shag btsan bya ba la btsongs te; I understand khyeng / kheng / rgyen as cognates, the former unattested but the latter well known.
- It probable that gLan Tshul-khrims snying-po is referring to a disciple of kLu-mes; see sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 144.
- The sM r’a sgo mtshon cha (To. 4295) is examined in some detail in Verhagen 2001, pp. 37-57-
- Datang xiyuji,T.2087.51.918b16-24; Beal 1869, vol. 2, pp. 135-36.
- Sachau 1910, vol. 1, p. 19.
- Datang xiyu qiufa gaoseng zhuan, T. 2066 passim; Lahiri 1986, p. xvii.
- Verhagen 1994, pp. 185-98, 231-57, discusses these grammars and their associated literature.
- Verhagen 1994, pp. 9-107, reviews this effort.
- Colophon to the Arya-tathtigatosnisasitapatraparajita-mahapratyangaira-paramasiddha-nama-dharani, fol. 219a7
- Colophon to the Bhiksavrtti-nama. I have not been able to locate a Nye-ba’i ‘thung-gcod-pa in Kathmandu. For a translation of Si-tu Pan-chen’s visits to Kathmandu in 1723 and 1744, see Lewis and Jamspal 1988. None of the sites mentioned by Si-tu Pan-chen seems to correspond to this one. Cf. Lo Bue 1997.
- The colophons to three texts contain virtually the same lines: Raktayamarisadhana, To. 2084, rgyud, tsi, fol. 161 -5; Kayavakcittatrayadhisthanoddesa,To. 2085, rgyud, tsi, fol. 162b4-5; Trisattvasamadhisamapatti, To. 2086, rgyud, tsi, fol. 162b3-4. Note that the Tohuku catalog has no translator listed for the first (To. 2084) of these, just one of many places where this catalog is in error. On Tirhut, see Petech 1984, pp. 55, 119, 207-12.
- Colophon to the rJe btsun ma ‘phags pa sgrol ma’i sgrub thabs nyi shu rtsa gcig pa’i las kyi yan lag dang bcas pa mdo bsdus pa, To. 1686, bsTan-gyur, rgyud, sha, fol. 24b6. For Stam Bihara as Vikramasila, see Stearns 1996, p. 137, n. 37.
- Rong zom chos bzang gi gsung ‘bum, vol. 1, p. 238.
- See the remarks in Hattori 1968, pp. 18-19; Manjusrinamasamgiti, Davidson 1981, p. 13.
- Witzel 1994, pp. 2-3, 18-20.
- Sachau 1910, vol. 1, p. 18; discussed in Witzel 1994, pp. 2-3.
- Colophon to Sri-Hevajrabhisamayatilaka, fol. 13oa6.
- The following is taken from the Rwa lo tsti ba’i rnam thar 1989; Decleer 1992 considered some of the problems of this document.
- Rwa lo tsti ba’i rnam thar, p. 9.
- Decleer 1992, pp. 14-16, showed the disagreement among the sources on this betrothal. While the Rwa lo tsti ba’i rnam thar, p. 9, indicates that he did not wish marriage, Taranatha’s telling of the same tale indicates that his fiancee could not stand Rwa-lo; both may still be true in some measure.
- Rwa lo tsti ba ‘i rnam thar, pp. 11-13.
- The designation Transitional was suggested by Slusser 1982, vol. 1, pp. 41-51; adopted by Petech 1984, pp. 31-76; and questioned to some degree by Malla 1985,p. 125
- The following political description follows Petech 1984, pp. 31-43, except as noted. See Malla 1985, although this is an excessively harsh review of Petech 1984.
- Compare Petech 1984, pp. 37-39, who provides the regnal dates of 1010 to 1041, while the editors of the Gopalarajavamsavali, p. 236, suggest 1023 to 1038.
- Petech 1984, pp. 39-41; Gopalarajavamsavali, p. 127; Nepalavamsavali, p. 98.
- Regmi 1983, vol. 1, pp. 132-33, vol. 2, pp. 82-83, vol. 3, pp. 221-23; the date is Mahadeva era, beginning October 576 c.e., year 199. For this era, see Petech 1984, p. 12.
- Eimer 1979, §§ 248 to 251.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 60.
- Rwa lo tsd ba”i rnam thar, pp. II, 20-21, 38, 68, 81, etc.
- Regmi 1983, vol. 1, pp. 76-77, vol. 2, pp. 46-47, vol. 3, pp. 139-46; Gum Baha in Sankhu is the only one clearly identifiable; see Locke 1985, pp. 467-69.
- Locke 1985, pp. 533-36.
- Locke 1985, pp. 28-30, considers this grouping.
- Based on the descriptions of geography, Decleer 1994-95 hypothesized that Ye-rang nyi-ma steng be located in the Chobar Gorge, but the evidence is not compelling and the site unlikely. I prefer to look for the monastery exactly where the text locates it and read the geographical descriptions as Pure-Land inspired.
- Locke 1985, pp. 70-74, discusses this monastery.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 72: specifically, Maitripa was said to have been the Upadhyaya, but this siddha figure was ejected from Vikramasila by Atisa for sexual impropriety, and it is questionable whether he would have gotten a hearing at Nalanda at about the same time.
- Two of the scriptural materials are edited and translated in Siklos 1996; the colophons are available on pp. II4, 155. Siklos ‘s analysis of the transmission to Tibet, pp. 10-II, is weak. The representation of Bha-ro phyag-rdum as essential to the Yamari materials is bolstered by his presence in the lineage received by Sa-chen Kun-dga’ snying-po, bLa ma sa skya pa chen po’i rnam thar, p. 83.3.r.
- The Mayamata 25.43-56 contains a description of the construction of various kinds of kunda.
- For the current usage, see Kolver and Sakya 1985, p.19; compare Gellner 1992, pp. 162- 86.
- Petech 1984, pp. 190-91; Kolver and Sakya 1985, pp. 72, 91, 107, 128. The earliest Bharo attested is Kadha Bharo, in a document dated 1090/91, sixty years after Rwa-lo’s arrival. It is difficult to extrapolate from current caste designations as far back into the eleventh century, and we know that the remarkable changes in the twentieth century could just as easily have occurred before. For the changes in Newar sociology in the last two centuries, see Rosser 1978.
- rNam thar rgyas pa, Eimer 1979, §§ 271, 393; Petech 1984, p. 190.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 66.
- Rwa lo tsd ba’ i rnam thar, p. 13; for bhari = wife, see Gopalarajavamsavali, p. 181. Locke 1985, p. 484a, specifically questions the depiction of medieval Patan under the “thesis [that] posits a great (celibate) monastic and scholarly tradition on the model of the Indian Buddhist Universities which then deteriorated to produce a sort of corrupt Buddhism in the Malla period. Did this [model actually] ever exist, or has Nepalese Buddhism from its inception been mainly ritual Buddhism supported mostly by householder monks?” Note, however, that the bahis maintained an ideology of conservative Buddhist monasticism, even after becoming entirely lay, which may indicate that at one time they were the centers of celibate Mahayanist orthodoxy; see Gellner 1992, pp. 167-68; Locke 1985, pp. 185-89.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, pp. 20-21, 39-40; in this latter place, the merchant ‘s name is given as Zla ba bzang, perhaps *Candrabhadra or some similar name.
- Rwa lo tsd ba-‘i rnam thar, pp. 15-16: nga rta la bahs nas bong bu zhon pa mi’ong.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 35.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 43; Decleer 1992 showed this episode to be reported in a dramatically different manner by Taranatha.
- Rwa lo tsd ba ‘i rnam thar, pp. 30-31, for the warning, in strong contrast to Rwa-lo’s propagation in public environments, pp. 45, 54, 143, 145, 158, 159, 162, 181,183, 188, 200, 217, 229, 234, 241, 243, 291, 300, etc.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 48.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 49.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 50.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 100.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 63; I have not been able to locate the precise meaning of this designation in medieval Nepalese documents, but Tibetan materials treat Ha-du (or Ham-du, Had-du) as a class of Newari religious; compare Rwa lo tsd ba’i rnam thar, pp. 64, 66. In the latter section, two hundred of these individuals are assembled. Hang-du dkar-po is also mentioned as Sa-chen’s source for some Yogini, Guhyasamaja, and Kalacakra teachings; see bLa ma sa skya pa chen po’i rnam thar, p. 85.4.2-3. Compare Stearns 2001, pp. 206-7, n. 15.
- We note that none of the rNying-ma annalists of the Vajrakila agrees with this outcome. For them, Rwa-lo was killed by Lang-lab Byang-chub rdo-rje , and this constitutes a great item of pride; see, for example, Sog-bzlog-pa, dPal rdo rje phur pa i lo rgyus chos kyi ‘byung gnas ngo mtshar rgya mtsho’i rba rlabs, in Sag bzlog pa gsung ‘bum, vol. 1, pp. 168-77, esp. pp. 168.4-70.3.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. 309.
- Rwa lo tsd ba i rnam thar, p. 310; one of the verses in this sung reply is translated at the head of this chapter; see n.2. The episode of Kong-po A-rgyal’s daughter is related on pp. 293-95; Rwa-lo’s survival and escape were, of course, miraculous.
- Sag bzlog pa gsung ‘bum, vol. 1, p. 168. We note that Sog-bzlog-pa had his own reasons for propagating this number, for he claimed that Lang-lab Byang-chub rdo-rje was the only figure to escape Rwa-lo’s net of magic, thus articulating the superiority of the Vajrakila system over that of Vajrabhairava.
- Rwa lo tsti ba’i rnam thar, pp. 102-3.
- Rwa lo tsti ba’i rnam thar, pp. 64, 142; Chos ‘byung bstan pa’i sgron me, p.148.1-2.
- Rwa lo tsti ba’i rnam thar, pp. 166-68; Davidson (forthcoming b) further examines this conflict.
- Deb ther sngon po, vol. 1, pp. 438-43; Blue Annals, vol. 1, pp. 360-64.
- Deb ther sngon po, vol. 1, p. 159.9-10; Blue Annals, vol. 1, p. 123.
- Deb ther sngon po, vol. 1, p. 438.9-10; Blue Annals, vol. 1, p. 360.
- dPal gsang ba ‘dus pa’i dam pa ‘i chos byung ba’i tshul, pp. II 5-17; Vitali 2002, p. 90, n. 6, relates the gNas rnying skyes bu rnams kyi rnam thar version of the story.
- bLa ma brgyud pa bod kyi lo rgyus, p. 173.3.5, translated in chapter 5.
- Deb ther sngon po, vol. 1, pp. 151-52, 156; Blue Annals, vol. 1, pp. 117, 121.
- Lho rong chos ‘byung, p. 50, mentions the rNgog gi gdung rahs che dge yig tsang of the rNgog clan.
- Snellgrove 1987, vol. 2, pp. 470-526, contains many cogent observations on this point.
- Rwa lo tsti ba’i rnam thar, p. 122.
- See Jackson 1990, pp. 102-4.
- Deb ther dmar po, p. 74.2, gives a bird year; the thirteenth-century dKar brgyud gser ‘phreng gives no dates, pp. 137-87, nor does the mKhas pa ‘i dga’ ston, vol. 1, pp. 774-75; Lho rong chos ‘byung, p. 49, is the most informative on the chaos of dates: “This lord was born in the sa-mo-phag year (999 or 1059) and passed away at eighty-six (that is, 85); we can also accept the difference of two years so that he was born in the chu-pho-stag year (1002 or 1062), but there are others accepting a difference of five years (1004?), and which among these is correct should be examined. The Chos ‘byung mig ‘byed (?) says he was born in a shing-pho-byi (1024) and died at eight-four in the me-mo-phag (1107), but that would put Mila at age sixtyeight and rNgog mdo-sde at age thirty-one when he died, and the time doesn’t fit.” Only the later bKa’- brgyud sources, like the sTag lung chos ‘byung, pp. 132-44, accepts the date of the Blue Annals, pp. 404-5.
- For the relationship of Mar-yul to the current Ladakh, see Vitali 1996, pp. 153-61.
- Kha rag gnyos kyi rgyud pa byon tshul mdor bsdus, dated 1431?, pp. 5-16. This hagiography clearly has its own problems, and gNyos-lo is accorded an age of more than 140 years at his death, p. 16.3.
- Deb ther dmar po, p. 74.16, has Mar-pa study for six years and six months with Naropa.
- Decleer 1992, pp. 20-22, examined this curious episode; Stearns 2001, p. 220, n. 62, discussed charges that gNyos-lo-tsa-ba fabricated tantra rather than translating them.
- The problems with the exact death date of Naropa extends to testimony of the bKa’-gdams-pa. As we will see, the report of Nag-tsho in Grags-pa rgyalmtshan’s letter makes 1041 the most likely date, with the news of his death received by Atisa and Nag-tsho after they had already arrived in Nepal. Yet the rNam thar rgyas pa has Naropa die twenty-one days after Nag-tsho sees him back in Vikramastla; see Eimer 1979, § 232.
- For example, sTag lung chos ‘byung, pp. 131-45.
- Mar pa lo tsd’i rnam thar, p. 84; this strategy was followed by gTsang-smyong’s follower Brag-dkar Lha-btsun Rin-chen rnam-rgyal (1457-1557) in his hagiography of Nru-opa, which is the one translated by Guenther 1963; see pp.100- 102; for gTsang-smyong, see Smith 2001, pp. 59-79.
- rNal ‘byor byang chub seng ge’i dris Ian, SKB III.277,4,4-78.2.7.
- There have been many who have noticed this problem; Wylie 1982 is representative; compare Guenther 19631 pp. xi-xii.
- For example, Saddharmopadesa, To. 2330, fol. 271a2-3; compare Guhyaratna, To. 1525, fol. 83b1-2.
- mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 760; rNgog ‘s dates from Lho rong chos ‘byung, p. 52, but other sources place his birthdate at 1036.
- sGam po pa gsung ‘bum, vol. 11 p. 326.8; on this figure, see Deb ther sngon po, vol. 11 p. 485.2-67, Blue Annals, vol. 1, p. 400; on sGam-po-pa locating Puspahari in Kashmir, see sGam po pa gsung ‘bum, vol. 2, pp. 8, 392.
- dKar brgyud gser ‘phreng, p. 173; this prophecy is often repeated; see Deb ther dmar po, p. 74, mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 775; ‘Brug pa’i chos ‘byung, p. 325.
- sGra sbyor ham po gnyis pa, fol. 132b6-33a1.
- Rwa lo tsd ba’i rnam thar, p. ro4, identifies three kinds of dakinis: flesheating (sha za), worldly (‘jig rten), and gnostic (ye shes). It is not clear whether these categories are in fact Indian. For the Lam-‘bras definitions of five daka, see app. 2, §I.B.2.d. note 7.
- For a fuller elaboration of the concerns in this section, see Davidson 2002a.
- For example, Pha dam pa’i rnam thar, pp. 6o-6r.
- Dam chos snyingpo zhi byed las rgyud kyi snyan rgyud zab ched ma, vol. 1; this very interesting collection is in need of much work; Hermann-Pfandt 1992, pp. 40 7- 151 has begun the process; compare Davidson forthcoming a.
- Sri-Vajradakinigita, To. 2442, fol. 67a1-2.
- rNal ‘byor pa thams cad kyi de kho na nyid snang zhes bya ba grub pa rnams kyi rdo rje’i mgur, To. 2453.
- Examples of the normative view of gSar-ma traditions being almost universally authentic include Mayer 1997b, pp. 620-22.
- There are two received versions of the sNgag log sun ‘byin. One is in Sog bzlog gsung ‘bum, vol. 1, pp. 475-88, which includes the interlinear annotations and refutations of the translator’s position. The second version is found in the sNgags log sun ‘byin gyi skor, pp. 18-25. The texts diverge in significant ways.
- gSang sngags snga gyur la bod du rtsod pa snga phyir byung ba rnams kyi Ian du brjod pa Nges pa don gyi ‘brug sgra, in Sog bzlog gsung ‘bum, vol. 1, p. 444.4.
- On Bai-ro tsa-na, see Karmay 1988, pp. 17-37.
- On this canon, see Karmay 1988, pp. 23-24. Kaneko 1982 lists five works having rMad du byung ba in the title: nos. 10, 20, 38, 40, and 42. Karmay 1988, p. 24, identifies no. 20 as the text in the sems-sde canon.
- sNgags log sun ‘byin gyi skor, pp. 13, 26.
- Mayer 1996, p. 142, n. 29, reports that Alexis Sanderson argued that because of its citation in the received manuscript of Vilasava’s Mantrarthavalokini, the real name of this work is Guhyakosa. The Dun-huang manuscript studied in Hackin 1924, p. 7, however, reads Guhyagarbha, and the text provides a close approximation of the phonetics we expect from an lndian – Devaputra – in the tenth century.
- David Germano called my attention to this translation by Thar-pa lo-tsaba Nyi-ma rgyal-mthsan being preserved in the Phu-brag, no. 754, Samten 1992, pp. 233-34; compare Sog bzlog pa gsung ‘bum, p. 479. Sog-bzlog-pa reports that the Manika Srijnana translation was done in the iron monkey (lcags pho spre’u) year. gZhon-nu-dpal, writing in 1478, mentions that the bSam-yas text was actually found by Kha-che paQ-chen Sakyasri, at the beginning of the thirteenth century, and came eventually to bCom-ldan rig-ral and was translated by Thar-pa lo-tsaba, a teacher of Bu-ston, and that gZhon-nu-dpal himself had the surviving Sanskrit folia in his possession. See Deb ther sngon po, vol. 1, p. 136; Blue Annals, vol. 1, p. 104.
- Karmay 1998, pp. 29-30.
- Karmay 1998, p. 30, correctly identified him with the Pandita Prajnagupta.
- On this issue, see Davidson 1990.
- 116.To.378,379,392-94,398,404,410,421,422,447,450.
- Davidson 1981, p. 13, for a discussion of this point.
- Rinpoche and Dwivedi, eds. Jnanodaya-tantram.
- On this point, see the introduction by Tsuda 1974 to his edition of the Sarizvarodaya-tantra, p. 30.
- Jackson 1996, p. 235, first notes this was in the twelfth century but that its roots were in the eleventh; Rong-zom devotes two surviving works to the issue, although it is discussed elsewhere in his oeuvre as well: the Sangs rgyas sa chen po, Rong zom chos bzang gi gsung ‘bum, vol. 2, pp. 69-87; and the Rang byung ye shes chen po’i ‘bras bu rol pa’i dkyil ‘khor tu bla ba’i yi ge, Rong zom chos bzang gi gsung ‘bum, vol. 2, pp.111-30. The question is discussed in the hagiography/contents by Mi-pham, Rong zom gsung ‘bum dkar chag me tog phreng ba, Rong zom chos bzang gi gsung ‘bum, vol. 1, pp. 15-21; I thank Oma Almogi for drawing my attention to these works.
- Spitz 1987, vol. 1, p. 148.
- Bu st on chos ‘byung, pp. 3- 9; Obermiller 1931, vol. 1, pp. 8-17.
- Rwa lo tsa ba’i rnam thar, p. 205; for this event, see Shastri 1997; van der Kuijp 1983, pp. 31- 32.
- On European textual cultures, see Irvine 1994, and on the problems of definition for a textual culture, see Stock 1990, pp. 140-58. The situation appears more complex than reported in Blackburn 2001 for Sri Lanka.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Другая сторона реакции ниньгмы на доктринальную полемику с сармой выглядела как прямой вызов подчас сомнительной деятельности новых переводчиков эзотерических писаний и их индийских собратьев, которые благодаря почтительному отношению к ним тибетского сообщества нередко позволяли себе пренебрегать общественными и религиозными нормами. Конечно, в первую очередь нам следует рассмотреть обвинения против движения «новых переводов», выдвинутые Ронгзомом Чозангам и подробно изложенные и дополненные Рок-бен Шерапом-О (1166-1233) в его «Великом окончательном представлении истории Дхармы» (Chos byung grub mtha’ chen po). Ронгзом был не только одним из самых образованных тибетцев второй половины одиннадцатого столетия, но и сам переводил новые тантрические материалы совместно с индийскими пандитами85. Однако, это не помешало ему систематизировать древнюю традицию Ваджракилы, которая до сих пор отождествляется с ним и носит название «Система Ваджракилы Ронга» (Rong lugs rdo rje phur pa), а также ньингмапинскую линию передачи, известную как «Система Ронга природы ума Великого совершенства»86. Этот ученый мог взвешено оценить любое учение с противоположных позиций, поскольку обладал глубокими знаниями как в области новых доктрин, так и древней духовности, и поэтому хорошо представлял себе сильные и слабые стороны каждого из этих направлений. Наглядным примером его способностей является использование Ронгзомом в своем дискуссионном комментарии к «Манджушринамасангити» экзегетических аргументов как ньингмы, так и сармы87. Однако, никто из тех, кто читал работы Ронгзома, не счел бы его беспристрастным, поскольку он был решительным сторонником школы ньингма. Рок-бен дополнил язвительные наблюдения Ронгзома в одном из его самых важных ответов на полемические аргументы новых переводчиков в лице Го-лоцавы Кхугпы Лхеце:88
«Теперь, если вам интересно почему появились несхожие между собой хроники, повествующие о том, как возникли различные тантры, мы должны обратить внимание на то, что в эти последние дни Дхармы заповеди учителей в Индии пришли в упадок. Великие тантры постепенно начали исчезать, а их рукописи портились. С появлением практики текстов, вновь полученных [в качестве замены] из рук дакини различными сиддхами, записи о том, как ранее возникли тантры, так и не были интернализированы [и были поняты лишь в неполной мере]. Более того, современные пандиты, движимые жаждой обладания золотом, спрашивают, какая форма Дхармы ценится в Тибете, и в ответ фабрикуют многие из этих учений. Переводчики, движимые потребностью в обучении, проводят лето в Мангьюле, а зимой спускаются в Непал. Основываясь на дхармах, переведенных бодхисатвами, которые были переводчиками раннего периода, и мнении своих пандитов, эти новые переводчики просто изменяют все в соответствии со своими собственными идеями. Они основываются на учениях, общих с доктринами тиртхиков о каналах, ветрах, сущностях и т.п., с которыми они познакомились в некоторых странных святых местах (pitha). Однако с этой «золотой дхармой» (gser chos) заветы Татхагаты выглядят как искалеченные и израненные89. Сейчас вы, возможно, удивляетесь, почему в Индии больше не встречаются выдающиеся тексты системы ньингмапинских мантр. Считается, что в целом в ранний период вся Дхарма, укоренившаяся в Индии, была переведена. Среди них те тексты, которые были заново переведены в более поздний период, были обозначены как «новые» (sarma), тогда как те, которые не были переведены повторно, были названы ньингма. И это правда, что были работы, особенно среди материнских тантр, которые не переводились ранее, а уже позже были получены из рук дакини и затем переведены. Вы можете спросить, почему эти тантры ньингмы не были переведены заново. Ранние тантры пришли в человеческую сферу в стране Захор, которая находится к юго-востоку от Ваджрасаны (Bodhgaya), и так сложилось, что именно в этом царстве [Захор] они были популярны. В те времена пандиты получали образование в Захоре, и таким образом пандиты, приглашавшиеся в Тибет в ранний период, были из Захора. Даже те, кто был из восточно-индийского округа *Дханадала и других мест, как правило, обучались в Захоре. Поскольку в те времена буквы в рукописях в основном записывались шрифтом Захора, то впоследствии пандиты из Магадхи к ним не возвращались (т. е. не могли их читать и поэтому не переводили тексты заново). Более того, в Захоре Дхарма померкла, по причине того, что правитель территории, граничащей с Захором, пошел войной на эту страну. Таким образом, [Дхарма и пандиты из Захора] не могли быть приглашены в период позднего распространения в Тибете. Наставления Великого совершенства, поскольку они очень глубоки, не могут удержаться в уме каждого. Его тексты были спрятаны под Ваджрасаной, и Шри Симха вынул лишь небольшую их часть и обучил Байрочану. Остальное находится там, где он их сокрыл… Эти хроники основаны на материале, изложенном в «Истории Дхармы в Восточном Тибете» (mDo Khams smad kyi chos ‘byung) Кхампы Сенге и «Великих Анналах, запрошенных Смрити Джнянакирти, которые отсекают сомнения» (Smrti Jnanakirti la dri ba’i the tshom bead pa’i lo rgyus chen mo)90».
Мало кто задается вопросом, зачем тибетцы являлись в индийские монастыри с дорожными сумками полными золота, однако именно на это пытается обратить наше внимание Ронгзом. Этот факт отражен в различных источниках, и, читая их, мы порой становимся свидетелями разговоров о способах и сложностях транспортировки золота в Индию и из Индии91. Ронгзом указывает, что, возможно, имело место производство текстов, ориентированное на запросы потребителей. Вследствие этого индийцы прибывали в горные районы У-Цанга с охапками эзотерических произведений, на которых едва просохли чернила и которые были составлены («явлены») в свете вопросов, больше всего интересовавших тибетцев. Я также полагаю, что данное явление было упущено из виду при изучении истории ранних переводов имперского периода, и даже произведений махаяны, переведенных на китайский язык, поскольку на все эти события оказывали воздействие одни те же факторы. Вопреки широко распространенной идеологии явления писаний посредством религиозного откровения, можно предположить, что в самом худшем случае изготовление буддийских священных текстов было именно товарным бизнесом. Похоже, что некоторые индийцы могли предоставить любой текст, востребованный этим рынком, лишь бы его оплата производилась драгоценным желтым металлом, который индийцы всегда обожали и продолжают обожать.
Некоторые наблюдения Ронгзома звучат весьма правдоподобно, т.к. между девятым и одиннадцатым столетиями произошли драматические изменения в системе письма, т.н. «переход к нагари». Витцель (Witzel) показал на примере кашмирских произведений, таких как «Ниламата-пурана», что основанный на старых гуптовских шрифтах сиддхаматрика порой были непонятен более поздним пандитам, которые при необходимости прибегали к вольной трактовке таких текстов, причем по его словам эта проблема в меньшей степени затронула Кашмир, а в основном касалась Магадхи и Бенгалии92. В равной степени верно и то, что современная история индуистских писаний, таких как пураны и тантры, представляет собой процесс последовательного переосмысления их содержания, причем нередко это происходило в качестве ответа на то, что по мнению писца или пандита хотел услышать их покровитель. В обзоре пуран, выполненном Роше (Rocher), представлены многочисленные примеры данного процесса, причем он не зависел от того, кем являлся покровитель, британцем или индийцем, а в его основе лежит общепризнанное восприятие этих текстов перформативными и эмерджентными, а не зафиксированными и статичными93.
Для многих переводчиков сармы буддийские писания и индийские комментарии превратились в некую самоценность, посредством которой они утверждали свой общественный и религиозный статус. Однако, памятуя об обвинениях Го-лоцавы, утверждавшего, что автором «Гухьягарбхи» на самом деле является Ма Ринчен-чок, хотя мы точно мы знаем, что «Гухьягарбха» имеет подлинно индийское происхождение, становится очевидным, что даже ученым тибетцам было трудно определить, какой из текстов ведет свое происхождение из Индии, а какой нет. При этом, похоже, что ни одному из пандитов и переводчиков, предававшихся размышлениям в библиотеках, оставшихся от старой династии, никогда не приходило в голову поинтересоваться имперским опытом по каталогизации содержимого таких библиотек, поскольку нет никаких упоминаний о существовании каталогов санскритских рукописей в «четырех рогах» Тибета тех времен. Ни Атиша, посещавший Самье, ни Рало, отреставрировавший его в 1106 году, очевидно, даже и не думали использовать свои навыки работы с рукописями для каталогизации хранилищ индийских текстов. Другие библиотеки, хранившие индийские манускрипты имперских времен, также оставались некаталогизированными. Поэтому неудивительно, что наличие или отсутствие индийских текстов у какой-либо линии передачи учения никак не могло быть единственным определяющим фактором для подтверждения или отрицания ее аутентичности.
Еще одной отправной точкой для оценки линии передачи было божество, провозглашаемое самим священным текстом или описываемое в его садхане. Именно показное обретение индивидуального божества было тем, что давало эзотерическим переводчикам ощущение достоверности продвигаемых ими учений. Нападки Рок-бена и других ньингмапинских авторов на новых переводчиков были рассчитаны на то, чтобы поставить под сомнение их духовность и, как следствие, аутентичность их линий передачи. Согласно апологетам ньингмы, эти «живущие по соседству новички» были обычными людьми, и к тому же узурпаторами, культивировавшими почитание богов тиртхиков, тогда как переводчики времен имперской династии являлись эманациями Авалокитешвары. А высказывание более позднего ньингмапинского апологета Ратна Лингпа (1403–1478) в адрес Го-лотсаве Кхукпа Лхетсе вообще звучит довольно злобно: «Я не знаю, то ли он просто сумасшедший, то ли на самом деле одержим демоном, но будьте уверены, что он уже в аду94».
Некоторое удивление может вызвать тот факт, что и полемические возражения Ронгзома и Рок-бена, и притязания на истинность Го-лоцавы и Лха-ламы Еше-О вдохновлялись хотя и разными по своей ориентации, но все же неоконсервативными ценностями. Обе группы этих выдающихся личностей на самом деле оперировали всего двумя в целом одинаковыми аргументами: 1) тексты и учения противоположной стороны не являются по своему происхождению подлинно индийскими и буддийскими; 2) поведение оппонентов наносит ущерб истинной Дхарме. Такая реакция на вызовы сармы только обостряла полемику, так что вторая половина одиннадцатого столетия стала периодом непрекращающихся дебатов. Для ньингмапинских авторов их ответы выглядели вполне логичными, и более поздние апологеты ньингмы не преминули отметить, что феномен писаний терма был выборочно признан определенными авторитетами сармы. Данное признание в особенности касалось таких «текстов-сокровищ», как «Колонный завет» и «Мани Камбум», поскольку ни один из них не принадлежал определенной традиции, которая могла бы быть узурпирована какой-либо одной линией передачи или иной институцией95. На самом деле, одна из самых привлекательных особенностей этих произведений, которой и объясняется непрекращающаяся очарованность тибетцев фигурой Далай-ламы, состоит в том, что они несут в себе национальный нарратив божественного воплощения на благо всех тибетцев. Поэтому те, кто ставит под сомнение легитимность терма, редко распространяют эту критику на «тексты-сокровища», признанные в их собственной линии передачи.
Эта книга ставит своей целью пролить свет на одно из самых выдающихся достижений в истории человечества: возрождение и реформацию тибетской культуры, начавшиеся примерно через сто лет после катастрофического краха и распада Тибетской империи в середине девятого столетия. Как в традиционных, так и в современных описаниях данного феномена отчасти упускается из виду тот очевидный факт, что при совершении этого подвига тибетцы во многом опирались на лексикон, тексты и ритуалы одного из наименее вероятных кандидатов на продвижение культурной стабильности: индийского тантрического буддизма. Основываясь на переводах и исследованиях наиболее эзотерических йогических наставлений и священных текстов заключительного этапа развития индийского буддизма, тибетцы смогли выработать новый взгляд на социальное и религиозное устройство их страны, приспособив его к потребностям еще только зарождавшихся институтов эзотерических линий передачи отдельных кланов и религиозных сообществ. Со временем они добились столь выдающегося воплощения в жизнь тантрических идеалов, что Тибет приобрел репутацию территории деятельной активности будд и бодхисатв. Вследствие этого Тибет со временем вытеснил Индию с позиции общепризнанного источника безупречного буддийского обучения и самых действенных практик, приковав к себе взоры набожных буддистских паломников из большей части Евразии и став ориентиром для всего жизнеспособного эзотерического буддизма.
Однако, эта работа не смогла бы увидеть свет без добровольного участия в ней моих тибетских учителей и друзей и в первую очередь Нгора Тар-це кхен-по баод-нама гья-цо (тиб. Ngor Thar-rtse mkhan-po bSod-nams rgya-mtsho; aka Хироши Сонами), прочитавшего со мной множество сакьяпинских текстов, переводы которых я использовал при написании данной книги. Его душевная щедрость была сравнима только с его настойчивостью в обращенных ко мне просьбах взяться за перевод на английский язык многих из тех произведений, что мы вместе прочитали за одиннадцать лет нашего сотрудничества, с 1976 года и вплоть до его безвременной кончины 22 ноября 1987 года. Мы оба знали, что такая идея противоречит культуре секретности, которую школа сакья взращивала на протяжении стольких веков, но Тар-це кхен-по полагал, что для своего процветания в диаспоре тибетский буддизм должен переосмыслить некоторые подходы, пусть даже и непредусмотренным в традиции образом. Даже если мы порой расходились во мнениях относительно достоверности источников или методологии исторической оценки, мы всегда соглашались с тем, что считающая себя прославленной традицией сакья действительно является таковой. Последующее одобрение на публикацию моего перевода «Коренного текста *маргапхалы» (Приложение 2), которое я получил в 1996 году от главы школы сакья Его Святейшества Сакья Тринзена, больше, чем что-либо еще, подтверждает прозорливость Нгора Тар-це кхен-по.
Еще одним человеком, внесшим значительный вклад в создание этой книги, является мой друг и коллега Дэвид Джермано (David Germano) из Университета Вирджинии. Почти с самого момента нашего знакомства мы с Дэвидом взаимно поддерживали друг друга в наших исследованиях. При этом он всегда находил время для просмотра моих рукописей и помогал в организации их оценки. Те из нас, кто преподает преимущественно в бакалавриатах, не имеют возможности проверять свои работы на выпускниках магистратуры, и Дэвид постоянно предоставлял мне эту возможность. В течение многих лет он использовал версии этой книги в своих магистрантских курсах Университета штата Вирджиния, приглашая меня пообщаться с его магистрантами, и самому ответить на их настойчивые расспросы о результатах научных исследований, в том числе и неопубликованных. Я высоко ценю его готовность предоставлять место для обсуждения моей порой неудобоваримой прозы и случайных заметок о двух-трех веках тибетского буддизма, которые, как мы оба считаем, были исключительными во всех смыслах этого слова.
Множество других друзей, коллег и даже целых учреждений заслуживают гораздо большей благодарности, чем я могу им выразить на этих страницах. Мэтью Капштейн (Matthew Kapstein) был для меня источником вдохновения и ориентиром с тех самых пор, как мы впервые встретились в 1971 году. Джанет Гьяцо (Janet Gyatso) и я обменивались наблюдениями по поводу тибетской и буддистской жизни еще до того, как мы закончили университет в Беркли. Д-р Сайрус Стернс (Cyrus Stearns) очень любезно поделился со мной как собственным переводом «Коренного текста *маргапхалы», так и своими критическими замечаниями касательно моего перевода, тем самым избавив меня от множества ошибок, больших и малых. Дэвид Джексон (David Jackson) часто оказывал мне поддержку, даже когда мы расходились во мнениях по поводу отдельных направлений сакьи. Брайан Куэвас (Bryan Cuevas) любезно прочитал всю мою рукопись и сделал много полезных предложений. Мои друзья Стивен Гудман (Stephen Goodman) и Кеннет Истман (Kenneth Eastman) знают меня гораздо дольше, чем мне хотелось бы это признать, и заслуживают отдельной благодарности за множество добрых дел. Роберто Витали (Roberto Vitali), Дэн Мартин (Dan Martin), Дэвид С. Рюгг (David S. Ruegg), Самтен Кармай (Samten Karmay) и Пер Кврерне (Per Kvrerne) для меня всегда являлись постоянными источниками вдохновения и эталоном высокой учености. Ян-Ульрих Собиш (Jan-Ulrich Sobisch) сделал возможным получение мною части «Phag mo grupa bka’ ‘bum», а Леонард ван дер Куйп (Leonard van der Kuijp) поделился со мной фотокопиями рукописей, которые он раздобыл в Китае. Мои единомышленники в университете Фэрфилда также заслуживают моей благодарности: вице-президент по академическим вопросам Орин Гроссман (Orin Grossman), декан Тимоти Снайдер (Timothy Snyder), Джон Тиль (John Thiel), Пол Лейкленд (Paul Lakeland), Фрэнк Ханнафи (Frank Hannafey), а также все мои коллеги по факультету религиоведения.
В Индии доктор Банарси Лал (Banarsi Lal) всегда оказывал мне неоценимую помощь. Впервые он обратился ко мне в 1983 году, а наше тесное сотрудничество началось в 1996-97 годах и продолжается до сих пор. Профессор Самдонг Ринпоче (Samdhong Rinpoche) из Центрального института высших тибетских исследований и Сампурнанандского университета санскрита заслуживают моей особой благодарности за то, что предоставлял мне институциональную базу в различные периоды моих исследований. Успешному окончанию этой работы во многом способствовали гранты Американского института индийских исследований, Программы Фулбрайта по линии «Совета по международному обмену учеными», Информационной службы США, Колледжа искусств и наук Университета Фэрфилда, Исследовательского комитета преподавательского состава Университета Фэрфилда, а также поддержка моих коллег с факультета религиоведения.
Кроме того, я непременно должен поблагодарить Венди Лохнер (Wendy Lochner) из издательства Колумбийского университета, взявшуюся за публикацию этой сложной и объемной рукописи. Она всячески поддерживала меня во время наших совместных обсуждений, а сотрудники редакции Колумбийского университета Лесли Крисель (Leslie Kriesel), Сюзанна Райан (Suzanne Ryan) и Маргарет Ямасита (Margaret Yamashita) проявляли образцовое внимание к требованиям данного проекта. И я бесконечно благодарен всем им за их терпение и настойчивость.
Наконец, я хочу выразить свою благодарность моей жене, доктору Кэтрин Шваб (Katherine Schwab), которая мне открыла глаза на то, что не все в этом мире вращается вокруг текстов и языков, но которая при этом в течение нескольких последних лет всячески поддерживала меня в моей неистовой писательской и издательской деятельности. Ее доброта и милосердие позволили мне с головой погрузиться в божественный мир научных изысканий, порой даже не обращая внимания на результат. Как и прежде, все ошибки в изложении исторических фактов и переводах, которые, несомненно, присутствуют в этой работе, никоим образом не могут быть отнесены на счет множества замечательных учителей, друзей и коллег, с которыми мне посчастливилось работать и общаться – за все эти ошибки несу ответственность только я.
Рональд М. Дэвидсон
Фэрфилд, Коннектикут
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Нет сомнений в том, что Падампа являлся самым влиятельным из всех индийских йогинов, посещавших Тибет в конце одиннадцатого – начале двенадцатого столетий. И этот титул у него мог бы оспорить, пожалуй, только другой печально известный персонаж – Праджнягупта, правда, живший несколько ранее и уже упоминавшийся нами в связи с последней из восьми «дополнительных» практик, держателем которых являлся сам Дрокми. Падампа, как никто другой из побывавших в Тибете индийцев конца одиннадцатого столетия, являлся наглядным примером готовности индийских ученых развивать в Тибете творческий подход к процессу создания религиозных писаний, и этим он способствовал формированию у тибетцев всевозрастающего чувства открытости религиозному духу времени. Вполне возможно, что он был родом из Южной Индии, и в «Синей летописи» утверждается, что его отец происходил из касты торговцев драгоценностями, хотя более поздние агиографы возвышают его до брахмана2. В качестве гуру Падампы выступали пятьдесят четыре сиддхи, представленные всеми самыми известными именами: Сараха, Вирупа, Нагарджуна и пр., и кроме того он посещал таинственную страну Одияну, где, как считается, встречался с более чем тридцатью дакини. Не так уж и важно, насколько правдивы все эти описания, поскольку можно не сомневаться, что он был выдающимся знатоком северо-индийской тантрической литературы и соответствующих практик.
Жития Падампы – это страна чудес, наполненная невероятными событиями. Чего только стоит утверждение, что он совершил целых семь поездок в Тибет в течение нескольких столетий. Согласно некоторым источникам, он совершил первый из этих визитов, когда тибетская земля еще была покрыта водой, т.е. во времена существования моря Неотетис, которое, однако, ушло с Тибетского нагорья около 40 миллионов лет тому назад. Столь же сомнительным является и более распространенное утверждение, согласно которому Падампа посещал Тибет во времена имперского династического правления, будучи известным тогда под санскритским именем Камалашила (которое на самом деле он довольно часто использовал), т.к. это всего лишь одно из ошибочных смешений биографий двух известных индийцев с одинаковыми именами. Вполне вероятно, что он совершил более одного путешествия в Тибет и что у него были сильные связи с Кашмиром, на что указывает одна из его линий передачи. В «Синей летописи» упоминается, что во время своего четвертого визита он посетил долину Ньел, расположенную вдоль границы с Аруначал-Прадешем, а затем в 1073 году отправился в Пен-инл, где встретился с Магомом Чокьи Шерапом. Некоторое время он оставался в Пен-инле и Конгпо, а затем перебрался в Китай откуда в 1090-х годах и начал свое пятое путешествие в Тибет, в конечном счете поселившись в Дингри, расположенном в Дингри-Лангкоре, где-то между 1097 и своей кончиной в 1117 году. Двадцать лет, которые он провел в Дингри стали самым значимым периодом в его биографии, т.к. большинство приписываемых ему произведений и преданий о нем восходит именно к этим временам.
Хотя Падампа много работал с Жама-лоцавой, чьи «серые» тексты обсуждались нами ранее, в традиции Падампы почти ничего не упоминается о деятельности переводчика, который переложил идеи Падампы на понятный тибетский язык. Сохранилось несколько, по-видимому, дословных записей бесед Падампы, по которым о нем можно судить как о человеке, не вполне свободно владеющем структурой тибетских предложений, однако, с достаточно большим словарным запасом, склонном к драматическим высказываниям и влюбленном в символы, образы и иллюстрации3. Экспансивность Падампы, очевидно, не ограничивалась устным общением и также распространялась и на сочинительство, поскольку Чагло Чодже-пел обвинял его в том, что он выдает свои собственные работы за аутентичные тантры:
«Есть один индиец именуемый Маленьким черным Дампой, обучающий «Широко распространенному принципу синхронного осознавания» (gCig char rig pa rgyang ‘dod), которое представляет собой смесь отдельных извращенных учений и некоторых идей Великого совершенства. На их основе он составил абсолютно извращенные дхармы под названием «Жиче трех красных циклов» и «Белое жиче тиртика», которые помещены в единую текстовую традицию с разнородными материалами, являющимися буддийскими»4.
Это краткое сообщение позволяет предположить, что система «умиротворения» (zhiche) была полностью создана самим Падампой (упомянутым здесь по его прозвищу, которое звучало как «Маленький черный ачарья» или «Маленький черный Дампа») вместе с его же «белыми наставлениями» по ментальному очищению и «красными наставлениями» по определенным формам тантрической практики. Позже в том же тексте Чагло Чодже-пел обвиняет Падампу в написании тантры, которой, по всей видимости, является сохранившаяся до наших дней «Тантра наставлений о тайне всех дакини» – короткая работы из трех глав, которая, как считается, была переведена самим Падампой и, похоже, не входит ни в один канон5. Однако, даже авторитеты ньингмапинских терма признавали текстовые откровения Падампы, поскольку, защищая свои священные тексты, Ратна Лингпа указывает, что другая тантра под названием «Тантра великой реки, непостижимая тайна гласных и согласных» является терма, открытой Падампой6.
Нет особых причин сомневаться в том, что Падампа на самом деле мог все это создать собственными силами. Формат священных писаний его литературного наследия включает в себя краткое изложение того, каким образом эти тантры были написаны в Индии; особые указаниям, ссылающиеся на примечания и небольшие работы; и собственно сам священный текст, состоящий из нескольких коротких глав. Именно так выглядят обе тантры, в написании которых его обвиняли. Что очень характерно для этих двух священных писаний, так это непроходящее ощущение участия в их создании кого-либо из тибетцев, будь то Жама-лоцава или кто-нибудь другой. Произведения Падампы выглядят довольно оригинально, а по индийским меркам – даже несколько аномально, поскольку в некоторых из них явно прослеживается влияние тибетских социальных реалий и образов. К примеру, «Тантра наставлений о тайне всех дакини» содержит мантру, в которую, похоже, включен топоним «Дингри»: АМ МА ДИНГ РИ ДИНГ РИ ВАДЖРА РАТНА ПАДМА ВИС ВАСИДДХИ САНИРИХА ХУМ ХУМ ПХАТ ПХАТ7.
Падампа и его окружение дали начало двум базовым религиозным направлениям: линии передачи Жиче (умиротворение) и традиции Чо (отсечение). Последняя обсуждается в следующей главе, так как она в основном связана с его ученицей Мачик Лабдрон.
 |
|
Илл. 15. Падампа и Джангсем Кунга. Прорисовка по иллюстрации рукописи тринадцатого столетия
|
«Жиче» является довольно любопытным названием, поскольку оно относится к пяти отдельным линиями передачи, которые делятся на раннюю, промежуточные и позднюю жиче8. Согласно имеющимся в нашем распоряжении текстам, «ранняя» жиче была передана Джнянагухье из Кашмира во время третьего путешествия Падампы в Тибет, а Джнянагухьей – Онпо Пелдену Шерапу и далее другим тибетцам. Три «промежуточные» линии передачи во время четвертого и пятого путешествий Падампы получили Магом Чокьи Шерап (rMa lugs), Со Ригпа Чертонг (So lugs) и лама Камтон Вангчук (sKam lugs). «Позднее» жиче было передано Джангсему Кунге, величайшему ученику Падампы по части жиче, который оставался с ним до самой его смерти (Илл. 15).
Жиче вызывает особый интерес вовсе не своими многочисленными линиями передачи, а тем фактом, что в этой традиции, похоже, никогда не существовало некого коренного учения, ассоциируемого с термином «жиче», означающем «умиротворение» (страдания). По всей видимости, Падампа был настолько нестабилен в своих подходах к обучению, что все, чему он мог в данный момент научить своего ученика, у него подпадало под рубрику «умиротворения». К примеру, в раннем жиче, переданном им Джнянагухье, было пять уровней наставлений: тантрическая версия мадхьямаки; учение, соответствующее отцовскими тантрам; учение, соответствующее материнским тантрам; наставления по махамудре; и учение на примерах дакини, причем весь этот перечень на самом деле представляет собой достаточно простое позднетантрическое меню. С другой стороны, жиче (с точно таким же названием), переданное им Камтону, представляло собой ряд медитаций на «Сутру сердца», относящуюся к разделу «совершенства мудрости» священных писаний махаяны. Наконец, позднее жиче, переданное Джангсему Кунге, включала в себя многое из обеих более ранних систем, и кроме того содержала наставление о «пяти путях», в котором путь ваджраяны дробился в соответствии с махаянской градацией на пути накопления, подготовки, видения, медитации и заключительной стадии.
Проведя несколько десятилетий за чтением тантрических текстов, я привык к определенному уровню непоследовательности и прерывистости их нарративов. Однако, такая разномастность доктринальных воззрений и практик, собранных воедино в жиче, превосходит все то, что мне встречалось ранее. Это ощущение непостоянства, похоже, распространялось и на тибетских учеников Падампы, поскольку держатели нескольких традиций жиче, подражая своему учителю, были склонны скитаться взад и вперед по всему Тибету, собирая обрывки различных учений и практикуя в разном религиозном окружении. Это факт был признан и тибетской литературой, а «Синяя летопись» цитирует слова Падампы, который сказал, что в жиче так и не появилось ни одного знаменитого держателя этой линии, поскольку все его последователи разбрелись по своим собственным направлениям9. Хотя жиче стало одним из основных предметов в репертуаре многих тибетских учителей, оно так и не смогло создать прочной и стабильной среды из своих последователей, что, впрочем, было обычным явлением для йогических традиций Тибета конца одиннадцатого столетия. По большей части это объяснялось тем, что те, кого привлекали такие эксцентричные личности, в дальнейшем были склонны подражать их поведению и поэтому не были мотивированы на создание долговечных религиозных центров.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Тантрическая литература и ритуальные системы, ставшие культовыми во времена возрождения Центрального Тибета, имели самое разнообразное происхождение. Некоторые из них относились к сочинениям конца седьмого – начала девятого столетий и получили широкое распространение сначала в Китае и Японии, а вслед за этим в Тибете и других регионах, причем наиболее почитаемые священные писания возникли или же были отредактированы в монашеской среде. Особую значимость имели тантры, позже разделенные на три категории: «ритуальные» (kriya-tantra), «практические» (carya-tantra) и «йогические» (yoga-tantra). Эти категории включали в себя такие тексты, как «Сусиддхикара», «Махавайрочанабхисамбодхи», «Сарвадургатипарисодхана» и «Сараватахагата-татвасанграха», а также многие другие, распространявшиеся в рамках этой тантрической классификации. Эти работы и их последователи придавали особое значение большим системам мандал и их имперской метафоре, одновременно приглушая индийские интенции эроса и власти, подразумеваемые или явно присутствующие как в самой метафоре, так и в основанной на ней литературе. Другая ритуальная система, продвигаемая этими текстами, опиралась на буддийскую форму древнеиндийского огненного жертвоприношения (homa), используемую для достижения четырех тантрических ритуальных целей: умиротворение (болезней, врагов, эмоций), приумножения (денег, власти, заслуг), контролирования (противников, богов, страстей) и уничтожения (врагов, богов, ощущения собственного «я»). При дворах правителей Китая, Тибета, Наньчжао и других стран ритуальные системы официальных переводов эзотерических писаний адаптировались под нужды действующих властителей, тем самым сдерживая или пресекая распространение сторонних элементов индийского буддизма. Однако, периодические запреты на не признанные официозом тексты и практики нередко были неполными или неэффективными, вследствие чего некоторые недозволенные произведения находились в постоянном обращении, хотя и никогда не включались в имперские каталоги утвержденных писаний.
При этом наблюдалась очевидная разница между номенклатурами тантрических систем, доступных в Индии, и тех, что циркулировали за ее пределами. Упоминания как в индийских буддистских, так и небуддистских источниках ясно указывают нам на то, что, начиная с середины восьмого столетия и далее, тантрические практики и сопутствующая литература в Индии отличались гораздо большим разнообразием по сравнению с тем, чем располагал находящийся в замкнутой среде и поддерживаемый правителями буддизм за границей, или даже с тем, что тайно распространялось за пределы мест своего происхождения. Многие из этих тайных текстов провозглашали себя махайога-тантрами или йогини-тантрами и в конечном счете некоторыми были отнесены к категории «высшей йоги» (yogottara) – четвертой категории в классификации ритуалов и литературы, стоящей выше ритуальных/практических/йогических категорий, упомянутых ранее. Это деление на четыре класса стало наиболее популярным среди тибетцев, которые упорно сопротивлялись всем другим типологиям, в том числе и индийских авторов, предлагавших множество разнообразных классификаций. Единодушие в отношении структуры категорий так и не было достигнуто, что характерно не только для данного вопроса, но и почти для всех других сфер деятельности тантрического буддизма5.
В связи с этим отдельные тексты могли быть отнесены к той или иной категории в зависимости от того, как они использовались. Например, «Манджушринамасангити» часто переклассифицировалась в соответствии с прихотью автора комментариев и словарем, используемым при ее толковании. При этом она иногда определялась как йога-тантра, но чаще как тантра более высокого уровня. Данный процесс имел большое значение, поскольку все последователи различных путей – индийцы, кашмирцы, непальцы, тибетцы – понимали, что статус наставника в той или иной степени зависит от статуса его системы. Т.е. продвижение какой-либо системы по восходящей шкале религиозной ценности означало и продвижение наставника на восходящей шкале социальной значимости. Похоже, что в отношении таких классификаций индийцы, по сравнению с другими, демонстрировали несколько большую искусность, поскольку имели склонность к одномоментному переопределению своих категорий. Причем стремление к повышению статуса тантры означало, что возникающие при этом непростые споры по поводу, казалось бы, тривиальных деталей в конце концов приведут к необходимости проведения линеальной и персональной валидации, от которой зависели пополнение рядов последователей, обладание ресурсами и в целом институциональная жизнеспособность. Этот основополагающий процесс можно проиллюстрировать двумя случаями попытки возрождения в Тибете «низших тантр» (т.е. от крии до йоги) Будоном Ринчендубом (1290–1364) и Нгорченом Кунгой Зангпо (1382–1456)6. Ни один из них не добился большого успеха, поскольку им противостояла логика стратификации: зачем медитирующему тратить свое время на практику низших тантр, когда доступны высшие, обещающие более быстрое освобождение и дарующие своим последователям большие мирские блага?
Среди наиболее значимых для тибетцев тантрических систем эпохи возрождения выделяются три: «Гухьясамаджа» (Guhyasamaja), «Чакрасамвара» (Cakrasamvara) и «Хеваджра» (Hevajra). В состав всех трех входило несколько текстов: коренные тантры, пояснительные тантры, комментарии, наставления по практикам и тексты, относящиеся к обрядам инициации и посвящения. Все три тантры имели в Индии несколько линий передачи и получили широкое распространение к концу десятого столетия. Всех их объединяли практики, связанные с порождением мандалы (процесс зарождения: utpattikrama) и психосексуальными йогическими практиками (процесс завершения: sampannakrama), ассоциируемые с наиболее радикальными сиддхами. Первый этап (utpattikrama) состоял из сложной последовательности визуализаций, в процессе которых мир растворялся и заменялся совершенным космополисом буддистских божеств, расположенном в неприступной цитадели, где медитирующий представлял себя центральным божеством. Новый мир (т.е. мандала) был символической феодальной средой с медитирующим в качестве владыки мандалы, окруженным божественным монаршим двором, состоящим из вассалов, которые представляли различные семейства (kula), расположенные по разным сторонам света. Вполне естественно, что форма и лексика ритуала подчеркивали новое рождение (utpatti) божества, и считалось, что медитирующий таким образом очищает свое земное рождение. При этом самовизуализация медитирующего в качестве божества после его посвящения (abhiseka) являлась ритуальным отображением средневековой доктрины, согласно которой выполнение этого ритуала наделяло коронованного (abhisikta) правителя божественной природой.
Другой ритуальной системой, на которую делался упор в махайоге и йогини-тантрах, была внутренняя и психосексуальная йогическая медитация процесса завершения (sampannakrama), которая была тесно связана с новой группой посвящений. В этом случае все прочие церемонии коронации были объединены вместе в качестве первого «посвящения сосуда» (kalasabhiseka). Помимо этого были добавлены «тайное посвящение» (guyhabhiseka), «посвящение мудрости-знания» (prajnajnanabhiseka) и «четвертое посвящение» (caturthabhiseka). В Индии посвящения выполнялись физически, при этом «тайное посвящение» заключалось в том, что ученик приводил свою партнершу к посвящающему наставнику, который совокуплялся с женщиной, а полученный при этом эякулят поглощался учеником. «Посвящение мудрости-знания» требовало от ученика совокупления с партнершей (обозначавшей мудрость (prajna), но также называемой «ритуальной печатью» (karma-mudra)) под опекой наставника, чтобы получить введение в мистическое знание, возникающее в процессе выполнения ритуала. Наконец, четвертое посвящение, состав которого широко варьировался, чаще всего представляло собой разъяснение наставником ученику значения второго и третьего посвящений. Все эти ритуалы включают в себя элементы индийской мифологии, касающиеся священной энергии, порождаемой удержанием или поглощением семени.
Когда в девятом столетии были формализованы новые тантрические системы, считалось, что только такие посвящения дают право выполнять ритуальные или йогические практики. В этой ритуальной структуре «посвящение сосудом» позволяло приступить к процессу зарождения, т.е. визуализации себя в мандале. «Тайное посвящение» санкционировало выполнение практик йогической системы «самопосвящения» (svadhisthana). В ней йогин визуализировал свои внутренние чакры (cakra), каналы (nadi) и жизненные ветры (vayu), а вслед за этим и пламя, возникающее из пупочной чакры, которое поднималось вверх по центральному каналу и порождало ассоциированную с семенем «мысль о пробуждении» (bodhicitta), чтобы затем инициировать ее стекание вниз из родничка. Эта практика в конечном счете легла в основу системы «психогенного жара» (gtum mo), широко использовавшейся тибетскими святыми подвижниками «в хлопковых одеждах», такими как знаменитый Миларепа. «Посвящение мудрости-знания» давало право выполнять психосексуальные практики йоги «мандалы-чакры» (mandalacakra). Здесь йогин совокуплялся с партнершей, но вместо испускания семени/бодхичитты (bodhicitta) во влагалище, оно визуализировалось таким образом, как будто втягивается вверх к родничку через каналы и чакры. Считалось, что визуализированный подъем семени/бодхичитты вызывает череду ощущений восторга. Из-за трудностей, связанных либо с сексуальными ограничениями (например, целибат), либо с поиском идеальной партнерши (karmamudra), эта практика иногда выполнялась с визуализируемой духовной супругой (jnanamudra), а не с партнершей из плоти и крови. Тем не менее, считалось, что такой процесс также приводит к возникновению нарастающих состояний радости. Наконец, «четвертое посвящение» подразумевало различные варианты, но чаще всего оно давало возможность йогину медитировать на абсолют, нередко используя метафору «великой печати» (mahamudra).
Считалось, что по завершению процесса йогических практик у йогина происходит трансформация обычных ветров, каналов, элементов, жидкостей и символов, образующих его тонкое тело (vajrakaya). В частности, ветры, ассоциируемые с обычной физиологической деятельностью и известные как «кармические ветры» (karmavayu), теперь направляются в центральный канал и тем самым трансформируются в «ветер знания» (jnanavayu). Т.е. с помощью этих йогических практик обретаются различные виды и атрибуты мистического знания в том виде, как его себе представляют буддисты. Кроме того, две основные практики процесса завершения сопровождались порой приводящим в замешательство разнообразием йог: сновидения, иллюзорного тела, воскрешения мертвых и т.д. Однако, что касается основной цели – как результата выполнения йогических поз, дыхательных упражнений, сексуальных практик, визуализаций и соблюдения связанных со всем этим сложных правил, из чего, собственно, и состоит процесс завершения – то считалось, что йогин впрямую и контролируемо наблюдает процессы растворения элементов, которые при неконтролируемом переживании этого явления разворачиваются только перед теми, кто стоит на пороге смерти7. Считалось, что точно так же, как процесс зарождения очищает земное рождение посредством рождения в качестве божества в мандале, процесс завершения очищает смерть благодаря истинному видению феноменов и пустоты.
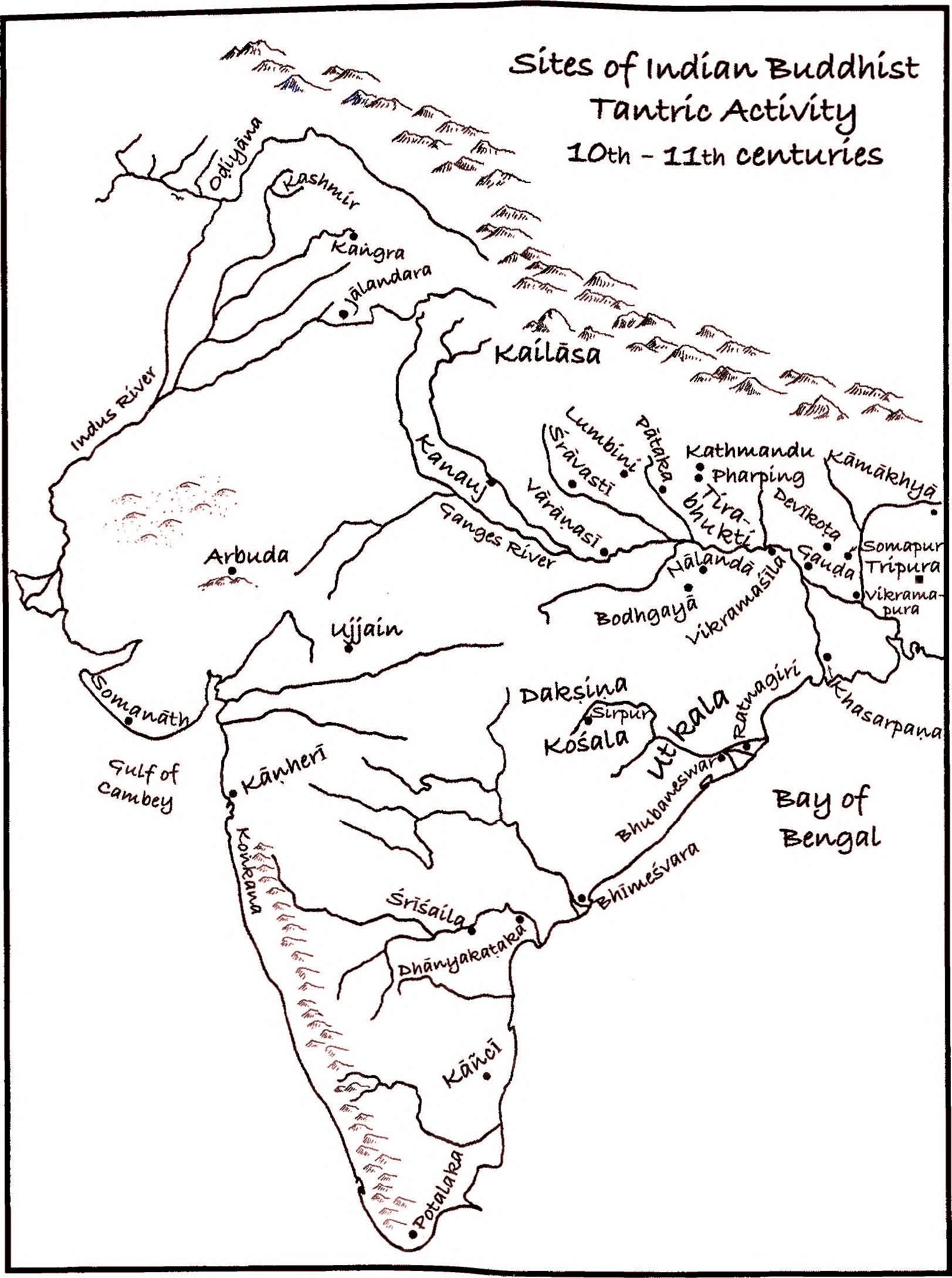 |
|
Карта 2. Места тантрической активности индийских буддистов в десятом и одиннадцатом столетиях
|
Входившая в состав этой обширной тантрической структуры система «Гухьясамаджи» опиралась на ритуальное развитие материалов йога-тантры, и многие из текстов этой традиции формально признают ее йога-тантрой. Однако, в конечном счете она все-таки была классифицирована как махайога-тантра, причем данное определение также присутствует и в упомянутых выше работах. К концу восьмого столетия основной текст Гухьясамджа-тантры уже был завершен в составе восемнадцати глав, и различные тантрические наставники разрабатывали для него свои системы и писали комментарии. В течение девятого столетия были формализованы и получили широкое признание две школы ритуала: школа Джнянапады, названная в честь наставника Буддхаджнянапады, и школа Арья, названная в честь линии передачи наставников восьмого столетии, которая была основана тантриком Нагарджуной и продолжена тантрическими мастерами Арьядевой и Чандракирти. Конечно, существовали и другие традиции, но эти две были самыми плодотворными, отчасти потому, что школа Арья заимствовала для своей линии передач личности хорошо известных авторитетов мадхьямаки, живших за столетия до ее появления, а отчасти потому, что наставники этих двух школ были очень успешны в своей институционализации, поддерживая отношения с буддистскими центрами по всей Северной Индии и вокруг Шри-Шайлы в Южной Индии (см. карту 2).
Подобно другим успешным традициям, система Гухьясамаджи обогатила буддийский лексикон как терминами ритуальной организации, так и техническим словарем. В существующей много веков «Гухьясамаджа-тантре» ритуал процесса зарождения разделен на четыре части: служение (seva), предварительное достижение (upasadhana), достижение (sadhana) и великое достижение (mahasadhana), хотя последняя глава тантры начинает применять эти четыре этапа также и к процессу завершения8. Основываясь на данной тантре, каждая из двух традиций разработала свою собственную основную мандалу: школа Джнянапады создала мандалу, использующую в качестве центрального божества Манджуваджру, а школа Арья предложила мандалу, где в главной роли выступал Акшобхьяваджра (Aksobhyavajra) и его свита9. Почему такое различие? Оба божества встречаются в «Гухьясамаджа-тантре», но традиции этих линий утверждают, что они опираются на разные откровения, полученные их основателями10. К примеру, считается, что Буддхаджнянапада получил откровение от эманации вечного Будды Ваджрадхары, тогда как появление мандалы Нагарджуны как будто бы стало результатом изучения им практик с Сарахой, хотя в хаотичных преданиях Нагарджуны иногда упоминаются и другие фигуры11.
Что касается технического словаря, то самым большим вкладом школы Арья было представление пережитого в течение процесса завершения в виде нарастающей оценки значимости сочетания пустоты и света12.
|
пустота (sunya)
необъятная пустота (atisunya)
великая пустота (mahasunya)
вселенская пустота (sarvasunya)
|
свет (aloka)
видимость света (alokabhasa)
восприятие света (alokopalabdhi)
ясный свет (prabhasvara)
|
Эти уровни реализации получили дальнейшее развитие благодаря пяти медитативным практикам (pancakrama), описанным той же школой и изложенным в тексте под названием «Панчакрама». У этой крайне влиятельной работы, по-видимому, было, как минимум, два разных автора: Нагарджуна и Шакьямитра, которые, похоже, уделяли большее внимание модели построения своего сообщества, чем индивидуальному вдохновению13. Так или иначе, эти пять практик состоят из процессов «неколебимого повторения» (vajrajapa), «чистоты всех чистот» (sarvasuddhivisuddhi), «самопосвящения» (svadhisthana), «реализации высшего тайного блаженства» (paramarahasyasukhabhisambodhi), и «объединения» (yuganaddhakrama). Словарная система школы Арья, как, впрочем, и четыре ступени процесса зарождения, на практике доказала свою влиятельность и по сей день продолжает задавать те рамки и правила, которых тибетцы придерживаются при обсуждении этого и связанных с ним материалов.
О системе «Чакрасамвары» можно сказать, что в целом она выглядела как новоявленная попытка привнести в тантрические будни ощущение географического пространства. Самая ранняя форма этой тантры возникла к концу восьмого столетия, и со временем объединила, как минимум, три школы тантрической практики: те, что приписывались Лухи (Luhi), Гхантападе (Ghantapada) и Канхе (Kanha). Все три школы делали акцент на сакральную географию, т.е. представляли движение, первоначально развившееся с опорой на мандалу Чакрасамвары и миф о ее происхождении. Взяв за основу историю, изложенную в таких произведениях йога-тантры, как, например, «Сарвататхагата-таттвасанграха», последователи «Чакрасамвары» утверждали, что извечный Будда Ваджрадхара эманировал свою гневную форму, Херуку, для того, чтобы взять под контроль Махешвару (Шиву) и его двадцати четырех Бхайрав, а также их супруг. В конце концов Махешвара был унижен и уничтожен, и Херука занял его место на вершине горы Сумеру, а двадцать четыре Бхайравы стали контролировать двадцать четыре места паломничества в Индии14. Эти двадцать четыре объекта были наделены различной значимостью и сведены в единый список, который у нас имеется в нескольких вариантах, но та или иная его форма была включена практически в каждую мандалу Чакрасамвары.
Хотя точное количество божеств в отдельных мандалах различалось, каждая из них изображала Чакрасамвару (в форме Херуки) в центре и три концентрических кольца по восемь Бхайрав в каждом кольце, расходящиеся от центра и представляющие мандалы ума, речи и тела. Общепризнанная версия так идентифицирует следующие двадцать четыре места в мандале:
Четыре питхи (pitha): уддияна (uddiyana), джаландхара (jalandhara), пуллиямалая (pulliyamalaya) и арбуда (arbuda).
Четыре упапитхи (upapitha): годавари (godavari), рамешвара (ramesvara), девикота (devikota) и малава (malava).
Два кшетры (ksetra): камарупа (kamarupa) и одра (odra); и два упакшетры (upaksetra): тришакуни (trisakuni) и кошала (kosala).
Два чхандохи (chandoha): калинга (kalinga) и лампака (lampaka); и два упачхандохи (upacchandoha): канчи (kanci) и хималая (himalaya).
Два мелапаки (melapaka): претапури (pretapuri) и грихадевата (grhadevata); и два упамелапаки (upamelapaka): саураштра (saurastra) и суварнадвипа (suvarnadvipa).
Два шмашаны (smasana): нагара (nagara) и синдху (sindhu); и два упашмашаны (upasmasana): мару (maru) и кулата (kulata).
Благодаря своему интересу к сакральной географии некоторые индийские наставники Чакрасамвары были хорошо осведомлены о том, что священные места существуют не только внутри Индии, но и за ее пределами, и что в этот список входит Суварнадвипа – средневековое государство, располагавшееся согласно разным источникам или в Бирме, или в Индонезии15. Некоторые тибетцы со временем стали называть свою страну Претапури («город призраков»), сочетая местные легенды о происхождении тибетцев с мифологией индийских священных территорий16. Любопытно, что различные манипуляции с йогой, относящейся к системе Чакрасамвары, для окружающих имели гораздо меньшее значение, чем ее идеология сакральной географии. На процесс завершения Чакрасамвары вначале повлияли лексикон и систематизация йоги школы Арья, а затем и ассоциируемая с системой Хеваджры номенклатура.
В последующих главах этой книги часто упоминается «Хеваджра-тантра», которая была создана позже двух других великих тантр. «Хеваджра-тантра», безусловно, является произведением сиддхов, вероятно, откуда-то из восточной Индии (Бенгалии, Бихара, Ассама или Ориссы) и, похоже, была написана в конце девятого или начале десятого столетия. «Хеваджра-тантра» также называлась «Двикальпой» по причине наличия в ней двух ритуальных разделов (kalpa). Она считалась частью «Великой Хеваджра-тантры» размером в 500 000 строф, причем общепризнанный текст отождествлялся с меньшей частью обширного мифического произведения, что было обычным тропом для эзотерической литературе. Подобно «Гухьясамаджа-тантре» и «Чакрасамвара-тантре», «Хеваджра-тантра» представляет собой коренной текст, окруженный паутиной взаимосвязанных, а иногда и противоречащих друг другу священных писаний, комментариев и ритуальных наставлений. Наиболее важными для целей нашего исследования являются два родственных священных текста: «Сампута-тантра» и «[Дакини]-Ваджрапанджара-тантра», обе из которых считаются наиболее значимыми среди множества других комментаторских тантр. Как станет очевидным далее, «Хеваджра-тантра» и ее различные линии передачи оказали глубокое влияние на жителей Центрального Тибета эпохи возрождения. Это направление представляло собой ритуальную и медитативную традицию, которая стала центральной как в школе сакьяпа, так и в кагьюпе, хотя по сравнению с другими сакьяпа уделяла ей гораздо большее внимание.
Сакьяпа в своих текстах описывает четыре поддерживаемые ей линии передачи процесса зарождения «Хеваджры»: линии сиддхов Домбихеруки, Канхи, Сарорухаваджры и Кришнапандиты, хотя вполне очевидно, что это наиболее репрезентативные варианты и что на самом деле их было гораздо больше. К примеру, работы известного ученого-тантрика Ратнакарашанти также пользовались достаточно большим влиянием, хотя некоторые тибетцы и сомневались в духовности великого пандита17. Ядром большинства линий передачи является основная мандала Хеваджры, форма на удивление древняя и существовавшая еще до возникновения системы «Хеваджары». На мандале изображен Хеваджра со своей партнершей Найратмьей в окружении восьми дакини, идентифицируемых по-разному. Начиная с пятого века, мы отмечаем подобные системы в Индии, в основном на племенных территориях и в местах, посвященных семи или восьми «матерям» (matrika)18. Это та же самая форма, которая трижды повторяется в мандалах Чакрасамвары и присутствует в других источниках йогини-тантр.
Система «Хеваджры» имела огромное влияние, благодаря присутствию в ней помимо мандал процесса зарождения четырехступенчатой градации процесса завершения, с виду аналогичной модели практик «Гухьясамаджи» школы Арья, но в действительности совершенно отличной от нее. «Хеваджра-тантра» указывает, что во время психосексуальных практик возникают четыре уровня экстаза (т.е. оргазма), связанного с прохождением бодхичитты через различные чакры/психические центры. В другой иерархии переживания эти четыре формы блаженства также ассоциируются с четырьмя моментами реализации, четырьмя чакрами, четырьмя телами Будды и т.п.19.
|
Посвящения
|
Блаженства
|
Моменты
|
Чакры
|
Тело
|
Слоги
|
|
acarya
|
ananda
|
vicitra
|
svabhavikakaya
|
голова
|
HAM
|
|
guhya
|
paramananda
|
vipaka
|
sambhogakaya
|
горло
|
OM
|
|
prajnajnana
|
viramananda
|
vimarda
|
dharmakaya
|
сердце
|
HUM
|
|
caturtha
|
sahajananda
|
vilaksana
|
nirmanakaya
|
пупок
|
A
|
Эта таблица показывает, что блаженство (ananda), высшее блаженство (paramdnanda), отсутствие блаженства (viramdnanda) и естественное блаженство (sahajananda) представляют собой восходящие уровни реализации, связанные с четырьмя ее моментами: разнообразием (vicitra), созреванием (vipaka), растворением (vimarda) и беззнаковостью (vilaksana). Следует отметить, что порядок состояний блаженства и моментов реализации, их значение и связи с отдельными чакрами были предметом разногласий между различными наставниками, каждый из которых в качестве предпочтительной продвигал свою версию. Более того, начальное движение в этом направлении, по всей вероятности, было предпринято еще такими наставниками «Гухьясамаджи», как Буддхаджнянапада и Падмаваджра, но наиболее успешно эта тема была интегрирована в тантрические писания с появлением «Хеваджра-тантры». Таким образом, наставники «Хеваджры», подобно всем прочим тантрическим авторам, задействовали разрозненные материалы и скомпоновали их воедино с визуальным представлением божества, подчеркивая при этом особую значимость (в их случае) эмпирической сферы процесса завершения.
Время от времени мы будем обсуждать другие влиятельные тантрические традиции, но две из них заслуживают упоминания прямо сейчас. В определенном смысле, они являются типичными представителями самых ранних и самых поздних тантрических систем, хотя это означает, что их разделяет самое большее четыре столетия. К таким же давним временам, как и «Гухьясамаджа-тантра», относятся ритуалы и некоторые виды тантрических текстов, посвященные Ямари/Ямантаке/Ваджрабхайраве, символизирующим победителя бога смерти (yama) и являющимися манифестацией бодхисатвы Манджушри. Одна из линий посвящения этого направления появилась в Центральным Тибете благодаря Рало Дордже-драку (р. 1016), жизнь и деятельность которого подробно обсуждаются в Главе 4. Традиция Ямари является источником многих магических обрядов, особенно ритуалов уничтожения врага, использовавшихся в Индии, Непале и Тибете. Также тексты Ямари включают в себя ряд интереснейших сценок из индийских сельских преданий о призраках и колдовстве.
Совершенно на другом уровне находится Калачакра-тантра, даже сегодня вызывающая большое восхищение. По общему мнению, этот текст был впервые переведена на тибетский язык около 1027 года Гьиджо Даве Озером (Gyijo Dawe Öser), и, таким образом, его версии были доступны на протяжении всего периода возрождения20. В связи с этим вызывает удивление тот факт, что до двенадцатого столетия эта работа имела весьма ограниченное влияние и обрела большую значимость только в последующие столетия, когда стала основой для неортодоксальных взглядов школы джонангпа. Возможно, что на начальной стадии Калачакра-тантра была встречена довольно прохладно вследствие ее нетипичных литературных особенностей. Это единственная среди известных мне тантр, текст которой указывает на наличие у нее единственного автора: она написана прекрасным языком и имеет заранее продуманную компоновку – пять длинных главах одинакового размера, которые прекрасно согласуются друг с другом. Присущая ей сложность и целостная организация означают, что при ее изучении нужно прилагать значительные усилия и соблюдать определенную дисциплину, поскольку необходимо знать содержание каждой главы, чтобы понять общую архитектуру и конкретное назначение работы в целом. Это значительно отличается от очень своеобразной формы большинства тантр, которые состоят из множества коротких глав и содержат в себе тексты за разным авторством, различные стили и многочисленные внутренние противоречия. Очевидно, что Калачакра-тантра максимально соответствовала грандиозным объединительным процессам и институциональным разработкам тринадцатого столетия, когда монголы принесли в Тибет порядок и единство, являясь наиболее типичным примером единообразного и упорядоченного видения. Но поскольку расцвет ее влияние приходится на времена, выходящие за пределы хронологических рамок настоящего исследования, я не акцентирую на ней внимание в той степени, которая была бы соизмерима с ее более поздней значимостью.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Монахи Восточной Винаи, конечно же, не могли недооценивать возможностей религиозных формаций, которые распространились по всем «четырем рогам» Тибета в отсутствие монашеского буддизма и которые благоденствовали в цитаделях, поместьях знати и некоторых древних храмах. У выживших элементов старого порядка было несколько направлений деятельности, которые не соответствовали привнесенным извне новым моделями Дхармы. К тому же старые наставники не понимали всей значимости этого возрождения, поскольку не считали, что религия понесла непоправимые утраты. Даже несмотря на то, что они сохранили, например, библиотечные материалы, ассоциируемые с некоторыми из старых храмов (т.е. те, что первоначально были спрятаны во времена гонений Дармы, а затем извлечены из тайников), их обвиняли в неправильном понимании этих текстов в новой обстановке. Хотя сторонники Восточной винаи обладали широкими политическими связями, подтверждаемыми экономическими активами и энергичными строительными программами, в Центральном Тибете начала одиннадцатого столетия они были вынуждены вступать во взаимодействие с остатками старых религиозных структур. При этом неизбежно возникали трения между новыми монахами и старыми устоявшимися общинами: архатами с узлами волос, бенде, нгакпа и смотрителями храмов различных мастей, многие из которых были хорошими практиками в эзотерической системе ньингмы.
Конфликт между новыми сообществами и общинами старого порядка иногда происходил в типично тибетской манере: одна из групп накладывала заклятья на другую. В этом плане показательна одна история, приведенная в двух хрониках Деу.
«В те времена Кхьюнгпо Сенге Гьелцен, Бе Гьелва Лотро и Нгенлам Гьелве Вангпо, три мантрина (нгакпа), вступили в союз с некоторыми монахами. Раньше новые общины и мантрины с почтением относились друг к другу, но Лоцун и Бацун уничтожили саму возможность воздавать дань уважения [мантринам]. Итак, трое мантринов расстроились и совершили акт злого колдовства. Однажды ночью они обрушили на Лоцуна три молнии, но поскольку он спал под какими-то писаниями, то он не погиб»82.
Камнем преткновения в этом эпизоде является то, что Лотон Дордже Вангчук (здесь его называют Лоцун) и Бацун Лотро (еще один из «людей из У-Цанга») вмешались в устоявшуюся практику новых монахов и мантринов старой школы, отдававших дань уважения друг другу. По стандартам тибетского этикета, различные группы верующих должны были обмениваться сложными приветствиями и следовать иерархии, основанной на социально одобренных градациях аристократизма, старшинства и духовности. Однако, согласно монашеским буддистским стандартам все эти мантрины являлись мирянами, а ни один монах не может себе позволить хоть в чем быть ниже мирянина, ибо монах оставил мир и по этой причине его социальный статус выше любого, не принявшего монашества. В ответ мантрины обратились к сфере колдовства и магического возмездия, но Лотон, который в их глазах являлся истиным виновником произошедшего, был спасен текстом со словом Будды.
По мере приближения одиннадцатого столетия нарастающее давление восточных монахов все больше обостряло такие конфликты, и, конечно, не все они разрешались с помощью магических действий. «Колонный завет» (bKa’ ‘chems ka khol ma) отражает события ранней истории вокруг и внутри самой Лхасы, хотя при этом он очень скудно описывает гражданские отношения между различными религиозными сообществами одиннадцатого века. Текст, выдаваемый за слова первого императора Сонгцена Гампо, использует литературную технику пророчества для описания недавней истории, выбрав в качестве главной темы отношения различных групп верующих к образу Авалокитешвары Джово, установленному в храме Джокханг в Лхасе:
«Затем в этих группах появится много монахов, и многие бодхисатвы среди них будут делать подношения и помогать в почитании этого образа [Джово]. Они будут [строить и] поддерживать храмы во всех направлениях и будут правильно практиковать благочестивое поведение.
Но затем там появятся бенде, порождение дьявольского семейства. Споря с группами верующих, они будут их оскорблять и низвергать. Бенде осадят Нежи (в Лходраке), возведя насыпи и укрепления. Копьями они будут пронзать монахов и метать в них оружие в виде дисков. Затем эти бенде будут грабить храмы [монахов], сражаясь с настоятелями за сосуды для подношений»83.
Не вызывает сомнений, что такие инциденты действительно имели место, поскольку тибетцы время от времени прибегали к насилию для разрешения конфликтов религиозного характера. Это борьба не была однонаправленной, поскольку монахи Восточной винаи были весьма напористы в захвате храмов и отличались пренебрежительным отношением к религиозной деятельности других. Лотана даже обвиняют в том, что он отравил в 1035 году Шенчена Лугу, самого известного из ранних бонских открывателей «текстов-сокровищ», хотя данное голословные обвинение является довольно поздним и выглядит весьма сомнительно84. Даже если это неправда, такое утверждение наглядно свидетельствует о напряженности между конкурирующими религиозными группировками десятого – одиннадцатого столетий.
Противостояние между этими группами на самом деле являлось конфликтом духовных ценностей и моделей религиозности. Мантрины-миряне представляли сплав имперской династической и аборигенной тибетской идеологий, в основе которых лежало единство духовного и светского: для них боги и цари Тибета были столь же значимы, как и будды Индии85. Этот тип мудреца опирался на политическую и религиозную власть, унаследованную им благодаря потомственной связи с родовыми аристократическими линиями. Считалось, что такие линии ведут свое происхождение от какого-либо местного клана, являвшегося божественным по своей природе, поскольку ему принадлежала определенная горная долина, где он контролировал обитавших там духов. Мантрины считали свои домашние храмы цитаделями религии и полагали, что на них возложена обязанность совершать обряды для ближайших к ним сообществ богов и людей, над которыми они имеют как религиозную, так и светскую власть (эти два понятия у них считались неразделимыми). Они видели, что, когда начались проблемы, вызванные деятельностью Дармы Три Удум-цена, монахи бежали из У-Цанга, в то время как мантрины остались на своих территориях, сохраняя тайные практики и защищая Центральный Тибет все время, пока в нем царил хаос.
В противоположность им, монахи представляли теоретические эгалитарные ценности, поскольку любой кандидат, независимо от происхождения, мог получить религиозную власть посредством ритуальной аутентификации (ординации), а не вследствие родовой принадлежности. Хотя на самом деле большинство монахов принадлежало к великим древним кланам Центрального Тибета, их притязания на религиозную власть проистекали из их ординации и обетов безбрачия, из их усилий создать стабильность и гармонию в возрождении Учения, а также из экономических и институциональных преимуществ, которые постепенно накопились у них с момента прибытия в Центральный Тибет. Еще не зная о том, что индийский буддизм уже наметил пути непростого примирения между эзотерическими мирянами и схоластическими клерикальными сообществами, официально именуемое «формулировкой требований тройственной дисциплины» (trisamvara), большинство тибетцев не имело понятия о методах принятия решений при рассмотрении противоречий между представителями мирян и монахов86. В итоге идеология тройственной дисциплины была официально представлена им Атишой в середине одиннадцатого столетия, но это уже были времена расцвета деятельности переводчиков.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
Наши умы не имеют достаточного опыта в этом океане санскритского языка. Однако, для того, чтобы живые существа могли обрести способность понимания нереференциального мистического знания, мы перевели мандалы, мантры, ритуалы и мудры, чтобы другие могли стать повелителями видьядхар. Хотя мы верим в этот текст и желаем принести пользу другим, так как мы уже делали пусть и небесспорные переводы и одобрили для себя эту работу, пусть дакини будут снисходительны к нашим ошибкам, ибо мы еще до конца не обрели праведный путь.
Колофон переводчиков Дрокми и Гаядхары к «Супариграха-мандалавидхи-садхане» Дурджаячандры1
|
Не все ранние переводчики были вовлечены в противостояние между имперскими династическими линиями и новыми системами перевода, чьим символом по праву можно назвать Го-лоцаву Кхукпу Лхеце. Многих попросту не интересовала эта полемика и ее последствия. Другие не участвовали в ней, поскольку стремились стать де-факто или де-юре феодальными правителями в своих долинах. Однако, большая часть попросту берегла свою репутацию, воздерживаясь от чрезмерно агрессивного поведения. Тем не менее, большинство новых переводчиков объединяла искренняя вера в то, что представление Буддадхармы в переводах современных им индийских источников более достоверно, чем в текстах, хранимых в Тибете в течение всего периода ранней раздробленности и смутных времен. Более того, все они доказали наличие у них, если не духовных, то как минимум интеллектуальных способностей, используя для перевода всего спектра буддийских текстов классический тибетский литературный язык, который во многих отношениях быль столь же чужд носителям традиционного тибетского языка, как и не знакомым с ним нетибетцам.
 |
|
Илл. 9. Дрокми-лоцава Шакья Еше. Прорисовка фрагмента изображения шестнадцатого века
|
Дрокми Шакья Еше, первый переводчик текстов Хеваджра-тантры, был знатоком этого литературного языка (Илл. 9). Также, как и большинству других тибетских лоцавов, ему пришлось провести долгие годы в Индии, обучаясь в непривычных условиях у индийцев, проявлявших безразличие к его тибетской специфике, и раздражая своим долгим отсутствием пославших его на учебу местных князей. Он счел необходимым овладеть по крайней мере двумя индийскими литературными языками. Но помимо получения необходимых лингвистических и философских знаний, он также отдавал достаточно много времени изучению ритуальных и медитативных практик. К своей первопроходческой деятельности в Бихаре и Бенгалии Дрокми приступил после периода акклиматизации в Непале. Он нашел индийскую эзотерическую систему очень многообещающей, и даже после многих лет, проведенных в Индии, продолжал свое обучение у выдающихся ученых у себя дома в Цанге. Во многом Дрокми был образцовым представителем профессии переводчика, поскольку в период своей переводческой деятельности в Тибете он смог создать очень точные, если не безупречные, переводы некоторых из наиболее влиятельных в тибетской религиозной жизни эзотерических писаний. Научный вклад Дрокми мы можем оценить только самым положительным образом: его творческое наследие масштабно и всеохватно; его переводы демонстрируют тонкое понимание грамматики и смысла источников на санскрите и апабхрамше; а его классический тибетский временами настолько хорош, насколько это вообще возможно.
Однако, в остальном карьера Дрокми была совершенно нехарактерна для первых переводчиков. В отличие от других по происхождению он был из кочевников, а не из аристократов или хотя бы оседлых земледельцев. Дрокми был незурядной личностью во многих отношениях, причем его скупость и требования оплачивать ритуалы посвящения и обучение большим количеством золота и другими дарами уже в те времена приобрели характер легенды. Эта грань его личности со временем нашла отражение в популярной тибетской литературу, где Дрокми представлен как наиболее типичный образ алчного ламы2. Опасаясь конкуренции, он умолял своего индийского компаньона не передавать ламдре кому-либо еще из тибетцев, тем самым обеспечивая себе монополию на это самое эзотерическое из всех тогдашних учений. Кроме того, он не позволял никому из своих учеников получать от него весь спектр знаний, следя за тем, чтобы те, кто изучал медитативные наставления, не получали доступа к обширному литературному корпусу и наоборот. Действуя как искусный стратег, он таким образом раздробил свое духовное наследие и подавил неконтролируемые устремления своих учеников. Т.е. ламдре в его нынешнем виде представляет собой результат личных манипуляций Дрокми с этой системой и неспособности его учеников как-либо противостоять такой деятельности.
В этой главе достаточно подробно рассматривается жизнь и деятельность Дрокми Шакьи Еше и его главного партнера по привнесению систем Хеваджры в Тибет Каястхи Гаядхары3. Здесь также переводится и обсуждается центральная летопись сакьяпы «Хроника Тибета» Дракпы Гьелцена, при этом проводится исследование на предмет того, что в ней отражено, а что умалчивается. Мы также рассмотрим содержание главного эзотерического текста, который Дрокми, как считается, перевел вместе с Гаядхарой – работы под названием «Коренной текст *маргапхалы». Его полный перевод приводится в Приложении 2, хотя едва ли он будет понятен без комментариев. В качестве необходимого подведения итогов, мы проведем исследование последующего разделения системы ламдре на линию ближней передачи и практики текста ламдре, известную как «метод обучения» (*upadesanaya: man ngag lugs), и линию передачи, поддерживающую «метод разъяснения» (*vyakhyanaya: bshad lugs), который включал в себя экзегезу Хеваджра-тантры и сопутствующую литературу. Кроме того, в главе рассматриваются прочие заслуги Дрокми, в том числе остальные его переводы, восприятие им того, что в конечном счете получило название «Девять циклов пути» (lam skor dgu), а также его совместная деятельность с широким кругом других индийских ученых.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Как и все другие тибетцы, наставники ньингмы были увлечены новым прорывом в обладании знаниями, который, помимо прочего, порождал ощущение престижа и причастности к международному буддистскому движению. Что касается Ронгзома, а также некоторых других ученых ньингмы, то все они были последовательными приверженцами индийского акцента на обретение мистического знания и работали именно в этом направлении. Однако другие авторы данной школы смогли продемонстрировать более творческий подход и взялись за развитие автохтонной тибетской гносеологии с опорой на собственную традицию откровения. В процессе этого они детально проработали и формализовали ряд собственных доктринальных материалов, используя при этом не только собственную терминологию (в первую очередь это касается «осознавания» (rig-pa)), но и общепризнанные определения (включая «мистическое знание» (ye shes: jnana)). Как и в случае с тибетскими ритуалами и местными божествами, это предприятие опиралось на открытие новых «текстов-сокровищ», что обеспечивало ему легитимность в вопросах самопрезентации и дальнейшей практической реализации96. Так же не вызывает сомнений, что ньингмапинские авторы тщательно изучили корпус основополагающих священных писаний, являвшихся переводами как индийских, так и китайских первоисточников. Отдельно следует отметить, что некоторые из этих работ, такие, как, например, «Аватамсака-сутра» и «Ланкаватара-сутра», оказались чрезвычайно плодовитыми в части порождения произведений тибетской и китайской литературы более позднего периода. Порой отмечаются попытки тибетских сторонников сармы, а также ряда современных ученых, представить развитие ньингмы как простое следование идеям северного чаня Хэшана Мохэяна. Данные утверждения, по-видимому, основываются на предположении, что индийцы и китайцы обладают исконной духовностью, а у тибетцев ее нет. Однако, все это явно противоречит выдающимся свидетельствам истории этого народа и региона97. Что касается самой ньингмы, то центральная роль идеи познания реальности посредством процесса осознавания, по сути, является одним из главных отличительных признаков доктрин Великого совершенства, а также подчеркивает их отличие от деклараций и идей китайских учений, присутствовавших в то время в Тибете98.
На первый взгляд может показаться, что в одиннадцатом столетии в целом доминировали индийские произведения, посвященные вопросам обретения знания. Однако, это только поверхностное впечатление, поскольку во многих центрах ньингмы этого периода главной доктринальной основой были идеи оснознавания. Благодаря таким работам, как «Великая тантра самопроявления чистой осознанности» (Rig pa rang shar chen po’i rgyud), входящая в систему «Основополагающей сущности Великого совершенства», стало возможным придание окончательной формы особому посвящению в практики осознавания (rig pa’i rtsal dbang), ставшему олицетворением духовной культуры ньингмы. Как и многие другие ньингмапинские тантры одиннадцатого-двенадцатого столетий, «Самопроявление чистого осознавания», текстом которой мы сейчас располагаем, фокусируется главным образом на проблеме осознавания, т.е. на риг-па. В последующем обсуждении я буду опираться на эту работу, являющуюся важной вехой в развитии тибетской гносеологии, хотя сложность ньингмапинской мысли того времени требует особой осторожности при использовании любых обобщений99.
В ряде случаев местная парадигма осознавания позволяла создавать гораздо более гибкие конструкции, нежели модели мистического знания (jnana), рассмотренные нами в Главе 4, и эта гибкость с успехом использовалась при создании новых священных писаний. Одним из проблемных вопросов индийского буддизма является взаимосвязь между направленным или различающим познанием (vijnana) и мистическим знанием (jnana). Ранние наставники йогачары, в т.ч. и сам Асанга, обсуждали вариант формализации «чистого уровня сознания», но это идея, похоже, не соответствовала тогдашним индийским стандартам. Отчасти это было связано с семантической историей термина «виджняна» (vi-jnana =- vividha-jnana), смысловое значение которого отличалось дискурсивным разнообразием и зависело от ассоциируемой с ним сферы познания. Для преодоления противоречий между различающим познанием и мистическим знанием потребовалось создать и формализовать систему перехода в виде процесса «трансформации основы» (asrayaparivrtti), позволяющего осуществлять драматическое перемещение между неведеньем и пробуждением100
В противоположность этому термин «риг-па» не нуждается в альтернативных определениях и не имеет прирожденной склонности к постоянному усложнению, поэтому он мог применяться как в отношении обычного осознавания, так и познавательных способностей святого праведника. Как технический термин «риг-па» иногда фигурирует в переводах в качестве сокращенной формы более знакомого сложного слова «самоосознавание» (rang gi rig-pa) и используется для перевода санскритских терминов «свасамведана» (svasamvedana) или «свасамвитти» (svasamvitti). Данные выражения, означающие «самореферентное восприятие», по-видимому, были созданы великим индийским эпистемологом Дигнагой и озвучены им сначала в «Ньяямукхе», а затем и в «Праманасамуччае». С помощью них он попытался описать в точной эпистемологической терминологии как перцептивные, так и инференциальные события в том виде, как они уже понимались авторами виджьянавады: тождество объекта, средства и результата познания; различия, возникающие в результате простого искажения языка, применяемого к единству мгновенного восприятия101. Первоначальное суждение Дигнаги впоследствии были вытесно идеями Дхармакирти, который сформулировал более сложные определения, в особенности в отношении перцептивного события102. Вследствие этого термин «свасамведана» навсегда сохранил свой перцептивный подтекст.
Эзотерические авторы заимствовали теоретический материал из философских трактатов тех времен, в том числе и эпистемологической направленности. Поэтому, похоже, что термин «свасамведана» проник в эзотерические писания благодаря творчеству их собратьев-философов, поскольку мне не удалось обнаружить его применение в ранних материалах абхидхармики и йогачары103. Традиции ваджраяны широко использовали этот термин, но с некоторыми отличиями. В то время как эпистемологи постулировали наличие самореферентного восприятия во всех вариантах перцептивного события, авторы ваджраяны фокусировались только на восприятии пробужденного человека. Смещение акцента было значительным: вместо того, чтобы уделять главное внимание средствам познания обычного человека как его неотъемлемой данности, ваджрачарьи описывали основы бытия, сотериологический путь и реализуемые цели в свете гностического восприятия йогина (т.е. в контексте «чистого осознавания»).
Особое значение для ньингмы имел приписываемый Падмасамбхаве текст «Четки поучительных воззрений» (Man ngag lta ba’i phreng ba), поскольку в период раннего возрождения он являлся важным источником, используемым при систематизации некоторых направлений учения о Великом совершенстве 104. Текст идентифицирует самореферентное осознавание в «методе Великого совершенства» в контексте четвертой и последней из постулируемых реализаций:
«Теперь, что касается осязаемой реализации, состояние всех объектов восприятия в качестве пробужденных с самого начала не противоречит писаниям и пояснительным наставлениям, но и не основано только на букве писаний и наставлений. Скорее, его самореферентное осознавание (rang gi rig pa) ведет к осязаемой реализации [этого состояния] благодаря уверенности [в этом факте и] в глубине своего интеллекта105».
Однако, не следует переоценивать значимость этого отрывка. Это единственное систематическое упоминание самореферентного осознавания в двух самых влиятельных шастрах ваджраяны, написанных или переведенных в ранний период: «Четках поучительных воззрений» и «Бодхичитта-бхаванти» (последняя работа принадлежит перу Манджушримитры)106. Основным гносеологическим компонентом в обоих этих текстах является мистическое знание (jnana), которому переводчики времен возрождения отдавали явное предпочтение. Еще более консервативен был Ронгзом, который, как кажется, низвел самореферентное осознавание до его исходного положения термина виджнянавады, обозначавшего перцептивное событие107.
Однако, более ранним, чем работы Ронгзома, является произведение Нубчена Сангье Еше, автора конца девятого – начала десятого столетия108. В «Светоче для ока созерцания» Нубчена (bSam gtan mig sgron) фигурируют два класса утверждений, касающихся самореферентного осознавания: одни относятся к тантрам махайоги, а другие – к системе атийоги. Первый из этих двух классов утверждений очень похож на материал, обсуждаемый в «Четках поучительных воззрений», и, похоже, представляет собой стандартную передачу, почерпнутую из индийских источников. При этом, самое значимое утверждение о самоосознавании главы, посвященной махайоге, помещает его вне перцептивного контекста и концентрируется на его гносеологической функции:
«И, таким образом, [безусловное] самореферентное осознавание – это не то, что является двойственным оператором и операцией осознавания, которые превращают поле осознавания в объект восприятия, а вместо этого оно является полной совокупностью самой сферы явлений (dharmadhatu), поскольку оно не цепляться за какую-либо собственную природу явлений и не полагает, что ей присущи какие-либо крайние взгляды. Как сказано в тантре: “Сфера осознавания и мистическое знание этой сферы идентифицируются как не что иное, как самореферентное осознавание”»109.
Другая глава работы Нубчена, посвященная атийоге, включает в себя описания иного класса качеств осознавания и, очевидно, представляет собой переход к определению полноценной вездесущности риг-па, которая отмечается во всех писаниях «Основополагающей сущности»:
«Это называется Великим совершенством, так как означает, что все непостижимые феномены в своей совокупности являются совершенными, причем без каких-либо усилий. Чтобы понять это ничем не прикрытое освобождение [феноменов], я объясню его подробно. Сущностная реальность этого великого предка, этого первоисточника всех различных средств передачи (колесниц) есть абсолютная сфера одновременно возникающей реальности. Интериоризировав восприятие самореферентного осознавания, великая реальность отсутствия целенаправленного сосредоточения интеллекта прояснится в самореферентном осознавании110».
Необходимо отметить, что даже в такой довольно разреженной атмосфере раннего устремления к изложению идей Великого совершенства терминология в какой-то степени сохраняет преемственность с первоначальным использованием понятия «осознавание» и все еще привязана к некому перцептуальному языку. Однако сложно сказать, насколько эта расширенная интерпретация соотносится с каким-либо индийским источникам, поскольку деятельность Нубчена относится к тому периоду, когда тибетцы уже начали радикально переосмысливать индийские материалы.
Возникает закономерный вопрос: а каким образом тантра «Самопроявление чистого осознавания» (Rig pa rang shar) связана с этими ранними разработками? Из-за огромного размера и разнообразия содержимого данного текста достаточно сложно определить, что в нем конкретно относится к формулировкам центральных тем чистого осознавания. Однако, ко времени его написания идея самореференциального осознавания и лежащей в его основе модели восприятия, рассматриваемые в «Светоче для ока созерцания», уже кажутся в лучшем случае рудиментарными. Конечно, в тантре еще присутствуют сопоставимые фразы, такие как это выражение из трех строк: «В свете самопроявленного чистого осознавания концепции и характеристики “ума”, “интеллекта” и т.п. не существуют»111. Однако, эти высказывания в целом подчинены двум направлениям обсуждения: во-первых, изложению доктрины воплощения (kaya), а также ее развития, включающего другие виды пробужденных форм будды; а во-вторых, указанию посредством использования символов на способ существования чистого осознавания и его функционирования.
Один из наиболее показательных разделов «Rig pa rang shar», содержащий описание тел Будды, находится в главе 21, озаглавленной «Объяснение намерений будд трех времен». Глава посвящена взаимосвязи между риг-па и тремя стандартными телами Будды. Вслед за утверждением о том, что светоч чистого осознавания является самым совершенным объектом интенционального познания будд трех времен, которые являют собой воплощение истинной реальности (dharmakaya), текст отождествляет чистое осознавание с этой реальностью следующим образом:
«Более того, эта дхармакая совершенна в сфере чистого осознавания. Поскольку чистое осознавание ни за что не держится, это истинная природа дхармакаи. Поскольку проявление чистого осознавания ничем не затруднено, это и есть истинная природа самбхогакаи. Поскольку чистое осознание проявляется в виде всех форм разнообразия, это и есть истинная природа нирманакаи. Таким образом, в сфере чистого осознавания все феномены являются совершенными»112.
Этот базовый формат повторяется много раз и является основой одной из доминирующих тем данного священного писания.
Однако, данный текст не ограничивается тремя базовыми телами Будды, являющимися общепризнанными в индийском буддизме. Он также не довольствуется рассмотрением еще трех форм тела будды: свабхавикакаи (svabhavikakaya), джнянакаи (jnanakaya) и ваджракаи (vajrakaya), которые также широко представлены в индийских буддийских трудах. Похоже, что он стремится расширить целостную концепцию пробуждённого воплощения, чтобы, в конце концов, включить ее в сферу «фундаментальной пробужденной формы» (*mulakaya) чистого осознавания. Шестьдесят вторая глава «Rig pa rang shar» после описания чистого осознавания посредством ряда образов, вновь обращается к теме пробужденной формы:
«Более того, если быть точным, чистое осознавание существует в континууме, подобном цепи ваджр. Хотя оно не обладает субстанциальной сущностью, оно предстает перед нами в творческом проявлении, и пробуждённое воплощение (kaya) возникает как украшение этого осознавания. Из игры пробужденного воплощения возникает мистическое знание; из украшения мистического знания возникает свет; а из кончика света появляются лучи. Что такое пробужденное воплощение? Есть базовое воплощение самосознавания (*maulasvasamvedana-kaya), всеобъемлющее воплощение реальности (*vipuladharma-kaya), всепроникающее воплощение сферы реальности (*spharanadhatu-kaya), неизменяющееся несокрушимое воплощение (*avikaravajra-kaya), неизменяющееся естественное воплощение (*nirvikarasvabhavika-kaya), истинное воплощение блаженства (*самьяксукха-кая), порочное ментальное воплощение (*mithyacitta-kaya), видимое воплощение освобождения (*drstavimukti-kaya), воплощение уникальной отметки чистого самоосознавания (*svasamvedana-tilaka-kaya), непрерывно расширяющееся пространственное воплощение (*avicchinna-vistarakasa-kaya), непозиционное воплощение солнца и луны (*nairpaksika-suryacandra-kaya), воплощение, познающее неразличительное единство (*abhinnaikajna-kaya) и нефиксированное воплощение освобождения (*nairabhinivesika-vimukti-kaya)»113.
Далее в главе дается более подробное определение для каждой из этих форм. Я почти дословно санскритизировал тибетские термины из этого списка тринадцати воплощений, чтобы продемонстрировать, насколько странно они будут выглядеть в индийском лингвистическом контексте. По большей части данные термины не имеют индийских аналогов, а порой, как в случае с «порочным ментальным воплощением», отождествляют пробужденную форму (порождаемую при чистом осознавании) с состоянием явного загрязнения. Такое отождествление является полной противоположностью традиционному индийскому подходу, согласно которому пробужденное воплощение является результатом духовного пути. Ко всему этому следует добавить, что разнообразие воплощений, как описываемых в «Rig pa rang shar», так и разработанных более поздней традицией, данным списком не ограничивается.
Далее я кратко рассмотрю один из вариантов последующей эволюции этой концепции, который носит название «вечно юное воплощение подобное кувшину» (gzhon nu bum pa’i sku) и является наглядным примером творческого подхода к герменевтике переосмысления существующих категорий. На санскрит данное название можно перевести как «*kumarakalasa-kaya», но я не смог обнаружить свидетельств существования такого термина в индийском буддизме. То, что, похоже, является ранней формой этого конструкта, впервые встречается в главе 41 «Rig pa rang shar», в разделе, восхваляющем владыку, проповедующего священное писание: «Великий предок всех будд, кто целенаправленно наделен тремя телами – это владыка, наделенный силой сострадания, вечно юное воплощение»114. Контекст этой цитаты перекликается с классическим представлением, встречающимся в более поздних произведениях: образ лампы, спрятанной в керамическом или металлическом кувшине. Лампа сияет и остается таковой вечно, но кувшин не позволяет увидеть ее снаружи. Данный образ используется для объяснения сочетания врожденного обладания индивидуумом пробужденной осознанностью с его неспособностью воспринимать этот факт из-за омраченности ума. Если судить по более поздним работам, то этот вопрос так или иначе был связан с фундаментальной проблемой махаяны: если чистая осознанаваемость всепроникающа и наделена качествами света, свободы и т.п., то почему эта познавательная способность остается непроявленной в обычных перцептивных или интуитивных состояниях? Сама «Rig pa rang shar» так отвечает на этот вопрос, перекликаясь с собственным образом сокрытого сокровища:
«Внутри обширной мандалы великих элементов самовозникающее мистическое знание сокрыто как сокровище. Внутри цитадели пустоты феномены чистоты сокрыты как сокровище. Внутри обширной мандалы сферы мистического знания неизменные сущности пяти Победителей (Jinas) сокрыты как сокровища. Внутри феноменов промежуточного состояния реальности мистическое знание чистого осознавания сокрыто как сокровище. В сырых и темных глубинах дна пяти омрачений (klesa) беспрепятственное чистое осознавание сокрыто как сокровище. Внутри обширной мандалы заблуждения, вызванного эмоциональными привязанностями, ясность прозрения (prajna) сокрыта как сокровище. Именно так, сокрытыми в мандале собственного сердца любого индивида, в гробнице Будды, должны пониматься эти величественные сокровища115».
Аналогичным образом «вечно юное воплощение подобное кувшину» представляется в виде сокрытой лампы, являющей собой истинное пробуждение, которая открывается взору только после того, как разбивается кувшин (омрачение). Тот факт, что она не видна, не является неким изъяном самой лампы, а просто свидетельствует о наличии помехи в виде кувшина, который не позволяет ее увидеть.
Нет сомнений, что особенности сценариев и образов, представленных в этих и других подобных им доктринальных материалах, указывают нам на то, что в писаниях «Основополагающей сущности» произошло существенное изменение традиционной метафоры. Если кувшины, лампы и юноши являются стандартными представлениями махаянских священных метафор, часто обозначающими зародыш Татхагаты, то хитросплетение образов, включающих в себя сокровища, предков, кувшины, лампы и гробницы, не может не ассоциироваться с тибетским имперским наследием116. В этом отношении даже названия основных разъяснительных текстов «Основополагающей сущности», приписываемых Вималамитре (gsang ba snying thig zab pa po ti bzhi), которые, как считается, были погребены им, а затем извлечены Че-цуном Сенге Вангчуком, заставляют вспомнить императорские грамоты о присвоении придворных рангов в имперский династический период. Подобно тому, как эти рескрипты в зависимости от цвета каллиграфически выписанных букв назывались «золотыми» (gser yig), «бирюзовыми» (g.yu yig), «медными» (zangs yig) и т.п., разъяснительные тексты также содержат ссылки на «Золотые письмена» (gSer yig can), «Медные письмена» (Zangs yig can), «Украшенное обсуждение» (Phra khrid), «Бирюзовые письмена» (g.Yu yig can) и «Письмена из раковин» (Dung yig can)117.
Возможно, наиболее показательным для центрально-тибетских символических систем является вполне очевидное обращение к гробницам и культам предков монаршего дома. В предыдущей цитате из «Rig pa rang shar» «вечно юное воплощение подобное кувшину» явно идентифицируется как великий предок, обитающий в гробнице Будды. Погребальная программа монаршего дома включала в себя захоронение только что умершего правителя в большом кувшине, наполненном благородными металлами и драгоценными камнями118. Считалось, что разум правителя по-прежнему жив и теперь обитает в этом кувшине, и что его присутствие подтверждается во время ежегодных церемоний, проводимых на дороге духов, обозначенной каменными стелами с надписями и львами-охранителями119. Формализация этой идеи «вечно юного воплощения подобного кувшину» объединила специфические тибетские представления, хорошо известные по курганам Чонгье, с индийскими учениями об извечном зародыше Будды (своего рода «вливание молодого вина в старые мехи»). Все эти ассоциации с непрерывным воплощением, долголетием, погребением, могилами, откровениями и полетами в небесное царство играли важную роль как в доктринальных метафорах, так и в повествованиях о переводе, сокрытии, обнаружении и повторном открытии текстов традиции. Обсуждаем ли мы деятельность Че-цуна, тексты «Основополагающей сущности» или же переводчиков, мы везде ощущаем отчетливое присутствие погребальной атрибутики и ритуальных система культа предков, а также всеобщую очарованность тибетского народа своим имперским наследием.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Помимо появления народной религии конец одиннадцатого столетия также ознаменовался расцветом интеллектуального творчества. Отчасти это было вызвано деятельностью переводчиков того времени, выражавших сомнения в отношении происхождения священных писаний ньингмы. Кроме того, они проявляли недоверие и к ньингмапинской классификации учений, включавшей в себя девять колесниц, а также к лексикону этой древней традиции. Такого рода критика в свою очередь породила рефлексивный подход к оценке аутентичности священных писаний. Как мы уже видели ранее, авторитеты сармы иногда испытывали серьезные трудности с определением подлинности священных текстов, а в знаменитом «Провозглашении» Подранга Шивы-О от 1092 года даже бесспорно индийские тексты и передающие их наставники порой осуждались за отсутствие добродетели. Все больше росло ощущение, в особенности в Западном Тибете, что индийский буддизм угрожающе многообразен и, чтобы справиться с его сложностью, тибетцам было необходимо получить от его лучших представителей соответствующие ситуации методы. Деятельность ряда более поздних пандитов, таких как Падампа или Праджнягупта, также способствовала возникновению этого дискомфорта, поскольку создавалось впечатление, что оба они создают новые учения в ответ на возникновение новых ситуаций. Со временем методологические стратегии начали фокусироваться на доктринальных категориях, правильной буддийской лексики, а также на стратификации текстов и учений, чтобы экзотерические и эзотерические (нетантрические и тантрические) учения не смешивались друг с другом.
Монахи Восточной винаи доминировали в экзотерических науках, и помимо самой Винаи они уделяли особое внимание писаниям Совершенства мудрости, Абхидхарме, Йогачарабхуми, а также другим священным текстам махаяны и связанным с ними работам. Мы точно не знаем, как именно они их использовали, но нет сомнений в том, что их изучение опиралось на системы обучения, существовавшие еще в имперский период. Одним из учебных предметов также была эпистемология, и нам известно, что, вероятно, в третьей четверти столетия старую систему изучение логики (tshad ma rnying ma) представляли два монаха: Дакпо Ванг-гьел и Кхьюнгпо Драксе. Сообщается, что они бросили друг другу вызов на состязание (возможно, в виде дебатов, а, возможно, что и в более узком смысле) на красном холме в Лхасе, где ныне располагается Потала38.
Таким образом, в Центральном Тибете имелись все предпосылки для распространения нетантрических учений из программ индийских учебных центров, и впервые это осуществилось усилиями Нгок-лоцавы Лодена Шерапа, племянника основателя Сангпу Нгока Лекпе Шерапа. Нгок-лоцава не был учеником Атишы, поскольку родился через пять лет после кончины бенгальского ученого, однако, это не помещало ему стать последовательным сторонником учения кадампы. В отличие от монахов Восточной винаи, которые делали особый упор на изучение священных писаний, якобы являвшихся «словом Будды», Нгок Лоден Шерап работал со специализированными трактатами (шастрами), написанными выдающимися учеными и представлявшими собой тексты, которым отдавали особое предпочтение интеллектуалы великих монастырей Индии. В этот корпус входили узкоспециализированные работы йогачары, в частности пять работ, приписываемых Майтрее, и, в особенности, эпистемологические сочинения Дхармакирти и его последователей.
Вполне возможно, что побудительным мотивом для выбора Нгоком Лоденом Шерапой такой специализации стало его участие в знаменитом собрании переводчиков (chos ‘khor), которое организовал Три Траши Цеде у себя в Толинге в 1076 г.39. Хотя и до, и после этого также происходили различные религиозные собрания, данное мероприятия стало своего рода переломным моментом, поскольку на нем присутствовало шесть или семь известных переводчиков, в том числе Зангскар-лоцава, восстановивший Джокханг. Среди них был и тантрический переводчик Рало Дордже-драк, что выглядит довольно странным, поскольку основой повестки дня данного собрания была нетантрическая схоластика. Похоже, что это погружение в среду высокоинтеллектуальных и целеустремленных ученых оказало на семнадцатилетнего Нгока очень сильное воздействие, и он решил взяться за изучение санскрита40. Однако, его обучение проходило не в самой Индии, поскольку нам известно, что Нгок в течение семнадцати лет работал в Кашмире с Парахитабхадрой, Бхавьяраджей, Садджаной и другими учеными.
Когда Нгок Лоден Шерап вернулся домой, он привез с собой несколько полностью завершенных переводов, а также множество индийских текстов. Кроме переводов, его перу также принадлежит большое количество комментаторских текстов и избранных исследований, как объемных, так и небольшого размера41. Эта деятельность не была лишена определенного риска, поскольку тибетцы выражали явное беспокойство по поводу того, что отдельные тибетцы сами создают религиозные материалы. Однако, такая реакция гарантировала повышенное внимание тибетских авторов не только к качеству создаваемых ими трактатов, но также и ко всем потенциальным возражениям. Но эта крайне консервативная позиция была в конечном счете обречена, поскольку основывалась на ошибочном понимании принципов самовоспроизводства буддийской интеллектуальной культуры. Авторские трактаты – вкупе с их источниками, научными лекциями и личными наставлениями – являлись как демонстрацией профессионального подхода к преподаванию, так и дополнительным стимулом для повторного исследования проблемных идей. При этом вполне очевидно, что, несмотря на свою изощренность и глубину, огромное количество буддийских доктринальных систем содержало и продолжает содержать в себе множество неразрешимых теоретических и доктринальных проблем и парадоксов, которые не поддаются адекватному разрешению.
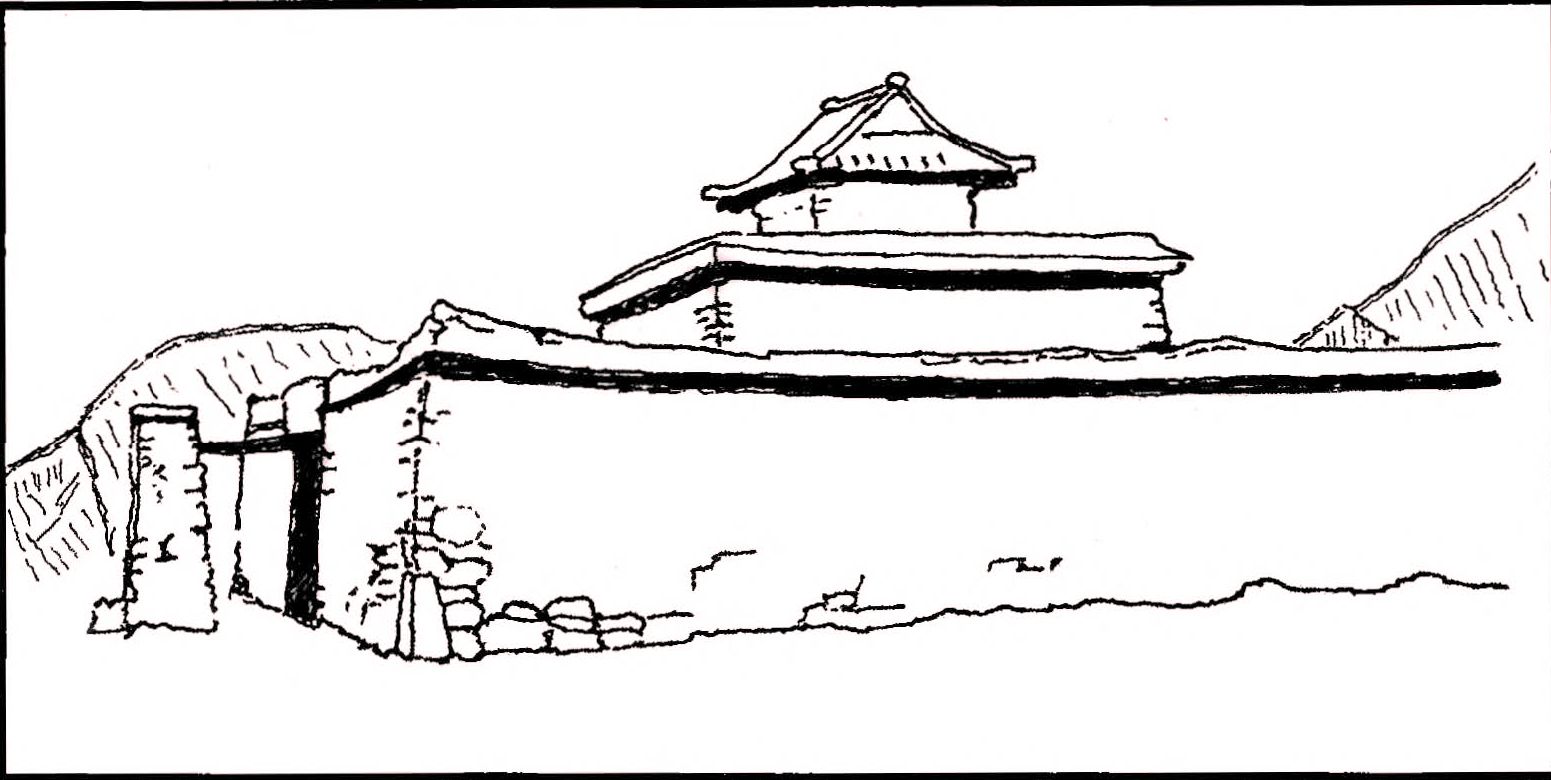 |
|
Илл. 17 Могила Нгока Лодена Шерапа. Прорисовка по фотографии Ричардсона
|
Однако, пока что тибетцы были еще весьма далеки всего от этого. Два трактата Нгока, опубликованные в Индии (о «Ратнаготравибхаге» и «Абхисамаяланкаре»), не предлагают решений спорных вопросов. Вместо этого в них в общих чертах описываются теоретические основы, исследуются структура и содержание их коренных текстов, а так же выстраиваются дискуссии в манере, понятной даже тем, кто не посвящен в тонкости махаянской мысли42. Смысл коренных стихов в них разъясняется достаточно простым языком, хотя порой и со слишком лаконичными пояснениеми43. В целом, эти два трактата Нгока являются прекрасными педагогическими пособиями того периода, и, возможно, именно поэтому они сохранились до наших дней. Большинство же других его работ, похоже, безвозвратно утрачены, и осталась только его могила, являющаяся местом паломничества (Илл. 17).
Помимо Нгока Лодена Шерапа нам известно о деятельности других монахов кадампы, которые в эти же времена начали трудоемкий процесс создания теоретической конструкции буддийского пути, которая могла бы включать в себя многое из того, что входило в их учебные программы. Как это видно на примере тантр, стандартный подход к данному вопросу основывался на установлении стратиграфии путей, которая производилась по двум направлениям. Во-первых, должны были быть описаны взаимосвязи между различными буддийскими путями, а, во-вторых, создано описание методов следования этими путями. Это был очень важный момент, поскольку одной из главных тем дискуссий в Тибете на протяжении последующих девяти столетий будет вопрос о том, дает ли махаянский метод совершенств (paramitanaya), следующий учению экзотерических писаний, результат, равный методу мантр (mantranaya), который использует тантрические практики и, как утверждается, может привести к полному пробуждению уже в этой жизни. Для монахов кадампы, как не определившихся с выбором, так и использовавших оба пути, вопрос был не только чисто академическим. Если бы их наследие, завещанное им «тремя братьями», не вело к пробуждению в духе тантрического пути, то их бы воспринимали как людей, затрачивающих множество усилий в течение длительного времени ради весьма посредственной цели. А это навряд ли бы способствовало поискам финансовой помощи для создания новых и весьма затратных в сооружении монастырей. Среди монахов кадампы были и те, кто пытался объединить несколько буддийских путей в рамках одной из махаянских идеологий, при этом некоторые из них использовали весьма спорный термин «махамадхьямака»44.
Необходимость описания (и обоснования) нормативного махаянского идеала заставила последователей Нгока Лодена Шерапа заняться разработкой учений и созданием соответствующих текстов, в которых была формализована архитектура поэтапного пути (lam rim) и поэтапного обучения (bstan rim)45. Тематическая структура этих текстов была аналогична структуре работы Потобы «Обучение на примерах», однако, они были ориентирована на более образованную аудиторию. Хотя в них затрагивались темы, аналогичные темам популярных произведений, разъяснились они с использованием научных дискуссий и цитат, а не с помощью назидательных фольклорных историй. Махаянские трактаты такого рода имели долгую историю, и были широко распространены еще до прихода буддизма в Тибет, ведь большая часть литературы йогачары и мадхьямаки как раз и посвящена подобным стратегиям. Но в связи с появлением новых доктринальных разработок махаяны, а также возникновением нового миссионерского пространства в виде все возрастающего количества центрально-тибетских храмов и монастырей возникла насущная потребность в новых синтетических формулировках, особенно заметная на фоне полемизированной атмосферы конца одиннадцатого столетия. Эта траектория развития буддийской литературы в конечном счете привела к появлению чрезвычайно популярной классики тибетского буддизма: «Драгоценного украшения освобождения» Гампопы и «Великого произведения об этапах пути» Цонгкхапы.
Другая разработка кадампинцев была тесно связана с предыдущими сочинениями. Ими был создан отдельный жанр медитационной литературы, известный как наставления по ментальному очищению (blo sbyong). Данные работы были посвящены фундаментальным практикам махаянской медитации и отражали увлечение кадампинцев «Бодхичарьяватарой» Шантидевы, включившего в главу о созерцании этого трактата материал из медитативных практик йогачары. Примерно к той же тематике относится и «Метод вхождения в махаянскую йогу», написанный Аро Еше Джунгне в десятом столетии. Причем, как утверждалось, данный текст был настолько авторитетен, что сам Атиша предпочитал его всем другим работам тибетцев46. Произведения, посвященные стадиям пути и ментальному очищению, были хорошо проработаны и согласованы между собой: в последних наглядно демонстрировалось практическое применение теоретических структур, обсуждавшихся в первых. Их совместное применение упрочило достоверность и подтвердило жизнеспособность поэтапного пути махаяны, что стало серьезным вызовом доминированию тантрических методов в У-Цанге одиннадцатого столетия.
Тантрическая наука, от которой, учитывая ее ресурсы и интересы, можно было бы ожидать гораздо большего, по-прежнему по большей части фокусировалась на переводах и ритуалах. Нет сомнений в том, что такие переводчики, как Марпа и Дрокми, были также авторами собственных тантрических сочинений. Однако, тематика тех немногих из них, что сохранились до наших дней (пусть даже только в виде названий), позволяет предположить, что их работы в основном были короткими текстами, посвященными разрозненным разъяснениям малопонятных тантрических наставлений47. У обоих этих выдающихся переводчиков были ученики, которые продолжили их экзегетические линии (bshad/gzhung brgyud) и стали авторами гораздо более обширных сочинений. Одним из таких учеников Марпы был Нгок Чокьи Дордже (1023–1090?), еще один выходец из клана нгок, члены которого были весьма значимыми личностями в тибетском буддизме одиннадцатого столетия. Считается, что он произвел систематизацию семи основных систем мандал, а так же основал храм Риво Кхьюнгдинг в Жунге, к югу от современного аэропорта Гонгкар48. Ученик Дрокми Селве Ньингпо написал чисто тибетский комментарий к Хеваджра-тантре, который по словам гораздо более поздних агиографов из-за своей доходчивости стал причиной напряженности его отношений с Дрокми49.
Два наиболее значимых произведения тибетской тантрической науки, сохранившиеся с тех времен, являются не комментариями, а трактатами, описывающими конкретные тантрические пути. «Общий обзор Гухьясамаджи» (gSang ‘dus stong thun) Го-лоцавы Кхукпы Лхеце представляет собой обширное и превосходно написанное введение в практику традиции Гухьясамаджи согласно учению школы Арья сиддхов Нагарджуны, Арьядевы и их последователей. В шести главах этой работы обсуждаются основные особенности личностей, природа явлений, омрачения на пути, введение в тантру посредством посвящения, тантрические методы практики и конечный плод50. Большинство глав довольно короткие, и такой конспективный подход к изложенным в них темам несколько непонятен, тем более, что свыше 80% текста приходится на Пятую главу, посвященную тантрическим методам. Вполне очевидно, что основной акцент в этом трактате сделан на описание ритуала, поэтому философские темы здесь представлены в качестве подмножество «реальности мантр» (mantratattva, стр. 369 и далее). Поскольку в данной работе автор почти не упоминает вопросы организации тантрической литературы, очень жаль, что до сих пор не обнаружено «Общее введение в Тантра-питаку» (rGyud sde spyi’i rnam bzhag), приписываемое этому высокообразованному, но имевшему сомнительную репутацию ученому одиннадцатого столетия.
Для сравнения с работой Го-лоцавы лучше всего подходит magnum opus самого представительного ученого-тантриста одиннадцатого столетия Ронгзома Чозанга, чьи выступления в защиту ньингмы мы уже рассматривали ранее. Ронгзом жил и трудился во второй половине одиннадцатого века, и в своей деятельности он опирался на наследие предшествующих наставников «природы ума» Великого совершенства (sems phyogs), самым известным среди которых был Аро Еше Джунгне. Ронгзом, безусловно, был одним из самых влиятельных интеллектуалов школы ньингма тех времен, и кроме того он считается автором обширного корпуса самых разнообразных текстов. Важной вехой в тибетской доктринальной науке является его «Введение в практику махаяны» (Theg chen tshul’jug pa)51. В данной работе истинность «природы ума» обосновывается в шести почти равных по объему главах посредством очень изощренных рассуждений с использованием категорий из литературы абхидхармы, йогачары, мадхьямаки и праджняпарамиты52. Те, кто знаком с этой литературой, которая в качестве интеллектуального наследия хранилась и передавалась тибетцами, начиная с имперских времен (kahma), в полной мере оценят легкость и утончённость его слога. А особенно впечатляет использование им в качестве экзегетического инструмента йогачаринской идеологии «трех природ» (trisvabhava).
Когда мы сравниваем работы этих двух наставников, Го-лоцавы и Ронгзома, то видим несомненную разницу их подходов к достижению поставленной цели. Ронгзом практически не упоминает ритуал, ведь для него Великое совершенство – это прежде всего метод осознавания реальности, и он постоянно возвращается к вопросам восприятия и феноменологии событийного горизонта. Это не означает, что Ронгзом не интересовался ритуалом как таковым. Он был настолько вовлечен в систему Ваджракилы, что одна из ее традиций даже была названа в его честь (Rong lugs phur ba), а сохранившиеся до наших дней его переводы санскритских текстов в целом носят ритуальный характер. Похоже, он полагал, что ритуал необходим для других средств обретения пробуждения, но не для Великого совершенства53. Го-лоцава, напротив, весьма скупо затрагивает философские вопросы, хотя однажды (стр. 73.2) он все же упоминает Великое совершенство при рассмотрении четвертого посвящения. Однако, выбранная им тематика и его подходы к переводческой деятельности точно отражают ориентацию индийских авторитетов десятого-одиннадцатого столетий, а его творчество, насыщенное цитатами и упоминаниями различных текстов и авторов, является настоящим монументом традиционной науки. Что касается Ронгзома, то создается впечатление, что он не считал чем-то важным упоминание сторонних источников, ведь даже Глава 51, специально посвященная текстам о Великом совершенстве, в основном заполнена цитатами без указания авторства, и только некоторые из них можно идентифицировать по названию.
С другой стороны, работа Ронгзома – это нечто вроде искажения пространственно-временного континуума, доктринальный курьез, перенесенный в конец одиннадцатого столетия. Его акцент на философские идеи и менталистическую доктрину отражает воззрения его собственной традиции, поскольку, как и ранние тантры ньингмы, Ронгзом, похоже, не проявлял особого интереса к новому ритуализму, пришедшему из-за Гималаев. А его работа так же отличается от работы Го-лоцавы, как тантры ньингмы, такие как «Тантра самопроявления чистой осознанности» (Rig pa rang shar chen po’i rgyud), от тантр сармы, таких как «Хеваджра-тантра». Помимо этого, в своих текстах Ронгзом старательно избегает большей части лексикона, методов аргументации и построения категорий, заимствованных из индийской науки того периода, даже несмотря на то, что все это уже было привнесено в Центральный Тибет Нгоком Лоденом Шерапом и его преемниками, а после двенадцатого столетия и вовсе стало обязательным практически для всех тибетцев пишущих на такие темы, как восприятие. Если рассматривать его деятельность в исторической ретроспективе, при этом принимая во внимание контекст его тантрических комментариев к произведениям ньингмы, то в целом создается впечатление, что Ронгзом предпринял последнюю попытку повторного утверждения традиционной учености имперского наследия, воспринимающей Великое совершенство как кульминацию всей буддийской сотериологии и опирающейся на махаянский лексикон.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Вышеупомянутые системы создавались и распространялись главным образом буддистскими сиддхами, которые чаще всего были мирянами, хотя среди них также встречались действующие или несостоявшиеся монахи. Истории жизни и деятельности этих персонажей порой представляют собой весьма занимательное чтиво, что, впрочем, и было одной из многочисленных целей создателей этой литературы. Для повествований о сиддхах (как, впрочем, и для других агиографических форматов) характерен синтез нескольких композиционных факторов: жанровой специфики, атмосферы предвкушения, оригинальных прототипов и т.п. Причем, хотя поведение сиддхов и не соответствовало общепринятым социальным нормам тех времен, агиографии предлагали их приверженцам великое множество разнообразных образов этих святых подвижников. Однако, агиографии в целом и сиддхов в особенности лучше всего рассматривать по отдельности и обязательно в свете той йогической системы, в рамках которой они создавались, сохранялись и передавались. Но поскольку Индия не является главной целью моего исследования, к этим и связанным с ними вопросам мы будем обращаться лишь по мере необходимости.
Теперь мы можем переключить свое внимание с самых ранних источников агиографий сиддхов в Индии на их дальнейшее использование в качестве средства распространения религиозных доктрин за ее пределами. Для этого ранние устные варианты таких преданий были подвергнуты редактированию с акцентом на специфические социальные и религиозные ценности. Причем повышенное внимание уделялось литературному построению агиографий, поскольку данные сочинения были по своей сути литературными произведениями и поэтому не должны были восприниматься как исторические в любом смысле этого слова (хотя и могли нести в себе достаточно много исторической информации). Наконец, мы должны рассмотреть взаимосвязь этих повествований и соответствующих ритуальных и медитативных систем (в пределах того, насколько они изучены или доступны нам), поскольку агиографии часто описывают духовные, психологические или физиологические переживания, которые, как считается, происходят в процессе выполнения практик данных систем.
 |
|
Илл. 1. Наропа. Прорисовка настенной росписи начала XIII в. Храм Сум-цек монастыря Алчи
|
Похоже, что среди всех этих эксцентричных личностей самой значимой для возрождения Центрального Тибета персоной являлся Наропа. Как и в случае с Сарахой – еще одним популярным у тибетских летописцев сиддхой – личность Наропа окутана туманом стольких агиографий, что почти невозможно понять, кем был на самом деле этот человек (Илл. 1). В Главе 4 рассматриваются исторические записки тех времен, посвященные Наропе, из которых следует, что он был бенгальским светским гуру, чьи интересы включали в себя политику, религию, еду, а также употребление слабого интоксиканта в виде бетеля, и что он умер в 1041/42 г. н.э.
Однако, следуя тенденции буддистов к вольному обращения с биографиями своих святых подвижников, агиографии кагьюпы обезличивают Наропу, отливая его монументальный образ с помощью нескольких заранее заготовленных форм. Из-за невнимания к доступным свидетельствам тибетские агиографы расходятся во мнениях относительно географии его жизнедеятельности, семейного положения, раннего периода жизни и большинства других деталей. Многие тибетцы, заблуждаясь, считают его родными местами Кашмир, в то время как другие безошибочно указывают на Бенгалию. Одни говорят, что он был брахманом, другие – что сыном князя, а один индийский источник (версия из сборника, приписываемого Абхаядатташри) полагает, что он происходил из низкокастовой семьи торговцев спиртным (saundika).
Одним из самых ранних источников по этой теме является текст тринадцатого столетия Гьялтангпы Дечена Дордже, чье тридцатитрехстрочное стихотворное восхваление и сопутствующий ему прозаический комментарий начинаются с изображения юности Наропы как практически идентичной юности Будды21. В этом повествовании Наропа родился в Бенгалии, в городе под названием Нагара (т.е. «город»). Как полагали тибетцы, он принадлежал к роду шакьев, был сыном их правителя *Кушалавармана (*Kusalavarman) и появился на свет в месяце рождения Будды (vaisakha). Как и сам Сиддхартха, Наропа изучил все священные писания без какого-либо обучения. Он женился против своей воли и, в конце концов, отрекся от мирской жизни и стал великим настоятелем Наланды под именем Абхаякирти (Abhayakirti)22:
|
Выполняя таким образом обязанности настоятеля,
Он распространял учение и разрешал все серьезные проблемы.
Он обрезал волосы тиртхикам и водрузил знамя победы истинной веры.
Почтение Наропе, владыке учения!
|
|
Выполняя таким образом свой долг перед учением,
Джнянадакини даровала пророчество:
«Ищите Тиллипу, который размышляет над сущностным смыслом!»
Почтение Наропе, получившему это пророчество!
|
|
В ответ Наропа спел песню отречения и отправился на поиски Тиллипы.
Все монахи Наланды умоляли его остаться,
Но он не стал их слушать, и с верой пытался найти этого гуру.
Почтение Наропе с правильными кармическими связями!
|
|
С преданностью разыскивая владыку гуру,
Он проявлял упорство в своих аскетических практиках.
Но бестелесный голос сказал ему медитировать на Чакрасамвару вместо Хеваджры.
Почтение Наропе, выполнявшему [практику] Чакрасамвары!
|
|
Но сам Чакрасамвара сказал Наропе, что если он
Не найдет Тиллипу и не будет на него полагаться, Наропа не обретет состояние будды.
Поэтому с верой и преданностью он разыскивал гуру с правильными качествами.
Почтение Наропе, ищущему гуру!
|
|
Прилагая таким образом усилия и разыскивая гуру,
Когда он, наконец, его встретил, Наропа не узнал гуру,
Поэтому он страдал с устремлением, верой и преданностью.
Почтение Наропе, который избавился от своих омрачений и встретился лицом к лицу с гуру!
|
|
Со всей силой преданности он молил, обращаясь с просьбой о Дхарме,
И владыка гуру продемонстрировал глубокую Дхарму символов.
Поняв эти символы, Наропа осознал реальность Дхармы.
Почтение Наропе, добившемуся освобождения благодаря Дхарме символов!
|
|
Итак, владыка гуру Тиллипе, который был явленным Буддой (нирманакаей),
Для того, чтобы добиться зрелости потока сознания Наропы, даровал ему четыре посвящения.
Поняв значение посвящений, Наропа спел совершенную песню.
Почтение Наропе, получившему посвящения!
|
|
Движимый верой и в соответствии с указаниями гуру,
Наропа прыгнул с крыши крепости, пронзил колом почки,
Бросился в сандаловое пламя, перекинул через болото мост и т.д.
Почтение Наропе, прошедшему трудный путь!
|
|
Затем правитель услышал о достижениях Наропы в его практике.
И, засвидетельствовав могущество [и тантрический взгляд] Наропы, он обрел веру и преданность.
Правитель предложил ему свою дочь, и благодаря своей практике Наропа убивал и оживлял живых существ.
Почтение Наропе, выполнявшему сексуальную практику!
|
|
Затем придворный священник правителя *Какавана
[Стал испытывать неприязнь] к практике владыки йогинов Наропе,
Но увидел, что результаты его желания, гнева и т.д. приведут его в ад.
Почтение Наропе, который ведет существ к раскаянью и покаянию!
|
|
Затем после этого, прямо перед Наропой
Владыка Тиллипа взлетел в царство высших миров,
И спел песню, даруя всю Дхарму в его изложении.
Почтение Наропе, который из преданности предложил свою собственную песню!
|
|
Осознав свою реализацию, он обрел высочайшее достижение.
Обладая этим достижением, в соответствии со своими собственными качествами,
Закрепив свое пророчество, он мирно пребывал в состоянии неразделимости.
Почтение Наропе, который добился успеха, следуя указаниям наставника!
|
В этом повествовании Наропа, будучи настоятелем флагманского монастыря позднебуддистской Индии, взволнован своей самоуспокоенностью. В этот момент появляется Джнянадакини и обвиняет его в непонимании смысла читаемых им высказываний, а их смыслом в полной мере владеет Тилопа/Тиллипа/Телопа (имя великого сиддхи разными авторами пишется по-разному). Вопреки желанию своих монахов Наропа покидает монастырь, чтобы найти Телопу, но тот играет в прятки с великим ученым. К Наропе сначала присматриваются, чтобы увидеть, понимает ли он невербальные знаки, а затем дают посвящения, которые позволяют ему практиковать. Любопытно, что в большей части агиографий не делается акцента на йогическом обучении, которое, как считается, он прошел у Телопы, поскольку в большинстве из них вообще мало что говорится о йогическом содержании или даже просто о сущности передачи Телопы Наропе23. Вместо этого агиографы с увлечением повествуют о его преданности гуру и тринадцати испытаниях, выпавшим на долю Наропы, который изображается как тогдашний Геракл, но только в религиозном смысле. Но именно испытания позволяют Наропе обучаться, и он достигает своей цели благодаря практике аскетического обета (vratacarya) – полному отрешению от общественного одобрения и полному погружению в жизнь тантрического йогина. Если характер испытаний просто варьируется в зависимости от конкретной агиографии, то отдельные эпизоды повествования выглядят как демонстрация творческих способностей разных агиографов, причем каждое следующее описание только увеличивает страдания и мучения, которые испытывает Наропа в своих поисках пробуждения. Наконец, вся эта история заканчивается, как и все агиографии сиддхов, демонстрацией сиддхи (siddhi) – магической власти сиддхов над богами (солнце, река и пр. являются богами) и элементами реальности.
Отсутствие акцента на йогическое содержание в большинстве повествований выглядит довольно интригующим, поскольку считается, что Телопа получил четыре (или шесть) основных передач. Хотя здесь опять же есть некоторые расхождения во мнениях, все же следует рассмотреть один из стандартных списоков. От Нагарджунапады Телопа получил наставления по «Гухьясамаджа-тантре» и «Чатухпитха-тантре», а также йогам иллюзорного тела и переноса сознания. От Чарьяпады – по «Махамая-тантре» и практикам йоги сновидений; от Лвабапы – по всем материнским тантрам (йогини-тантрам), включая «Чакрасамвару» и йогу ясного света; а от Субхагини – по «Хеваджра-тантре» и йоге психического тепла (candali)24. В некоторых повествованиях утверждается, что Телопа передал Наропе системы практик процесса завершения, которые в конечном счете стали называться «шесть наставлений (или йог) Наропы»: психического тепла, иллюзорного тела, сновидений, ясного света, переноса промежуточного состояния (bar do) и возвращения к жизни мертвых25. Кроме того, все авторитеты непреклонны в том, что Телопа первым объединил эти йогические практики и что он, по сути, не нуждался в такой помощи, ибо сам являлся манифестацией (nirmanakaya) извечного Будды Ваджрадхары, что на самом деле выглядит как более разумный выбор жизненного пути. Подводя итог, можно сказать, что отношения Наропы с Телопой – это встреча глаза в глаза с извечным пробужденным состоянием, предстающим пред тобой в непривлекательной форме внекастового йогина, к тому же имеющего пристрастие к рыбе.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Современные исторические работы, описывающие период тибетского возрождения, в основном акцентируют внимание на деятельности в десятом и одиннадцатом столетиях правителей-монахов Западного Тибета из линии Осунга; на работе Ринчена Зангпо (958-1055) – самого раннего переводчика, которому они покровительствовали; и в особенности на миссионерской деятельности бенгальского монаха Атиши Дипанкары Шриджняны (983?-1054, Илл. 6)87. Согласно этим работам и многим поздним тибетским источникам, прибытие Атишы в Тибет в 1042 г. стало переломным моментом в возрождении буддизма и заложило прочную основу монашеской учености на последующее тысячелетие. Однако та среда, в которой строились взаимоотношения Западного с Центральным Тибетом – и, соответственно, складывалось влияние первого на окончательный характер тибетского буддизма – выглядела гораздо сложнее описываемого в общепризнанных источниках.
Поскольку жизнь всех этих людей из Западного Тибета достаточно хорошо задокументирована, я привожу здесь лишь краткий очерк их деятельности и сферы влияния, а также пересмотренную оценку их фактического воздействия на события в У-Цанге одиннадцатого столетия88.
 |
|
Илл. 6. Атиша и Дромтон. Прорисовка фрагмента кадампинского рисунка двенадцатого столетия
|
Согласно тибетским документам, Лха-лама Еше-О был ошеломлен тем, во что превратился буддизм в его государстве Гуге. По этой причине где-то в последней четверти десятого столетия он отправил двадцать одного смышленого молодого человека учиться в Кашмир89. Из-за суровости путешествия и отсутствия у тибетцев иммунитета к индийским болезням большинство из них погибло, а лучшим из двух выживших был будущий выдающийся ученый Ринчен Зангпо. Опираясь на щедрость имперского дома Гуге-Пуранга, он и его ближайшие ученики построили (или были каким-то образом связаны со строительством) в этом западном государстве множество буддистских храмов, причем традиционно считается, что под опекой Ринчена Зангпо находилось 108 центров буддийской практики. Однако в одном из недавних исследование показано, что, по всей видимости, их общее количество к середине одиннадцатого столетия составляло около трех-четырех десятков. Т.е. столько их было возведено между 992 годом и временем, когда Атиша покинул Гуге-Пуранг и отправился в У-Цанг в 1045 году, при этом в данном исследовании отмечается нарастающий темп строительства в течение этого периода90.
К 1030-м годам было решено пригласить какого-либо известного ученого, причем обязательно из восточной Индии, в отличие от большинства индийских монахов, прибывавших ранее из Кашмира91. В агиографических текстах утверждается, что для Тибета большую опасность представляли неортодоксальные практики, особенно те, что были связаны с печально известным Ачарьей Марпо (Prajnagupta) и еретической группой «облаченных в синие одежды» (nilambara), хотя эти персонажи, скорее всего, возникли несколько позже и были анахронистически спроецированы на более ранний период92. Джангчуб-О, преемник правителя-монаха Лха-ламы, похоже, был очень озабочен соблюдением законности в монашеской жизни. Кроме этого он, конечно же, обдумывал вопрос восстановления Самье, возможно, тревожась о том, что новое движение в Центральном Тибете постепенно присвоит себе все династические имперские объекты93.
Следуя этому решению, Джангчуб-О обратился к известному буддистскому монаху Нагцо Цултриму Гьялве (р. 1012) и попросил его передать свое приглашение Атише, который в те времена служил настоятелем монастыря Викрамашила, находившегося на территории современного индийского штата Бихар. Нагцо покинул Тибет в 1037 году и отправился во главе группы из четырех других тибетских ученых в Викрамашилу, попутно остановившись в храме Махабодхи в Бодхгае, чтобы засвидетельствовать свое почтение месту просветления. Прибыв в Викрамашилу, они встретились в монастыре с тибетским наставником Гья-ло Цондру Сенге, обучавшим абхидхарме Нагцо, и через него договорились с Атишой о посещении им Тибета94.
Очевидно, это заняло какое-то время, что позволило Нагцо побывать в Пхуллахари и увидеть Наропу, посетить других учителей в Бенгалии, а также продолжить обучение в Викрамашиле95. В конце концов, Гья-ло, Нагцо и Атиша отправились в Тибет. По дороге они сделали остановку на год близ Катманду и заложили там Стхам Вихару по образцу Викрамашилы96. Атиша и Нагцо прибыли в Пуранг в 1042 году и пробыли там три года, в течение которых Атиша встречался с Ринченом Зангпо, написал свой знаменитый «Светильник дальнего пути» и работал с тибетцами над переводом нескольких произведений. Он был ближе всего к Нагцо, и впоследствии они прожили вместе год в Мангьюле, на родине Нагцо. В конце концов, они решили отправиться в Центральный Тибет и прибыли в провинцию Цанг в 1046 году, где пробыли год, прежде чем в 1047 году посетить Самье, а затем и другие части Тибета. Атиша провел несколько лет в Йерпе, стараясь избегать Лхасы, хотя его ученики должны были посещать ее во время религиозных праздников, да и сам он какое-то время жил там. Однако самый значительный след бенгальский монах оставил в Ньетанге (в долине Кьичу), где скончался в 1054 году. За это время Атиша не приобрел большой известности в Центральном Тибете, хотя многие важные тибетские ламы одиннадцатого столетия либо просто принимали его у себя, либо одновременно с этим слушали его учения.
По первому впечатлению, особенно, если следовать тому, что пишут поздние авторы кадампы и гелугпы, может показаться, что в течение всей своей жизни Атиша был в Центральном Тибете очень влиятельной персоной. Однако, более пристальный взгляд на события середины одиннадцатого столетия дает возможность понять, почему это было не так. Во-первых, большинство монахов, даже монахов кадампы, явно следующих духовной программе Атишы, получали свои монашеские обеты и обучались Винае у монахов Восточной винаи. В всех историях распространения Винаи в Тибете говорится, что Атиша никогда не передавал тибетцам Винаю в течение всех тринадцать лет своего пребывания в Тибете97. Причина этого была проста: он был монахом локоттаравады, ординированным по «Махасангхика-винае». Более того, когда он попытался преподавать ее в Ньетанге, его остановили его же тибетские ученики, которые придерживались старого запрета, установленного Релпаченом и другими правителями, на преподавание какой-либо иной Винаи кроме муласарвастивадинской98.
Поэтому, когда Атиша путешествовал по Тибету, он редко закладывал храмы или другие учреждения, а все те, что он основал, такие как, например, Белый храм (Lha khang dkar po) в Мангьюле в 1045/46 г., в конце концов попали в зависимость от монахов Восточной винаи. Атиша, безусловно, призывался благословлять новые храмы, к примеру, его попросили освятить храм Арьядевы и древний храм в У99. Но такие эпизоды только подтверждают, что большинство храмов, в которых преподавал Атиша, на самом деле были построены предыдущими наставниками и остались в их руках после ухода Атиша. Таким образом, хотя лекции и ритуалы Атишы, по всей видимости, порой собирали большую аудиторию, когда монахи покидали эту временную общину, они попросту возвращались в свои родные города. Социологи, такие как Старк (Stark) и Бейнбридж (Bainbridge), называют этот вид участия в возникающих на время системах «культами аудитории», причем они являются наименее устойчивыми из всех объединений такого рода, поскольку, когда наставник уходит, отношения участников также тяготеют к полному исчезновению100.
Отсутствие структурированных межвинайных отношений означало, что тибетские монастыри редко могли соответствовать организационным принципами, которые Атиша одобрил бы для таких монашеских центров, как основанная им Стхам Вихара в Катманду. Когда Атиша отправлялся учить или переводить в храм или монастырь, его обычно принимали члены Восточной винаи. На самом деле, выглядит маловероятным, что без их покровительства Атиша вообще мог достичь заметного влияния, поскольку его даже не всегда приветствовали. Даже в обширной агиографии Атишы часто упоминается о враждебности, с которой Атиша и его окружение сталкивались на всем протяжении «четырех рогов» Тибета. Характерно, что тибетцы приписывали эту враждебность проискам Дранки Пелгьи Йонтены, духа убитого монаха, который считался призраком, подстрекавшим к восстаниям периода раздробленности101.
Ранние источники на самом деле изображают Атишу чем-то вроде пешки в руках тибетских учителей, действующую в соответствии с их желаниями, поскольку он путешествовал по их владениям и останавливался в их храмах. У Атишы не было особого выбора и приходилось следовать их планам, поскольку самые важные тибетские монахи того периода в источниках то и дело упоминаются как «большие люди». Итак, когда он прибыл в Цанг, считается, что Сумпа Еше Лотро (который, если действительно был жив, должен был быть очень старым) пригласил Атишу приехать в Гьясар-ганг, его буддистский центр102. В У «самым большим человеком» считался ученик Луме Кхутон Цондру Юнгдрунг. Его приглашение к бенгальскому монаху очень важно для агиографии, так как демонстрирует особую ценность Атишы, и все же агиография подходит к Атише по тибетским стандартам103. Такие приглашения возлагали на Атишу учебную нагрузку, поскольку им часто сопутствовал перечень текстов, которые он должен был разъяснять. К примеру, когда он останавливался во флагманском монастыре Кхутона Солнаке Тангпоче многое из того, что он преподавал, соответствовало учебной программе, ранее разработанной в системе Восточной винаи, хотя йогачара и относящиеся к ней трактаты рассматривались им более детализовано104. Когда же он проживал в Самье, Атишу просили придерживаться аналогичного учебного графика105.
Также он жаловался на то, что ему не разрешают обучать ни своей любимой «Махасангхика-винае», ни «песням реализации» (doha), которые в Бенгалии в те времена были очень влиятельной практикой106. Если мы сравним его программу обучения с тантрическими текстами, которые он и его тибетские последователи переводили в этот период, то увидим существенную разницу: с одной стороны Атиша преподавал «Ратнаготравибхагу» в Солнаке Тангпоче, а с другой он и Дромтон занимались переводами наставлений по тантрическим ритуалам Чакрасамвары, Ямантаки и т.д.107.
В дальнейшем ограничения в выборе винаи сказались и на деятельности последователей Атишы. Когда наставники кадампы начали учреждать собственные монашеские центры, они были вынуждены присоединяться к той или иной винайной линии традиции Восточной винаи, даже если интеллектуальная часть их учебной программы была по происхождению кадамповской. Поэтому великие монастыри кадампы, такие как, например, новый храм в Ньетанге (1055 г.) или Сангпу Нейток (1073 г.) Нгока Лекпе Шерапа, по большей части создались по правилам Восточной винаи, причем исключением здесь был, похоже, лишь только Ретренг (1056/7), основанный Дромтоном Гьелве Джунгне. Вследствие этого в агиографии Атишы пришлось указать, в какую группу Восточной винаи после его смерти вошли отдельные монастыри кадампы, отчасти для того, чтобы подчеркнуть уникальное положение Ретренга:
«Таким образом, из числа тех четырех монастырей, что были основаны в У в качестве резиденций (gdan sa) для владыки Атишы, Ньетанг, основанный Бангтоном в У, был поглощен монастырями группы Ба-Рак. В Ярлунге Дренгьи Лхадинг в Седу был занят группой Луме. Нгоктонпа, собравший общину в Сангпу, установил «Полог размером с дверное полотно» (rgya phibs phya ra tsam cig), который был присвоен группой Дринг. Однако, Ретренг, поскольку он был учрежден по совету как геше (Дром-)Тонпа, так и Нелджорпы (Шерапа Дордже), в северной части Ретренга была сооружена Голова Орла (khyung mgo can)108. По этой причине, хотя это является великой обителью, опирающейся на глубокие идеи геше Тонпы, он не попал в руки ни одной тибетской линии – ни Ба-Раг, ни Луме, ни группы Дринг. Так чем же он был? Он был малым спутником Викрамашилы. Он была Резиденцией Владыки [Атиши], духовным сооружение геше Тонпы – главного прародителя, защищавшего драгоценное учение кадампы, а также главной чайтьей Владыки во всем снежном царстве, от Западного Тибета до Центра»109.
Несмотря на то, что это изложение событий в представлении кадампы, Дракпа Гьелцен также подтверждает, что, хотя монастыри кадампы в двенадцатом столетии и не были полностью включены в состав основных подразделений монахов Восточной винаи, тем не менее, они были достаточно тесно связаны с ними. Ретренг был аффилирован с группой Ба-Рак, Ньетанг – с Ма, а Сангпу стал частью Дринг110. Напористость монахов Восточной винаи особенно наглядна в случае со старым храмом Ньетанг. Как нам известно, вокруг этого учреждения сразу после смерти Атиши развернулась борьба за установление контроля над ним. Члены группы Ба-Рак (т.е. представители линии Батсуна Лотро и Ракши Цултрима Джунгне, которые зачастую имели свои обособленные структуры) сначала не преуспели в захвате этого места, но позже все-таки взяли его под свой контроль111.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
На самом деле, мы мало что знаем о пребывании Дрокми в Индии. Однако точно известно, что он был одним из первых среди тех деятелей движения «новых переводов», что обучались непосредственно в этой стране. Также вполне очевидно, что Ринчен Зангпо опередил Дрокми на несколько десятилетий, поскольку он вернулся в Гуге после своего первого периода обучения где-то в конце 980-х годов. Однако, в его агиографии говорится, что он учился как в Кашмире, так и в Индии, поэтому, скорее всего, свое основное образование он получил в долине Кашмира, а не в великих монастырях долины Ганга20. Кроме того, сообщается, что ученик Луме Жанг Нанам Дордже Вангчук проходил обучение в Бодхгае, но даты его пребывания в Индии неизвестны, и, похоже, что до отъезда он долго жил и трудился у себя на родине. Имперский монах Цалана Еше Гьелцен работал с Камалагухьей в Центральном Тибете, выполняя переводы в первой четверти одиннадцатого столетия, но мы не располагаем свидетельствами того, что он когда-либо был в Индии или даже в Непале, при этом его переводы, похоже, имели весьма ограниченное хождение. Что касается Дрокми, то, вероятно, он отправился в Непал в возрасте двадцати лет или около того, возможно, что в 1010 году (или даже немного раньше), и уж точно до 1020 года. «Синяя летопись» утверждает, что Дрокми и Тагло были посланы в Индию, когда Ринчену Зангпо был около пятидесяти лет (т. е. примерно в 1008 году). Таким образом, вполне вероятно, что они побывали там раньше всех остальных ученых и переводчиков Центрального Тибета, причем некоторые тибетские историки считают это неоспоримым фактом21.
Ученые тибетские наставники Дрокми и Тагло дали им тройственное напутствие: они должны были изучить наставления по соблюдению надлежащего монашеского благочестия, которому обязаны следовать все монахи (т.е. Винаю); они должны были постичь смысл писаний совершенства мудрости (праджняпарамиты), которые в период смутных времен имели в Тибете особую ритуальную значимость; и, кроме того, они должны были изучить эзотерические писания и порядок их применения. Последнее, возможно, является более поздней экзегезой, поскольку, по крайней мере, один из ранних текстов не содержит этих указаний следовать эзотерическим путем22. Согласно источникам, Дрокми впервые начал изучать санскрит в Непале с неким Бхаро Харн-тунгом (возможно, на самом деле с «Харн-тунгом Бхаро», поскольку в неварских документах «Бхаро» в составе имени всегда стоит на втором месте). Этот человек был одним из неваров, кто в начале одиннадцатого столетия заслужил право дополнить свою фамилию титулом «Бхаро», указывающим на его аристократическое происхождение. Как мы уже знаем, «Харн-тунг» является вариантом духовного титула «Хад-ду»/«Харн-ду», который иногда использовался в одиннадцатом веке неварами Патана и Пхарпинга. Более поздние авторы идентифицировали этого Харн-тунга Бхаро как буддиста с формальным санскритским именем Шантабхадра. Мы можем предположить, что он был типичным неваром, гораздо более заинтересованным в ритуалистике, нежели в ортодоксии, т.е. таким же, как *Кунда Бхаро, обучавший Рало Дордже-драка примерно с 1030 по 1040 год23. У своего Бхаро Дрокми должен был пройти некое ритуальное обучение (он получил соответствующее посвящение) и получить поверхностные знания грамматики, при этом ранние источники ничего не сообщают о сущности этого обучения. Вероятно, все это происходило в Патане, традиционном буддистском центре, расположенном в долине Катманду, т.е. в том же самом городе, где спустя десятилетие (или два) обучался Рало.
Проведя год в Непале, Дрокми и Тагло наконец направились в Индию. Далее источники сходятся во мнении, что Дрокми поступил в великий монастырь Викрамашила, чтобы продолжить свое обучение у Ратнакарашанти. Это была выдающаяся личность, чье творческое наследие включает в себя тексты, посвященные силлогистической логике, эпистемологии, праджняпарамите, а также обширную эзотерическую литературу по буддистским практикам той эпохи. К сожалению, впечатляющий вклад Ратнакарашанти в специализированную буддистскую литературу отчасти был проигнорирован как тибетскими религиозными авторитетами, так и современными специалистами: первыми по причине того, что тибетцы считали скептицизм мадхьямаки вершиной буддийской мысли Индии, а вторыми – из-за обескураживающей учености Ратнакарашанти24. Хотя его идеи во многом противоречили тогдашнему духу времени, Ратнакарашанти, не убоявшись трудностей, предпринял попытку восстановить традиционные буддийские категории. Кроме того он сформулировал ряд изощренных утверждений, доказывающих приоритет медитативного опыта и мистических реальностей, причем с использованием именно буддистских взглядов. К сожалению, прискорбной наградой Ратнакарашанти за его усилия в защиту буддийской идентичности стали периодическое очернение его взглядов, институциональная маргинализация и отнесение его трудов к работам, не имеющим религиозного авторитета25. Тем не менее, это был именно тот выдающийся деятель, чьи лекции Дрокми решил посещать в течение первых нескольких лет своего пребывания в Индии.
В те времена, когда Дрокми прибыл в Индию, индийцы довольно плохо представляли себе, кто такие тибетцы, хотя уже привыкли к неварам из долины Катманду и кашмирцам, обучающимся в их монастырских центрах. Ведь прошло уже почти два века с тех пор, как они последний раз видели таких же как Дрокми целеустремленных личностей, прибывших к ним из страны снегов. Причем последних тибетцев времен имперской династии интересовали не столько новые материалы, сколько подтверждение уже существующих догматических норм. Немногим ранее Ринчен Зангпо, возможно, также посетил Викрамашилу, однако, неясно, как долго он там находился26. Позже тибетцы стали в Викрамашиле чем-то вроде отдельного институционального сообщества, и мы знаем, что в разное время несколько монахов приезжало туда, чтобы пригласить Атишу в Тибет, пока, наконец, это не удалось сделать Нагцо примерно в 1037–1039 годах27. Если в Викрамашиле следовали той же политике, что и в более поздних тибетских монастырях, то Дрокми должен был быть поселен в отдельном анклаве с другими представителями горных «приграничных народов», т.е. с неварами, ассамцами и, вероятно, выходцами из западных Гималаев (за исключением кашмирцев). Мы ничего не знаем о личных отношениях Дрокми ни с его наставниками, ни с сокурсниками. Нам известно только то, что в этот период своего обучения ему пришлось решать пугающую любого тибетца задачу: изучение как местного, так и классических языков средневековой Индии. Сама же учебная программа была сфокусирована на схоластике с упором на дебаты, силлогизмы и ритуалы, характерные скорее для Индии, чем для Тибета.
В ранних источниках, таких как, например, записки Дракпы Гьелцена, программа обучения Дрокми описывается лишь в общих чертах (типа «Дрокми изучал Винаю, праджняпарамиту и ваджраяну»). Однако, уже к середине тринадцатого столетия хроники сакьяпы приводят обширный список изучавшихся им предметов и текстов. Мартон утверждает, что Ратнакарашанти, которого он называет стражем восточных ворот Викрамашилы, обучал Дрокми грамматике, эпистемологии, Винае, доктринам совершенства мудрости (по обширным материалам, куда входили и писания, и комментарии), трем основным тантрам цикла Хеваджры и практикам Самвары28. Источники единодушны в том, что Дрокми продолжал обучаться и у других ученых Викрамашилы. Согласно этим легендам, стражем южных ворот являлся Вагишваракирти, который, предположительно, был авторитетным ученым, известным своими четырьмя короткими работами по практикам, относящимся к «Гухьясамджа-тантре», а также другими короткими ритуальными текстами29. Считается, что с ним Дрокми продолжил изучение грамматики и эпистемологии, а также обучался поэзии (kavya) и письму (agama)30. Со стражем западных ворот Праджнякарагуптой Дрокми изучал небуддийские предметы, что, вероятно, подразумевает философскую систему ньяя-вайшешика. Страж северных ворот владыка Наротапа преподавал Дрокми литературу махаяны.
Сложно давать какую-то оценку этой явно показной учебной программе, хотя нельзя не отметить творческого похода ее создателей. Список ее тем, который приводит автор тринадцатого столетия Мартон, по большей части основан на высказываниях Дракпы Гьелцена, при этом в работах, не относящихся к сакьяпе, приводятся другие списки, в которых подчеркивется роль индийских наставников, не являющихся монахами Викрамашилы31. Гораздо более поздняя «Краткая красная книга» (Pusti dmar chung) содержит лаконичные высказывания нескольких известных личностей наряду с краткими упоминаниями некоторых исторических событиях. В этой работе утверждается, что когда Дрокми закончил свое обучение у Ратнакарашанти, он должен был возвращаться в Тибет. Однако, у него оставалось еще немного золота, которое он преподнес великому ученому, получив взамен «Практику, сочетающую сутру и тантру» (mDo rgyud bsre ba’i nyam len)32. Кроме того, Дрокми обучался у Наропы «Очищению от трех страданий» (sDug bsngal gsum sel); Вагишваракирти наставлял его в «Ясном сосредоточении на истинной природе сущего» (gNyug ma drang sal); Праджнякарагупта передал «Наставления по защите от препятствий со стороны внешних демонов» (Phyi rol gdon gyi bar chad bsrung ba’i man ngag); Джнянашримитра даровал «Указания по защите от препятствий, мешающих телу» (Lus ‘khrugs kyi bar chad bsrung ba’i man ngag); и, наконец, Ратнаваджра обучал его по «Наставлениям по защите ума от препятствий в процессее созерцания» (Ting nge ‘clzin sems kyi bar chad bsrung ba’i man ngag)33 (т.е. в общей сложности шесть практик и сопутствующих им текстов – прим. shus).
Указанное выше происхождение всех этих работ вполне обоснованно вызывает сомнение, поскольку маловероятно, что они являются индийскими текстами начала одиннадцатого столетия. Скорее, они ассоциируются с наставлениями, получившими распространение в Центральном Тибете в двенадцатом и тринадцатом веках. В подтверждение этого в одной из последующих глав при рассмотрении сочинений Сачена Кунга Ньингпо мы продемонстрируем более длинный список произведений данного жанра. Отдельно следует отметить, что эти шесть текстов и практик следует отличать от более достоверных восьми вспомогательных практик (lam skor phyi ma brgyad), рассматриваемых далее. Кроме того, повествования о происхождении этих шести наставлений противоречат другим свидетельствам, что может говорить о том, что они были созданы для поддержки указанных практик в двенадцатом и тринадцатом столетиях, возможно, по примеру кадампинских житий Атишы или других агиографических повествований того времени. К примеру, агиография Атишы подтверждает, что Наропа посещал Викрамашилу, однако, маловероятно, что он мог быть ученым монахом, проживавшим в официальной резиденции в период обучения Дрокми34. Нагцо-лоцава определенно встречался с Наропой около 1038/39 годов, но это были последние годы жизни Наропы, когда он уже был престарелым сиддхом. Кроме того, даже стандартные агиографии всегда ассоциируют Наропу не с Викрамашилой, а с Наландой. По-видимому, в умах более поздних тибетцев эти два совершенно разных учреждения окончательно перепутались, что подтверждается примечанием (mchan bu) к «Краткой красной книге», где все эти ученые приписаны к Наланде, а не к Викрамашиле35. Закономерный вопрос вызывает и тот факт, что в описанном выше тексте прославленный эпистемолог Праджнякарагупта почему-то преподает продвинутую демонологию. Наконец, во многих источниках сообщается, что по завершения обучения у Ратнакарашанти Дрокми не вернулся из Викрамашилы в Тибет, а отправился в Бенгалию для еще более важной встречи.
Согласно источникам, через несколько лет Дрокми разочаровался в учебной программе Викрамашилы и отправился в паломничество на юг Бенгалии в Кхасарпану – обитель Авалокитешвары, где, как считается, часто отдавали ему почести Вирупа и другие эзотерические деятели. По пути в глухом лесу он встретил монаха, который для того, чтобы получить подаяние, бил своим монашеским посохом по стволу дерева. Обитающий в дереве дух явился в виде двух бестелесных рук, украшенных драгоценными камнями, и положил пищу в его чашу для подаяния36. Дрокми тут же уверовал в чудотворные способности этого монаха, которого, как он узнал, звали Праджнендраручи. Праджнендраручи посвятил Дрокми в эзотерическую систему, якобы ведущую свое происхождение из сиддховской традиции Домбихеруки и Вирупы и включающую в себя священные писания, комментарии и практические руководства. Следует отметить, что некоторые источники чрезвычайно возвеличивают этого бенгальского ученого, при этом полностью игнорируя времена жизни Дрокми в Викрамашиле37.
Система Праджнендраручи в конечном счете получила известность как «бескорневое ламдре». Это название подчеркивает ее отличие от системы ламдре, которая изначально была передана посредством коренного текста от Вирупы. Однако, это бестекстовое ламдре парадоксальным образом связано с разнообразными текстами, в особенности с тантрами Хеваджры, а также их комментариями и толкованиями. По этой причине его также называют «экзегетический метод ламдре» (*vyakhyanaya: bshad lugs), причем традиция твердо стоит на том, что данная система была передана только Дрокми и самим Праджнендраручи38. Сакьяпинцы всегда придерживались мнения, что у Праджнендраручи было еще и тайное имя (gsang ba’i mtshan) – Вираваджра, поэтому считается, что множество работ, авторы которых носят эти два имени, следует приписывать одному и тому же человеку. Также некоторые источники полагают, что Праджендраручи был одним из тех индийских пандитов, с которыми Дрокми позже работал в Тибете.
Мы точно не знаем, как долго Дрокми пробыл в Индии. Одни источники называют цифру девять, другие – двенадцать или даже восемнадцать лет39. В принципе, любые из этих цифр можно обосновать, опираясь на объемы учебного материала таких высших учебных заведений, как Викрамашила. Но есть одно ограничение: по всей видимости, Дрокми обучался в Непале и Индии в общей сложности примерно десять лет. На самом деле, Дрокми был чрезвычайно успешен в своей работе. Однако нам неизвестно, сколько времени на самом деле он тратил на учебную тематику, учитывая то, что во время своей деятельности в Тибете он, похоже, не переводил и не преподавал такие произведения. Дракпа Гьелцен с большим удовольствием – как это порой умеют делать ученые – описывает невыразительные интеллектуальные успехи соотечественника Дрокми Тагло Жону Цултрима. Этот монах находился в Индии примерно столько же времени, сколько и Дрокми, но в результате лишь научился декламировать «Сутру сердца» в процессе обхода храма Махабодхи в Ваджрасане. Однако, Тагло утверждал, что он преисполнился верой у дерева пробуждения (mahdbodhivriksa) и поэтому уже не мог заниматься ничем другим. Такое поведение вызывало всеобщее неодобрение, т.к., по сути, он получил грант на образование от своего монашеского сообщества и соотечественников и поэтому был просто обязан повышать свой интеллектуальный уровень. Но многие тибетские историки частично оправдывают Тагло, поскольку он зарекомендовал себя как умелый монашеский наставник и в конечном счете добился широкого признание благодаря своей добродетели.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Может показаться, что наследие древней империи, сметенное потоком новых идей, текстов, линий передачи, храмов, систем буддийской медитации и философии, исчезало прямо на глазах ее новоявленных потомков. Однако, это является обманчивым впечатлением, поскольку не учитывает всей глубины его влияния и власти над коллективным тибетским сознанием. Ведь каждый древний храм, каждая гробница, каждый монолит и каждый старинный текст или ржавый артефакт по отдельности и совокупно представляли собой свидетельства зарождения, развития или апогея политической жизни Центрального Тибета. Те, кто оберегал и поддерживал эти места и их ритуальную жизнь, никогда не забывали о своей роли хранителей имперского наследия, управляя и распоряжаясь его богами и демонами, его божественностью и сакральными текстами, а также его космологией, которая помещала Тибет в центр вселенной.
Таким образом, когда открыватели терма «обнаруживали» тексты (составленные и верифицированные в их религиозных общинах), на самом деле они открывали миру большее, чем просто слово, поскольку эти писания становились путеводными знаками, указывающими направление, в котором, по их мнению, должна была развиваться жизнь буддистского сообщества. В этих воображаемых описаниях былого и грядущего открыватели терма помещали Тибет в сферу деятельности будд и бодхисатв, и таким образом он становился не пограничной страной, а центром мифологического буддистского мира. Их новые ритуалы, доктрины и нарративы не были цельным полотном, а являлись отдельными частями, из которых составлялось новое одеяние, одновременно обнажавшее и скрывавшее истинную реальность. Используя миф о тибетском происхождении, имперскую мифологию, очарованность Авалокитешварой и чувство утраты империи, эти искатели «сокровищ» воплощали в письменной форме устные предания десятого-двенадцатого столетий.
Сокрытие «личного сокровища императора» являлось одним из основных контекстов текстуализации личности самих императоров, которые таким образом оставляли пророчества и заветы в помощь будущим поколениям. Поэтому непрерывной процесс открытия священных писаний по своей сути был ничем иным, как главной составляющей исполнения императорской воли. Ведь помимо прочего, в этих произведениях излагались мифические указы императоров, включавшие в себя сюжеты общеизвестных росписей уцелевших имперских храмов. В конце концов, местами сокрытия имперского наследия, где продолжали обнаруживать все новые и новые «сокровища», стали не только колонны и статуи древних храмов, но также внутренние пространства пещер, гор, скал и даже самой сакральной структуры Тибета. Более того, процесс, который начинался с текстуализации личности Сонгцена Гампо, закончился тем, что духовная сущность императоров стала проецироваться на весь обширный ландшафт Тибета. Боги отдельных долин (yul lha), до сих пор обладавшие только локальным авторитетом и ограниченной властью, в конечном счете стали общими для всего тибетского народа, поэтому паломничество к местам обитания теперь уже буддистских божеств, населяющих эти территории, несло в себе такой же религиозный эффект, как и посещение знаменитых буддистских святынь прошлого.
Сила воздействия данных текстов была настолько велика, что они приобрели всенародное признание на равных правах с переводными индийскими писаниями. Таким образом, индийский по происхождению буддизм трансформировался в отличный от него по масштабу охвата, внутренней сущности и территориальной принадлежности тибетский буддизм. Убедительное использование тибетцами собственного языка, а также легкость их притязаний на идентичность всего тибетского, позволили терма стать не только одним из лучших направлений во всей известной нам литературе, но и предметом непрекращающихся внутренних сомнений самих тибетцев. Однако, при этом ни одна тибетская традиция не смогла проигнорировать проблемы, связанные с обнаружением текстов и вопросами отнесения находок к имперскому наследию, а также непрекращающиеся притязания кланов на контроль над общественной религиозной жизнью.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Одновременно с неизбежными изменениями в монастырской жизни происходило продвижение последовательницами Падампы своих собственных, довольно интересных направлений. При этом самая знаменитая ученица Падампы, как правило, не упоминается в составе традиции жиче, что, вероятно, является следствием особой значимости ее медитативной системы и персональной линии передачи. Эту женщину звали Мачик Лабдрон, и о ней уже достаточно много написано, поэтому здесь я просто кратко обобщу имеющиеся сведения44. Похоже, что она родилась где-то в районе Эюла, расположенного к востоку от Ярлунга, вероятно, в третьей четверти одиннадцатого столетия45. Хотя она была удостоена высокого и почетного звания «Мачик» (Единственная Мать), которым обычно награждаются зрелые женщины, происходящие из аристократических или религиозных кругов, мало что указывает на то, что она родилась в аристократической среде. Ее первым ламой был Драпа Нгонше, знаменитый наставник Восточной винаи, который позже отказался от своих обетов и основал ряд монастырей, связанных с практиками ньингмы. За время своего обучения Мачик Лабдрон научилась очень хорошо читать и стала профессиональным чтецом религиозных текстов, получая всеобщую поддержку за свои заслуги в исполнении ритуалов. Она продолжила обучение у различных наставников и в конце концов родила нескольких детей от одного из своих учителей, что является не такой уж и большой редкостью как в те времена, так и сейчас. Большинство источников указывают на то, что она начала обучаться у Падампы достаточно поздно, вероятно, после того, как он вернулся из Китая и поселился в Дингри в 1097 году. В конечном счете она перебралась в Зангри, который был расположен недалеко от места ее рождения в Лхо-кха и вверх по реке от монастыря Гампопы Дакла-Гампо.
Традиция сообщает о существовании двух линий передачи чо (этот термин означает «отсечение мира демонов»), но, похоже, что первоначально данная практика была разработана именно Мачик. Ее индийские корни весьма сомнительны, хотя и существует мнение, что ритуал мысленного подношения чьего-либо тело демонам в отдаленном или населенном духами месте основывается на короткой «Великой поэме о совершенстве прозрения», приписываемой Арьядеве и имеющей два перевода. Иногда эту практику ассоциируют с шаманизмом, однако, похоже, что главное влияние на ее основополагающую визуализацию оказал тибетский посмертный обряд подношения тела стервятникам и другим падальщикам, который в западной литературе иногда называют «небесным погребением»46. Помимо этого, данная практика опиралась на менталистскую демонологию, согласно которой четыре Мары являются полностью концептуальными по своей природе, т.е. она объединила в себе посмертный тибетский ритуал с буддийской оценкой его смысла. Если это действительно так, то нельзя исключать влияния на текстовый источник тибетских или подобных тибетским (зороастрийских?) ритуалов. Не вызывает сомнений, что практика чо подвергалась критике со стороны неоконсерваторов, и в качестве примера можно упомянуть Чагло Чодже-пела (1197–1264), который обвинил Падампу в фабрикации текстов для придания небуддийским доктринам чо вид буддийских47. Однако, кажется более вероятным, что реальная практика возникла из совместный обсуждений различных ритуалов Падампой и Мачик Лабдрон.
Мачик Лабдрон была не единственной женщиной, которой благоволил Падампа. Сестра Жама-лоцавы Жама Мачик также была одной из его учениц, однако ее успехи были не столь впечатляющими. Она, как и ее брат, родилась в местности под названием Шесть отцов (Пха Друг), расположенной в Лато-лхо недалеко от границы с Непалом, и входила в число 104 членов клана Жама, проживавших на этой территории48. В «Синей летописи» сообщается, что Жама-лоцава жил с 1069 по 1144 годы, а Жама Мачик – с 1062 по 114949. Когда девушке, которая впоследствии получила известность как Жама Мачик, было шестнадцать лет, ее выдали замуж за Дрома Рамчу Юне, по всей видимости, гималайского аристократа, заявлявшего о своем родстве с кланом Дром50. Брак оказался неудачным, и она ушла от мужа, став помощницей и сексуальной напарницей в ритуалах достаточного известного, но в целом второстепенного переводчика Ма Чобара. Однако вскоре после этого он скончался, а у нее начались различные осложнения психологического характера. Помимо этого, она столкнулась с серьезными гинекологическими проблемами. Судя по всему, у нее часто случались кровотечения, а однажды даже вышел сгусток крови размером с птичье яйцо. Эти явления интерпретировались ею и ее родственниками как проблемы с жизненными ветрами, в частности с истечением бодхичитты – термин, который может означать либо семенную жидкость (а в случае женщины – маточную кровь), либо мысль о пробуждении. Согласно нормам йоги процесса завершения такое истечение бодхичитты является серьезной помехой для медитирующих, не говоря уже о мучительных последствиях, с которыми сталкивается женщина, чья слизистая оболочка матки распадается с неконтролируемой скоростью.
Прослышав о безупречной репутации Падампы Сангье, Жама Мачик отправилась в Дингри, чтобы узнать его мнение о своих проблемах. Знаменитый наставник сообщил ей, что ее трудности возникли в результате того, что она не сделала подношения Ма Чобару во время своего вводного посвящения. Он посоветовал ей отремонтировать храм Ма Чобара, заказать в Непале навершие для его реликвария и сделать подношения его дочери. Она все это выполнила и получила облегчение, но только на год. Затем все ее проблемы вернулись, и теперь Падампа запретил ей перемещаться куда-либо в течение семи лет и предписал читать священные писания. Однажды Жама Мачик услышала, как священнослужитель из Нубюла поет песню, и к ней пришло осознание великой уверенности, благодаря которому она почувствовала себя намного лучше. В ответ на это Падампа дал ей барабан и велел отбивать ритм. Она последовала его указанию, но только произвела много шума без каких-либо результатов. Рассказ о ее разочаровании в Падампе может быть достоверным, а может быть и нет, поскольку мы видим значительное расхождение между описанием Падампы в «Синей летописи» пятнадцатого столетия и в источниках ламдре тринадцатого столетия. Хроники ламдре обычно изображают Падампу некомпетентным, саморекламирующимся индийским религиозным целителем, тогда как источники традиции чо представляют его непогрешимым вторым Буддой51.
Так или иначе, но в конце концов Жама Мачик прослышала о гуру ламдре Сетоне Кунрике и поспешила к нему в Кхарчунг. Согласно хроникам ламдре, Сетон выслушал ее рассказ и спросил, имела ли она те или иные переживания. Выслушав ее ответ, он подтвердил, что ее проблема заключалась в занятии медитацией без достаточного обучения. Он пошутил, что у нее было много медитативного опыта, но мало указаний как это делать, в то время как у него было много наставлений, но мало опыта. Он даровал ей новые посвящения и обучал ее некоторым из многочисленных техник ламдре для устранения физических дефектов посредством медитации, которые, судя по всему, принесли ей облегчение.
Впоследствии Жама Мачик совместно со своим братом разработала «метод Жамы» традиции ламдре. Можно только сожалеть, что в действительности мы мало что знаем о ней и ее брате, поскольку эта пара продолжает оставаться центральными фигурами как феномена Падампы (хотя после пятнадцатого столетия они почти полностью игнорируются приверженцами систем чо и жиче), так и создания наиболее жизнеспособной альтернативы кхоновской форме ламдре. На самом деле традиция Жамы нередко была более предпочтительным методом, и некоторые учителя кагьюпы изучали именно ее52. Даже Гало Жону-пел подчеркивал, что метод Жамы был наиболее популярной системой ламдре в конце пятнадцатого столетия. Однако, в источниках традиции связь между ламдре и братом и сестрой Жамами со временем превратилась в незначительное упоминание с полным принижением системы Жамы, а совсем недавно Жама Мачик заняла почетное место в пантеоне особых тибетских святых, ассоциируемых с объектами сакральной географии53.
Здесь было бы уместным еще раз вспомнить о том высоком положении, которого достигли Жама Мачик, Мачик Лабдрон, четыре ученицы-«дакини» Падампы, его же двадцать четыре последовательницы-монахини, а также четыре ученицы Дрокми, обретшие достижения. Все известные нам факты свидетельствуют о том, что эзотерический буддизм в Индии в значительной мере препятствовал религиозным устремлениям женщин. На фоне этого кажется довольно любопытным, что в одиннадцатом и начале двенадцатого столетий в Центральном Тибете, особенно в провинции Цанг, где все эти женщины либо жили, либо обучались, дела обстояли совсем иначе. Действительно, в течение этого ограниченного периода времени женщины играли весьма значительную роль, однако, к концу двенадцатого века с появлением сильной неоконсервативной позиции их все больше и больше стали замалчивать. Похоже, что конец одиннадцатого – начало двенадцатого столетий были периодом свободного религиозного климата, позволявшего тибетцам развиваться, опираясь на свои собственные возможности, и именно этим объясняется такое яркое представительство женщин в духовной жизни Тибета тех времен. Однако, когда Центральный Тибет стал все больше и больше привлекать внимание международного буддистского сообщества, постепенно превратившись в его глазах в образец совершенства буддийской практики и затмив в этом вопросе даже саму Индию, тибетцы начали перенимать некоторые из весьма прискорбных стандартов поведения, использовавшихся для подавления прав женщин в Индии.
То есть по мере того, как тибетцы становились все более ортодоксальными, они также становились все более «индийскими». Мы можем прочувствовать это на примере одной из историй из жизни Жамы Мачик. Когда трое индийских монахов прибыли к ней с просьбой о наставлении в Дхарме, то получили ответ, что она всего лишь варвар из приграничной страны, да к тому же еще и женщина, так что чему она может их научить? Она приняла от них дары, однако, не стала обучить Дхарме, а отправила их домой.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Сильным религиозным институтам жизненно необходима широкая народная поддержка, т.к. только она гарантирует постоянный приток последующих поколений верующих. Что касается Тибета, то у нас есть все основания полагать, что со второй половины одиннадцатого столетия здесь началось активное вовлечение элитарных буддистских структур в развитие и распространение народного буддизма. Большинство из обсуждавшихся нами ранее систем были сфокусированы на потребностях элитарной прослойки религиозного сообщества: монахах, наставниках медитации и тантрических переводчиках, которые выступали в роли привилегированного аристократического класса, обладающего исключительными политическими и экономическими привилегиями. Однако, для успешного распространения буддизма среди простых тибетцев (dmangs) необходимо было создать ритуальные системы и сопутствующие им повествования, которые могли бы распространяться среди большого количества людей, не обременяя значительными расходами каждого отдельного человека. Стратегии, разработанные в целях интеграции мирян в буддистскую деятельность, включали в себя продвижение доступных для простого народа методов обучения, развитие культов любящих буддистских божеств (в особенности Авалокитешвары и Тары), распространение в общедоступных местах художественных изображений, проповедующих эти идеалы, а также создание легко запоминающихся стихов, используемых в качестве текстов песен.
Многие из этих стратегий были впервые применены наставниками кадампы уже после кончины Атишы в 1054 году. Хотя монастыри, основанные его непосредственными учениками, добились определенных успехов, они не обладали таким авторитетом, как Самье и другие ньингмапинские древние храмы, или как новые центры переводов Мугулунг, Дрово-лунг, Танак-пу и многие другие, принадлежавшие отдельным линиям движения сарма. Мы мало что знаем о развитии Сангпу Неутока при его основателе Нгоке Лекпе Шерапе, однако, у Дромтона, мирского ученика Атиши, основавшего монастырь Ретренг в 1056/57 годах, в те времена было относительно небольшое количество учеников. В «Синей летописи» говорится, что Дромтон имел постоянное ядро из шестидесяти медитирующих, в то время как другие источники приписывают ему восемьдесят учеников10. Как мы уже знаем, у ряда других монастырей были достаточно напряженные отношения с монахами Восточной винаи, поэтому они не имели твердой позиции в части своей принадлежности к традиции кадампа. Это обстоятельство изменилось благодаря деятельности «трех братьев» (mched gsum), как называли трех монахов кадампы, которые создали новую идентичность монахов-махаянистов: вовлеченных в медитацию и распространяющих чистую Дхарму среди простых тибетцев.
Этими «тремя братьями» были Пучунгва Жону Гьелцен (1031–1109), Ченнга Цултрим-бар (1038–1103) и Потоба Ринчен-сел (1027–1105), и все они первоначально являлись учениками Дромтона в Ретренге. Именно в эти времена традиция кадампы действительно стала единым целым, и тибетские писатели единодушны в своем утверждении, что наименование «кадампа» или «джово кадампа» впервые было использовано в качестве характеристики учеников Дромтона11. Будучи выходцем из клана Зур, Пучунгва Жону Гьелцен был ординирован в Гьеле Лхакханге в качестве монаха линии Восточной винаи, к которой принадлежало большинство монахов кадампы12. Считается, что некоторое время он учился у Атиши в Ньетанге, а также провел семь плодотворных лет с Дромтоном в Ретренге. Несмотря на то, что Пучунгва был очень сведущ в священных писаниях «совершенства мудрости» и сопутствующей литературе, он решил специализироваться на медитативной практике махаяны.
Как и в случае с Дрокми и Марпой, линия передачи Атишы теоретически разделилась на тех, кто специализировался на медитации (sgrub brgyud) и тех, кто сосредоточился на экзегетических системах (bshad brgyud). Сам Пучунгва, хотя и обучался обоим направлениям, на самом деле являлся представителем первого и проводил свои дни в созерцании с относительно небольшим количеством учеников. Однако, его мистические способности и таинственность личности превратили его в мифического главного героя тайной литературы кадампы: «Книги кадампы» (bKa’ gdams glegs bam), созданной в двенадцатом и тринадцатом столетиях13.
Такой таинственностью биографии не мог похвастаться Потоба Ринчен-сел, который стал чем-то вроде публичной знаменитости Центрального Тибета14. Он являлся еще одним членом клана Ньо, посвятившим себя религиозной карьере, и был ординирован в монахи преемником Луме Нгоком Джангчубом Джунгне в Йерпе, где первоначально обучался у Нагцо, а затем встретил Атишу. Потоба Ринчен-сел решил продолжить свое образование у Кхутона Цондру (1011-75) и стал специализироваться на интеллектуальных темах (mtshan nyid). После смерти Атишы он отправился в Ретренг, где познакомился с двумя другими «братьями» и продолжал работать над текстами в течение семи лет.
С жизнью и деятельностью Потобы тесно связана судьба третьего «брата», Чен-нги, выходца из другого великого религиозного клана Ва/Ба, члены которого в имперские времена занимали главенствующее положение в буддистском сообществе15. В возрасте семнадцати лет Чен-нга принял монашеские обеты в храме Восточной винаи в Толунге, где и встретил Атишу, недолго проживавшего неподалеку. В результате этой встречи Чен-нга загорелся желанием посетить Бодхгаю и начал изучать санскрит, желая стать переводчиком. Однако его планы изменились после того, как в возрасте двадцати пяти лет он встретил Дромтона, т.к. основатель Ретренга призвал Чен-нгу отказаться от его намерений сделаться переводчиком, а вместо этого предложил стать его учеником. Как и Потоба, Чен-нга также провел семь лет с Дромтоном, служа ему в качестве монашеского адъютанта (отсюда его имя: sPyan-snga = помощник) и в основном изучая литературу, посвященную «этапам пути». Из-за своего участия в защите учений кадампы «трое братьев» считали себя реинкарнациями троих из шестнадцати великих архатов, твердо защищавших Дхарму Шакьямуни, однако, народная молва со временем превратила «трех братьев» в трех великих бодхисатв: Авалокитешвару, Манджушри и Ваджрапани.
После смерти Дромтона в 1064 году община Ретренга начала постепенно разрастаться благодаря усилиям следующего настоятеля Нелджорпы Ченпо (ум. 1076). Однако, «трое братьев» отправились в другие районы Тибета, таким образом начав свою жизнь странствующих миссионеров. В ответ на элитарный уклон большинства распространенных в те времена форм буддизма кадамповцы начали продвигать более эгалитарный идеал буддийского учения. В своей литературе они бережно хранили наставление, приписываемое Атише, согласно которому монахи «с этого дня не обращают внимания на имена, не обращают внимания на кланы, но с состраданием и любящей добротой всегда медитируют на мысли о пробуждении (bodhicitta)»16. Этот идеал был широко распространен в индийском буддизме и на словах признавался в Тибете одиннадцатого столетия, однако его реализация означала коренное изменение педагогического метода, поскольку в этом случае монахи должны были доносить буддийские идеи до всего населения. В конце концов, такие изменения было реализованы Чен-нгой и Потобой, которые разработали особый стиль преподавания, включая в свои презентации народные образы и короткие рассказы17. Кадампа объясняет это тем, что, в частности, Потоба внимательно слушал ученика Атишы Кхутона, читал священные писания, а также проявлял повышенное внимание к народным образам и выражениям, всегда ища лучшие способы донести до простых людей сущность буддийского послания18.
Черпая наглядные примеры из различных источников, Потоба насыщал свои лекции живыми образами, с поразительной ясностью подчеркивающими буддийские идеи19. Так, когда мать теряет сына, она все время думает о нем, во сне и наяву, и всегда говорит о своем умершем мальчике, и таким же образом нужно постоянно размышлять о тройственной драгоценности. Нужно идти по пути пробуждения, как странствующий купец, ибо что бы ни случилось, купец смотрит на все положительно: если идет снег, то это хорошо для копыт лошадей; если пойдет дождь, то не будет разбойников.
Несколько сотен собранных Потобой наглядных примеров, разъяснений и поучительных историй были распределены им по двадцати пяти рубрикам, в результате чего на свет появился текст «Обучение на примерах: изобилие драгоценных камней» (dPe chos rin chen spungs pa)20. Данный материал начинается с идеи прибежища, продолжается вопросами кармы, махаянского идеала и шести совершенств, а заканчивается передачей заслуг и подведением итогов. В эту работу также включено большинство стандартных тем вводного курса буддизма махаяны, что было очень удобно для проповедников учения, выступающих перед собраниями верующих. Следует отметить, что этот подход пользуется популярностью и в настоящее время, о чем свидетельствует тот факт, что, изучая данную книгу, я обнаружил, что уже слышал многие из этих примеров, поскольку они используются в современных лекциях. Более того, благодаря простонародной направленности этого учения, его комментарии полны ранних центрально-тибетских идиом и местных словечек, поэтому и они, и связанная с ними литература кадампы являются настоящим кладезем лингвистической и культурной информации, касающейся конца одиннадцатого и двенадцатого столетий. Благодаря умелой реализации всех этих инициатив популярность «трех братьев» все время возрастала, поэтому Потоба смог привлечь более двух тысяч учеников, а Чен-нга – несколько сотен21.
Вполне очевидно, что Потоба и Чен-нга не были первыми, кто использовал автохтонные тибетские образы и идеи, поскольку к тому времени они уже присутствовали в литературе терма. Однако, между представлениями терма, подчеркивающими имперское наследие и силу эзотерических заклинаний, и идеями, которые несли проповеди кадампы, существовали значительные различия, которые наиболее ярко проявились в развитии кадампой культов Авалокитешвары и Тары. Часто говорят, что выдвижение на первый план данных божеств является исключительной заслугой Атиши, но это верно лишь отчасти, хотя они действительно были значимыми элементами обширного пантеона божеств, привнесенного в Тибет этим бенгальским наставником. Однако, тибетцы и ранее уже проявляли предрасположенность к Авалокитешваре, поскольку первым в Самье был построен храм Арьяпало (сокращение от Арьявало[-китешвара]), посвященный этому бодхисатве сострадания.
Развиваю народную религию, проповедники кадампа, такие как вышеупомянутые «три брата», со временем превратили Авалокитешвару и Тару в религиозного прародителя/прародительницу тибетского народа. Поэтому, вполне вероятно, что возникновение мифов, согласно которым Сонгцен Гампо и его царственные супруги являются эманациями этих божеств, является следствием миссионерской деятельности кадампы, развернувшейся после кончины Атишы. Практики одиннадцатиголового Авалокитешвары, легендарные беседы Атишы с богиней Тарой, сложная ситуация с правопорядком в Тибете, а также особый акцент на данных бодхисатв, привнесенный другими индийскими наставниками, действовавшими в конце одиннадцатого столетия, – все это помогло создать по сути собственные культы этих двух божеств, спасающих своих почитателей от восьми великих опасностей22. Со временем это движение породило такие мифические и медитативные практики, как кадампинское «учение о шестнадцати сферах» (thig le bcu drug gi bstan pa), а также сделало популярной ориентированную на мирян и опирающуюся на почитание Аваликитешвары практику голодания (smyung gnas), распространение которой всегда ассоциировалось с монахами кадампы23.
Илл. 16. Вход в Джоканг в Лхасе. Фотография автора (здесь отсутствует, т.к. очень неразборчива)
На волне подъема народной религиозности неимоверно возросла значимость находящегося в Лхасе храма Джокханг (Илл. 16). В отличие от таких крупных монастырей, как Самье, Джокханг не был буддистской структурой двойного назначения, поскольку с самого начала выступал в роли места общения тибетского народа с буддистскими божествами. Довольно интересным является тот факт, что Джокханг не был включен монахами Восточной винаи в число мест, подлежащих ремонту и восстановлению. Касаясь этого вопроса, Бутон сообщает, что они вообще избегали Лхасы, поскольку это было местом наказания, что является довольно загадочным объяснением24. Согласно агиографии Атишы, во время своего путешествия по Центральному Тибету (где-то в 1047–1048 гг.) бенгальский наставник осматривал в этом храме знаменитые статуи Джово и делал им изысканные подношения, а пригласил его туда Нгок Легпе Шерап25. Возможно, что так оно и было, однако, достаточно сложно понять, что являлось реальной деятельностью Атиши, а что относится к легендарным ассоциациям его личности с этим священным сооружением, поскольку в традиции считается, что именно он обнаружил в Джокханге «текст-сокровище» «Колонный завет». Согласно источникам, Атиша выполнил четыре достаточно известных перевода, работая совместно с Нгацо в некоем «лхасском храме». Однако, такой объем работы позволяет предположить, что она могла быть выполнена только в его лхасской резиденции «Радостное излияние света» (dga ba od phro), которая, вполне очевидно, располагалась никак не в Джокханге26.
Это детальное описание визита Атишы представляется несколько сомнительным, поскольку доподлинно известно, что Джокханг впервые был отреставрирован уже во времена возрождения кадампинским ученым Зангскар-лоцавой, и произошло это, вероятно, где-то в 1070-х годах. В ««Празднестве учености»» (mKhas pa’i dga ston) упоминается о полуразрушенном состоянии этого храма: «После народных восстаний ни в одном из двух храмов Лхасы (Рамоче и Джокханге) не совершались подношений, при этом они превратились в обитель нищих. В каждом приделе из печей валил дым, и за долгое время стены покрылись копотью»27. Все статуи также были в полном беспорядке, и Зангскар-лоцава вместе с местным функционером Долчунгом Корпоном прогнали этих нищих, чтобы можно было без помех заменить статуи, построить новые стены, и снова превратить это здание в действующий храм28. Фактически, «Колонный завет» сообщает нам о том, что после долгого периода религиозной деградации появилась новая буддистская община, поддерживающая восстановленный храм29. Кроме того, в «Колонном завете» особо подчеркивается, что росписи западной стены, наряду с росписями других храмов имперского периода, таких как, например, Трандрук в долине Ярлунг, повествуют людям о том, как первый тибетский император Сонгцен Гампо стал воплощением Авалокитешвары30.
Кадампинские материалы более поздних столетий свидетельствуют о том, что Атиша видел в Самье чудодейственные свитки (thang ka) с изображением Будды и Тары, и мы знаем, что такие свитки были неотъемлемой частью религиозных систем, выстроенных вокруг Зеленой Тары. А один из подобных свитков с изображением Аштамахабхая Тары, чудом сохранившийся с двенадцатого столетия, в настоящее время хранится в монастыре Ретренг. Следует отметить, что подобные рисунки создавались не только с целью демонстрации верующим религиозного образа зеленой богини, но и в качестве средства продвижения ее культов31. В тантрическом буддистском искусстве гораздо большее внимание уделяется живописи, нежели скульптуре, которой в тантрах порой принципиально пренебрегают. Эта сформировавшаяся в Индии предрасположенность получила свое дальнейшее развитие в Тибете, выразившись в создании самых разнообразных изображений (rgyud ris), нацеленных на распространение священного слова. Кроме того, одним из самых значимых образов Ретренга являлось бронзовое изображение Белой Тары, которое именовалось «Тарой победившей войско» (g.yul rgyal sgrol ma) и описывалось как одна из двух личных статуй Атишы. Другим знаменитым образом этого же монастыря было изображение Манджуваджры32. Считается, что данная статуя Тары защитила Индию от армии тюрок, некогда беседовала с Дромтоном и выжила во время пожара (почерпнуто из агиографии прославленной статуи). Все эти картины и статуи, наряду со священными реликвиями и реликвариями таких великих святых праведников как Атиша, давали возможность мирянам самостоятельно участвовать в религиозной жизни, без какого-либо привлечения элиты.
Помимо действий кадампы по развитию и распространению народного буддизма, свои усилия в этом направлении предпринимали и кагьюпинские последователи Марпы, у которых главным средством популяризации своей традиции были духовные сиддховские песни. Устная литература такого рода была важной частью индийского буддизма, и теперь она дополнила повествовательную литературу (sgrung) тибетцев, которая была важным аспектом «религии людей» (mi chos) с самого раннего периода. Ньингма также уделяла особое внимание созданию религиозных историй с участием великих святых праведников имперских времен, а вот поэзия и вокал были весьма слабо представлены в тибетском буддизме до тех пор, пока наставники кагьюпы (такие как Мила Репа и пр.) не начали использовать в процессе обучения своих последователей песенный и поэтический материал. Несмотря на то, что в литературе эти люди изображаются как абсолютные отшельники, они были столь же отшельниками, сколь и публичными личностями, поскольку обеспечивали себя пищей благодаря щедрости мирян, собирая подаяние среди толп людей на рынках, в местах паломничества или у местных храмов. Их поэзия основывалась на песнях пробуждения индийских сиддхов, написанных в жанре «доха» и дополненных тибетскими поэтическими формами и народными мелодиями. Со временем эти стихи стали такими же доступными для широких слоев населения Тибета, как и строфы их предшественников в Индии.
Мила Репа, считающийся одним из четырех великих учеников Марпы, принадлежал к одной из ветвей могущественного клана Кхьюнг, а его родители были богатыми и влиятельными людьми в районе Гунгтанг-ца, где он и родился, вероятно, в 1040 году. С самого детства он был наделен природным даром к пению, и родители назвали его «Усладой слуха» (Thos-pa-dga’). Но жизнь его семьи была омрачена двойной трагедией: во-первых, смертью его отца, вероятно, во время эпидемии, а во-вторых, их обнищанием в результате того, что их богатство было разворовано близкими родственниками и друзьями. Вследствие этого его мать, принадлежавшая к клану Ньянг, озлобилась на весь мир и отправила своего сына на обучение к некоему учителю магии (mthu) Юнгтону Тро-гьелу, где Мила Репа изучал магию у другого наставника по имени Нупчунг34. После более чем года практики Мила использовал приобретенные им навыки в черной магии, уничтожив своих противников и побив их посевы градом. Затем Мила Репа раскаялся в своих неблаговидных деяниях и отправился изучать Великое совершенство вместе с неким Ронгтоном Лхагахом. Но поскольку данная практика не принесла ему никакой пользы, его учитель Великого совершенства отправил его на покаяние к Наставнику Марпе, от которого ему пришлось испытать многочисленные страдания.
Благодаря ранним переводам на английский язык агиографии Милы Репы, написанной Цанг-ньоном, нам известно о множестве тяжких испытаний, выпавших на долю этого знаменитого йогина. В Тибете данные истории пользуются особой популярностью и являются важным аспектом повествований о жизни и деятельности Милы Репы. Следует отметить, что в литературе кагьюпы одним из главных художественных приемов является драматическое повествование о поисках учения. Эти искания играют важнейшую роль в агиографии Наропы, а описание путешествия Марпы в Пхуллахари было даже переработано в более поздние времена, чтобы соответствовать сюжетным приемам из жизнеописания Наропы, включавшим в себя последовательные встречи с различными загадочными проводниками, после каждой из которых он оправлялся на новые поиски, пока в конце концов не обрел подлинного наставника35. Тем не менее, мало кто сомневается в том, что Марпа был чрезвычайно требовательным наставником, и что учеба Милы Репы, безусловно, проходило в очень тяжелых условиях. После нескольких лет обучения йогическим практикам кагьюпы, когда ему уже было за сорок, он, наконец, отправился на поиски своей семьи и, обнаружив дома полную разруху, начал практиковать йогу внутреннего тепла в высокогорных пещерах. Вместе со своими учениками Мила Репа много путешествовал по различным паломническим местам, в особенности к великим горам: Кайласе, Бонри, Цари и пр., и своим личным примером фактически создал архетип йогина в белом хлопчатобумажном одеянии.
Литературное наследие Милы Репы столь же примечательно, поскольку именно он положил начало буддистскому поэтическому творчеству, активно использующему местные фольклорные формы. Благодаря его усилиям это направление не только получило самое широкое распространение, но и стало одним из самых почитаемых жанров тибетской литературы. Однако, нам неизвестно ни одного его надежно атрибутируемого произведения, и поэтому мы не можем быть уверены, что обширные сборники песен, приписываемых Миле Репе, действительно принадлежат перу этого святого подвижника в хлопчатобумажном одеянии. При этом создается впечатление, что его публичный литературный образ стал чем-то вроде средства, с помощью которого различные авторы могли выражать свои переживания и ощущения, которые они, возможно, не хотели бы представлять под собственными именами. Уже по прошествии времен Милы Репы сборники «ста тысяч песен» (mgur ‘bum) стали стандартным жанром в литературном пантеоне кагьюпы. При этом многие из них содержат одни из лучших среди написанных этим языком литературных произведений, пробуждающих ощущение страдания и всеобщей неустойчивости, что практически отсутствуют в репертуаре большинства святых праведников36.
Например, самый пафосный момент в истории Милы Репы наступает когда сорокалетний йогин возвращается в свой дом, лежащий в руинах. Половина дома обрушилась, поля заросли сорняками, а у порога дома, в котором теперь обитают духи, он обнаруживает выбеленные непогодой и разбросанные там и сям кости своей матери. Он узнает, что его сестра скитается нищей вдали от родного дома, а жители деревни до сих пор в ужасе от злых чар, которые Мила Репа наслал на своих обидчиков, чтобы удовлетворить жажду мести своей матери. В сборнике третьего Кармапы излагается его вариант описания переживаний Милы Репы, ставших причиной его отречения:
«Этот дом, четыре столба и шесть балок,
В эти дни [ничего не стоит] подобно верхней челюсти снежного льва.
Башня, четыре угла, восемь сторон, с венчающей башенкой в качестве девятой,
В эти дни он [плоский и обвисший] подобно уху осла.
Трехсторонний участок поймы под названием Вар-мо
В эти дни является родиной сорняков.
Близкие родственники, от которых любой ждет только помощи,
В эти дни представляют собой армию врагов.
Это также наглядный пример непостоянства и иллюзии;
С использованием этого образа я создам йогическую Дхарму»37.
Это лишь только часть более длинной песни, и характер сохранившихся стихов в сочетании с аллюзиями на материалы других более ранних сборников указывает нам на то, что эти эпизоды стали одной из важнейших составляющих репертуара бродячих бардов и духовных лиц низкого ранга, т.е. той категории исполнителей, кто был деревенскими рассказчиками задолго до появления буддизма. Успех высокой литературы и элитарных йогических систем кадампы и кагьюпы способствовал бурной активизации сочинителей народных сказаний, и вскоре заимствование ими буддистских сюжетов стало не только дозволенным, но и желательным. Ведя странствующий образ жизни и обладая обширной аудиторией всегда готовой внимать их творчеству, эти неграмотные поэты Тибетского нагорья с шаманскими замашками добавляли к своему личному пантеону духов великих правителей, магических существ, буддистских йогинов и литераторов, создавая таким образом новые увлекательные истории для толп своих благодарных слушателей.
Возрождение народной религии, начавшееся в У-Цанге в конце одиннадцатого столетия, стало следствием решений, принятых в ущерб элитарным религиозным системам, причем как тем, что поддерживали эзотерическую идеологию, так и тем, что контролировались отдельными кланами, при том, что большая часть тибетских религиозных структур тех времен относилась одновременно и к тем, и к другим. Успехи проповедников кадампы и поэтов кагьюпы ниспровергли имперский нарратив и преклонение перед историями происхождения кланов, сделав религию доступной для простых тибетских кочевников, крестьян-земледельцев и богатых городских торговцев. Этот процесс, эгалитарный по своей изначальной сути, позволял верующим напрямую общаться с Авалокитешварой и Тарой, а также со святыми и божествами зарождающейся тибетской религии. Однако было бы ошибкой предполагать, что это было сделано исключительно в противовес элитарным формам сармы или ньингмы, поскольку почти все эти проявления народной религиозности очень легко и без посторонней помощи переплетались с творчеством поэтов-бардов, распространявших эпические повествования об имперских временах и представлявших в поэтической форме другие аспекты исконно тибетской духовности. В конце концов народная религиозность переросла в еще одну разновидность терма, представленную в том числе и «Колонным заветом», где Тибет рассматривался как поле деятельности Будды, духовные деяния которого ранее проявлявшиеся только в Индии и по отношению к индийцам, теперь была перенаправлена в Тибет и на тибетцев.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Прежде чем перейти к основным выводам по результатам рассмотрения агиографий Наропы, для сравнения мы обратимся к агиографии сиддхи Вирупы, так как оба этих материала хотя и имеют много общего, в тоже время несут в себе немало интригующих отличий. Традиция в целом единодушна в отношении датировки периода жизнедеятельности Наропы, но что касается Вирупы, то этот вопрос в Тибете был предметом широко обсуждения. В пятнадцатом столетии один из ученых-сакьяпинцев Нгорчен Кунга Зангпо (1382-1456) пришел к выводу, что Вирупа тождественен настоятелю великого монастыря Наланда Дхармапале, который был важным персонажем в системе «учения о сознании» (vijnanavada) махаянской схоластики26. Взяв за основу эту идею, Нгорчен следом окунулся в фантастический мир тибетских списков линий передачи и древней тибетской хронологии мифических правителей и божественных нисхождений, в результате чего пришел к выводу, что Вирупа жил примерно через 1020 лет после нирваны Будды27. Если предположить, что Нгорчен использовал хронологию жизни Будды, автором которой был Сакья Пандиты и в соответствии с которой нирвана основателя приходится на 2134 г. до н. э., то получается, что Вирупа жил где-то в 1114 г. до н. э. или около того, т.е. на несколько столетий раньше большинства древних индийских и современных оценок даты фактического рождения Будды Шакьямуни28. Далее мы увидим, что великая древность является одной из самых значимых ценностей тибетской религии, а встраивание ее в жития святых подвижников стало важнейшим инструментом утверждения их святости и авторитетности.
История Вирупы выглядит особенно резонансной, поскольку считается, что он покинул монастырь, находясь под подозрением в нарушении монашеских обетов, хотя к этому времени уже достиг высшего уровня освобождения. Он путешествовал по Индии, часто вступая в споры с тиртхиками – термин, который может обозначать шиваитских или шактистских йогинов, а также брахманов или других людей, не принадлежащих к буддизму. Повествование о Вирупе выстроено с учетом почти всех формативных факторов биографий сиддхов, и в связи с этим представляет собой парадигматический пример того, как агиографическая литература сиддхов сочетает в себе индийскую религиозность, тибетскую очарованность, художественные модели, курьезный консерватизм, множество сюжетных переплетений, а также особую притягательность стихотворного повествования от первого лица, излагаемого в форме дохи на языке апабхрамша. Используя приемы «Buddhist Pilgrim’s Progress»* агиография Вирупы проводит читателя через мифические места и ритуальные сражения, и все это делается с юмористическим наслоением друг на друга священного и абсурдного.
——————————————————————
*Англоязычный перевод/пересказ знаменитого романа У Чэнъэня (Wu Cheng’en) «Путешествие на Запад» – прим. shus.
——————————————————————
Следует отметь, что мы располагаем очень малым количеством надежной информации, касающейся индийских описаний жизни и деятельности Вирупы. Тибетские же тексты, посвященные Вирупе, напротив, имеют гораздо более прочную основу, поскольку Вирупа был в центре особого внимания у школы сакьяпа, подобно Наропе, являвшимся объектом почитания школы кагьюпа. Соответственно, самые ранние из сохранившихся тибетских обсуждений жизни Вирупы встречаются в трудах Сачена Кунги Ньингпо (1092–1158), первого из великих лам школы сакьяпа тибетского буддизма. Имея вид хвалебной песни Вирупе, произведение Сачена производит впечатление страстной просьбы о помощи в реализации и мольбы к учителю издалека (bla ma rgyang ‘bod), являвшейся устойчивым жанром тибетской литературы. Более того, поскольку этот гимн стал столь же значимым для собственной агиографии Сачена, как и для агиографии Вирупы, он достоин полного перевода:
Панегирик прославленному Вирупе29
|
Почтение Вирупе!
А-ла-ла! Владыка Вирупа
Из спонтанного и непроявленного30,
[Быть связанным] таким способом с блеском и свечением
Вашей благоприятности значит находиться вне концептуализации.
Э-ма-хо! Вы стали несущим благо для меня!
|
|
Ваше великолепие устранило [во мне] все концептуализации,
Итак, развив внутренний ветер трех дверей [тела,
речи и ума] в четыре восторженных состояния [стадии завершения],
И превратив свою беспокойную карму в блаженство и пустоту,
Очищенный таким образом, чтобы немного напомнить о Вашей жизнь, я отдам ей дань уважения!
|
|
Ваше благоприятность – это сочетание пользы для себя и других,
Что есть высшее счастье и польза для себя и других.
Обучив счастливого ученика посредством знания и любви
Наивысшему пути, Вы отправляете его в нирвану.
Я преклоняюсь перед деяниями благороднейшего непоколебимого.
|
|
Рожденный в этом мире в касте кшатриев (воинов),
Он отказался от нее и завершил изучение пяти областей знаний.
На него опирались, поскольку он преподавал Сангхе учебную программу разных уровней.
Я преклоняюсь перед прославленным Стхавирой Дхармапалой.
|
|
Будучи Вагисой [владыкой речи], он был непобедим в дебатах
О текстах Махаяны, целью которых являются три обучения.
Преклоняюсь перед вторым всеведущим, древом жизни учения,
Непререкаемым на всей поверхности земли.
|
|
Насытив всех собравшихся нектаром различных колесниц Дхармы,
Как наступление дня насыщает все множество живых существ росою,
Ночью он достиг освобождения благодаря выполнению тайной практики.
Почтение ему, находящемуся на шестой ступени бодхисатвы, избранному самой Найратмьей!
|
|
Чтобы вести живые существа через практику аскетического обета (vratacarya)
посредством этой низшей деятельности, он покинул священные пределы Сангхи.
И направился в город, странствуя по всему свету31.
Я преклоняюсь перед ним, известным всем как Бирва.
|
|
Он повернул Ганг вспять и смирил заблуждающегося царя.
Захватив солнце, он выпил вино во всей округе.
В нетрезвом виде он сломал лингам и укротил Чандику.
Я преклоняюсь перед ним, прославленным в качестве владыки магов.
|
|
Таким же образом, в качестве завершения своей демонстрации безграничной силы,
Он приручил Карттику в Саураштре.
Я преклоняюсь перед деяниями недвойственного великого блаженства,
Которое охватывает сферу пространства посредством ненаправленного сострадания.
|
|
Он сформулировал глубинный путь посредством четырех аудиальных потоков,
Который представляет собой метод быстрого постижения этой истинной реальности
Самого чистого блаженства и пустоты во всех элементах существования.
Я преклоняюсь перед тем, кто доводит до зрелости и освобождает счастливых учеников32.
|
|
Э-ма! Владыка, я молю, чтобы Вы завладели мною зримо
Снова и снова таким же образом,
Поскольку я не достиг стадии освобождения,
Сферы абсолютного совершенства!
|
|
Если Вы только увеличиваете этот поток нектара,
Поток тех [йогических практик], возникших посредством
Силы Вашего сострадания –
Я молю, чтобы Вы довели это дело до завершения!
|
|
И даже тех, кто учится, как Вы,
Я молю, чтобы они приносили пользу своему учению,
Чтобы они никогда не отрешались от двух тантрических процессов,
И чтобы у них никогда не возникало препятствий на этом пути!
|
|
Внутренний ветер всецело чистых трех дверей
Развивается далее посредством следующих за ним четырех восторгов.
Растворив ветры в четырех сущностных движениях33,
Да обретется посвящение Ваджрадхары!
|
|
А это заветное место,
Напитавшее землю (Sa) и небо славой,
Бледное (kya), как водяная лилия, раскрывающаяся в полнолуние,
Пусть оно несет всем благо добродетели!34
|
Хотя это и не совсем понятно из данного панегирика, другие агиографии Вирупы указывают на то, что как великий Пандита Дхармапала он являлся знающим ученым, но при этом у него была мучившая его тайна: он терпел неудачу в своей ваджраянской практике рецитации мантры Чакрасамвары. Предавшись отчаянию, Дхармапала бросил свои четки в монастырское отхожее место, поклявшись больше не медитировать. Той же ночью сама Найратмья пришла ему на помощь, представ перед ним и посвящая его шесть ночей подряд, чтобы он смог достичь шестого уровня пути бодхисатвы (ahhimukhi bhumi: лицом к лицу).
Сакьяпинцы, для которых Вирупа является извечным Буддой, утверждают, что Найратмья даровал новому сиддхе в общей сложности четыре реализации и текст. В агиографии Дракпы Гьялцена (1148–1216 гг.) сформулированы следующие определяющие моменты:35
[Четыре аудиальных потока]:36 а) Таким образом, поскольку эманированное тело [Найратмья] полностью даровало ему четыре посвящения, он испытал «неослабление реки посвящения». б) Поскольку в нем возникло осознание уровней бодхисатвы с первого по шестой, он испытал «неразрывность потока благословения». в) Прежде у него не возникало уверенности ни в ощущениях, ни в признаках успеха, ни в обретении совершенства. Более того, с тех пор, как появились неблагоприятные признаки, он впал в депрессию. Затем он подумал: «Раньше, не будучи украшенным провозглашением праведности, я не распознавал (эти негативные проявления) как признаки «жара» сосредоточения, но теперь, поскольку я правильно понял это, я достиг «необратимости воздействия наставления»37. г) Наконец, когда он обрел безукоризненную уверенность в том, что на тот момент его реализация и реализация полностью совершенного Будды являлись полностью идентичными, он достиг «способности удовлетворять все запросы, связанные с учением».
Найратмья также даровал Дхармапале/Вирупе малоизвестный йогический текст системы *марга-пхала, обсуждаемый в главах 5 и 8 и переведенный в Приложении 2. Система получила свое название «*марга-пхала» (тиб. lamdre) благодаря этой работе, поскольку в ней обсуждается взаимосвязь между путем (lam) и его плодами (‘bras bu). Этот сложный текст должен был стать центральным элементом духовности сакьяпы и ее претензий на превосходство над всеми другими традициями.
После этого Дхармапала в лучших манерах сиддхов обращается к женщинам и вину, поэтому его просят покинуть монастырь и обвиняют в «духовном уродстве» (virupa), в честь которого он берет себе новое имя, и по этой причине я перевожу его как г-н Уродливый. Остальная часть агиографии описывает чудеса, совершаемые Вирупой, в том числе обращение небуддистов (tirthikas), сокрушение их образов и прекращение их кровавых ритуалов. В конце концов, агрессивная борьба Вирупы с тиртхиками была прекращена благодаря вмешательству Кхасарпаны Авалокитешвары (Khasarpana Avalokitesvara) – божества, обитающего в популярном месте буддийского паломничества в южной Бенгалии. Источники уверяют нас, что Вирупа в конце концов слился со каменной стеной в шиваитском святилище Соманатха в Гуджарате, превратившись в вечноживую статую, которую можно увидеть там и сегодня38.
Несмотря на утверждения традиции, у нас нет особых оснований полагать, что Вирупа был великим ученым до посетившего его вдохновения, а приписываемые ему сохранившиеся произведения указывают на то, что этого сиддху интересовали многие из тех же вопросов, что и других сиддхов, исполнявших свои песни на апабхрамше: зло небуддийских практик, значимость гуру, факт того, что реализация достигается вне рамок обучения, и т.п. Если Вирупа из агиографий Сакьяпы действительно был реальной личностью – а у нас нет оснований полагать иначе, – то можно предположить, что он жил где-то в последней четверти десятого столетия, скорее всего, не позже и уж точно не намного раньше. Эта оценка основана на достаточно надежной ассоциации агиографий Вирупы с двумя шиваитскими храмовыми комплексами, существовавшими на своей начальной стадии в течении относительно короткого времени: Соманатхой и Бхимешварой (последний был расположен в устье реки Годавари). Бхимешвара, по всей видимости, была построен либо Чалукьей Бхимой I (правл. 892-921), либо Данарнавой (правл. 971-73), тогда как Соманатха был возведен Мулараджей I в период примерно с 960 по 973 годы и осквернен или разрушен Махмудом Газневи в 1026 году (позже он был восстановлен). Если предположить, что некий Вирупа отправился в эти места и разработал систему, попавшую в Тибет во второй четверти одиннадцатого века, то, вероятнее всего, он был персонажем второй половины десятого столетия, причем, скорее всего, его последней четверти (975-1000).
Вирупа был бы несостоявшимся монахом, вероятно, не слишком образованным и склонным к тому, чтобы шляться по округе с бродячими бардами, для которых сочинение песен на апабхрамше было нормой жизни. На самом деле, сакьяпинцы сохранили искаженные версии агиографических высказываний на апабхрамше именно о Бирве. А он взял себе это уничижительное имя Вируа/Бирва (Virua/Birwa, пракритические формы имени Вирупа) как знак неустрашимости, хотя и был ни в коем разе не первым и, вероятно, не последним, кого так называли, ведь даже некоторые более поздние авторы сакьяпы утверждали, что Вирупа появлялся трижды39. Знаток *марга-пхалы Кхьенце Вангчук (1524-68) отмечал, что, должно быть, существовал более ранний Вирупа, который был учителем женщины-сиддхи Сукхасиддхи, причем это его утверждение основывается на других агиографиях, сообщающих о данных отношениях40.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Таким образом, следует понимать, что первоначально влияние западно-тибетского буддизма на У-Цанг в одиннадцатом столетии было достаточно скромным. Внимание учеников Ринчена Зангпо было практически полностью сосредоточено на Гуге-Пуранге, а монахи кадампы хотя и учредили в Центральном Тибете несколько значимых монастырей, но в основном только в тех районах, где еще не доминировали общины Восточной винаи. 246 монастырских структур, перечисленных в Приложении I, наглядно свидетельствуют об этом различии, возникшем вследствие того, что более чем за полвека до приглашения Атишы в Тибет монахи Восточной винаи уже прочно внедрились в социальную структуру У-Цанга. При этом каждое из их учреждений опиралось на сложную систему межинституциональных взаимоотношений, основанных на преданности своей линии, кровном родстве, религиозном авторитете и зависимости от источников материального обеспечения. Таким образом, несмотря на всю свою заинтересованность в распространении Дхармы в Центральном Тибете, в середине одиннадцатого столетия правители Гуге-Пуранга не имели существенного влияния на процесс возрождения буддизма в У-Цанге.
В более поздней тибетской и дополняющей ее западной литературе огромное значение придается взаимоотношениям с кадампой и религиозному авторитету таких правителей, как Лха-лама и Джангчуб-О. В чем же причины такого чрезмерного внимания? Я полагаю, что их как минимум три: возвеличивание тибетцами линии Осунга с последующей исторической амнезией в отношении деятельности потомков Юмтэна; особая значимость кадампы или ее доктрин и систем обучения в конце одиннадцатого столетия и последующие годы; и, наконец, поражающее воображение переписывание истории после основания Цонгкхапой в 1409 году линии передачи «новая кадампа».
Ранние исторические записи указывают на то, что тибетское возрождение произошло благодаря непосредственной деятельности и последующему покровительству трех членов разрозненного имперского дома: Лха-ламы Еше-О в Пуранге, Триде Гонцена в Уру и Цаланы Еше Гьелцена в области вокруг Самье112. Как видно из таблиц преемственности, двое из них принадлежали к наследственной линии Юмтена, и только Лха-лама Еше-О представлял линию Осунга. Тем не менее, тибетская литература изображает потомков Юмтена в качестве людей, по сути, не проявлявших особого интереса к новым формам буддистской религии. Как отмечал Сонам Цемо, «даже при том, что в этих «четырех рогах» Центрального Тибета [позднее распространение Дхармы] было вызвано не приказом какого-то правителя, защищающего Дхарму, а силой предшествующих молитв… Учение распространялось и развивалось»113. Хотя Луме и его ученикам был предоставлен доступ к имперским династическим местам, многие писатели указывают на то, что это было сделано с молчаливого согласия правителя, а не при реальном его участии. Согласно их же описаниям, Лха-лама и его потомки, напротив, были не только активными покровителями ортодоксальных монашеских наставников, но многие из них также сами стали монахами, получив посвящение и облачившись в монашеские одежды. Кроме того, они издали несколько указов, подтверждавших их заинтересованность в подавлении неортодоксальных практик, а также способствовал появлению образцовых монахов, знатоков литературы Винаи и сутр махаяны.
В противовес этим общепринятым представлениям, Петеч (Petech) показал, что Цалана Еше Гьелцен активно участвовал в переводческой деятельности и, по всей видимости, в более позднем возрасте стал монахом, поскольку по крайней мере один из колофонов к его переводам подтверждает, что он был лха-цуном, царственным монахом (здесь та же форма титулатуры, что и у лха-ламы Еше-O)114. Шестнадцать переводов, над которыми он работал, включают в себя одну из комментаторских тантр Гухьясамаджи, «Ваджрахридаяланкара-тантру», а также многие из наиболее важных работ, относящихся к системе практики Гухьясамаджи Джнянапады, в том числе и коренные работы самого Буддхаджнянапады115. Поскольку большинство из них было переведено совместно с Камалагухьягуптой, который работал с Ринченом Зангпо где-то после 996 г., то не вызывает сомнений, что эти переводы были завершены в первой четверти одиннадцатого столетия, причем в самом Тибете, т.к. ничто не указывает на то, что царственный монах когда-либо посещал Индию116.
Несмотря на это, тибетские историки неизменно игнорируют очевидные исторические факты, и даже в работах, посвященных истории Гухьясамаджи, таких как великая хроника Аме-шепа 1634 года, первенство в распространении на Тибете школы Джнянапада приписывается Ньен-лоцаве Дарма-драку, а Ринчен Зангпо, Смрити Джнянакирти и Ньо-лоцава Йонтен-драк в ней лишь иногда упоминаются117. Это странность усугубляется тем фактом, что поскольку на переводы Цаланы Еше Гьелцена повлияла терминология ньингмы, то они являются одними из немногих работ, где термин «великое совершенство» (rdzogs chen) встречается в писаниях, широко признанных каноническими118. Но даже когда апологеты ньингмы защищают этот термин, ссылаясь при этом на данные тексты, они избегают упоминать в обсуждениях Цалану Еше Гьелцена и всячески утаивают его заслуги. Это согласуется с более широким процессом попыток корректировки политических генеалогий с целью дезавуировать наследственную линию Юмтена. Хазод (Hazod) отмечает следующее: «В среде правящих династий иногда отрицался сам факт происхождения от Юмтена (Yum-brtan) и заменялся искусственно сконструированной генеалогией Осунгов (‘Od-srungs)»119. Считалось, что линия Юмтена имеет «нечистое происхождение» (rigs ma dag pa), поэтому легитимность его потомков была сомнительной до такой степени, что их нельзя было связывать с линией происхождения Осунга. То же самое по большому счету можно сказать и о религиозной деятельности в Центральном Тибете, поскольку упоминания о реальных достижениях линии Юмтена со временем практически полностью исчезли (за исключением нескольких колофонов), зато более поздним переводчикам и нововведениям с Запада было отведено самое почетное место.
Следует понимать, что высказывание о том, что первоначальное воздействие монахов кадампы на У-Цанг носило весьма ограниченный характер, относится только к середине одиннадцатого столетия, поскольку их влияние на учебную программу и жизненные ценности тибетских монастырей распространялось хоть и медленно, но верно. Уже в 1076 году, когда в Гуге под покровительством монарха был проведен местный собор, те, кто посвятил себя философским и доктринальным системам, увидели, что наконец-то наступает их время, поскольку на соборе доминировали монахи, обученные схоластической эпистемологии и логике. В конечном счете именно школа кадампа организовала и поддержала это направление тибетской интеллектуальной жизни, которое в значительной степени опиралась на переводы Нгок-ло Лодена Шерапа и других ученых кадампы. Несмотря на то, что этот поворот к схоластической науке вызревал несколько десятилетий, мы вскоре увидим, что уже к началу двенадцатого столетия – немногим более чем через полвека после смерти Атишы – учебная программа кадампы в Центральном Тибете стала частью доминирующего направления в буддийском обучении, чего никогда не наблюдалось ранее.
Наконец, ранние документы по истории буддизма в Тибете показывают, что Атиша не считался чрезвычайно важной личностью периода тибетского возрождения, по крайней мере, до конца четырнадцатого столетия. До тех пор, пока тема «ввысь из тлеющих углей» превалировала в большинстве тибетских исторических документов, основное внимание в них уделялось энергичности монахов Восточной винаи, а Атиша с кадампой располагались на заднем плане (как, впрочем, изначально и было)120. К пятнадцатому столетию после того, как Цонгкхапа взял на вооружение учебную программу кадампы, Атиша, ранее воспринимавшийся всеми как уважаемый бенгальский учитель, оказавший весьма скромное воздействие на тибетские монашеские институты, превратился в дальновидного целителя, обладавшего панацеей от духовной болезни тибетцев – этакого святого Иоанна, проливающего слезы в пустыне Тибета в предвкушении триумфа мессии Цонгкхапы. Начиная с пятнадцатого столетия и далее, акцент на особую значимость вклада Атишы постоянно усиливался, и истории движения Цонгкхапы почти всегда начинаются с упоминания огромного вклада бенгальского монаха в духовную жизнь Тибета121.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Как и его младшие современники Рало Дордже-драк, Марпа Чокьи Лотро и Го-лоцава Кхукпа Лхеце, Дрокми жил и работал в одиннадцатом столетии. Это были времена настоящего информационного взрыва, поэтому все они, наверное, ощущали себя кем-то вроде первооткрывателей новых земель. Благодаря творчеству одного из его возможных преемников Мангто Лудрупа Гьямцо (1523–1596), работы которого датируются 1566-1587 гг., нам известны даты жизни Дрокми: с 993 по 1077 год4. Однако, самая ранняя из известных мне дат, относящихся к жизнедеятельности Дрокми, находится в описании паломничества в Мугулунг от 1479 года за авторством монаха из Цанга Джампы Дордже Гьелцена. В нем указывается, что Мугулунг был основан в 1043 году, хотя на самом деле это могло произойти и на десятилетие позже5. Кроме того, мы располагаем датами из более поздних хронологических таблиц, к примеру, у Сумпы Кхенпо период жизни Дрокми относится примерно к 990-1074 годам6. К сожалению, ни в одном из ранних источников не содержится упоминаний о датах жизни Дрокми, хотя все они стараются по возможности указывать даты, касающиеся других исторических личностей. Незаконченная Нгорченом и впоследствии завершенная Гунгру Шерапом Зангпо (1411-1475) хроника ламдре также не содержит никаких дат, имеющих отношение к Дрокми. Все эти хронологии, как кажется, начали сливаться воедино в последней четверти пятнадцатого столетия, а общепринятые даты окончательно сформировались где-то к концу шестнадцатого. Таким образом, следует признать, что мы не располагаем надежной датировкой жизнедеятельности Дрокми, и вряд ли когда-нибудь она появится.
Вероятно, что Дрокми появился на свет где-то между 990 и 1000 годами, поскольку, считается, что он был учителем Го-лоцавы Кхукпы Лхеце, родившегося около 1015 года, и Марпы, родившегося между 1009 и 1021 годами, т.е. через десять или немногим более лет после того, как Дрокми вернулся с учебы в Непале и Индии. Если предположить, что эти двое начал изучать индийские учения в подростковом возрасте, то это означает, что Дрокми должен был вернуться из Индии не позже 1030 года, а, возможно, даже и раньше, чтобы успеть приобрести достаточно высокую репутацию для привлечения учеников. Поэтому мы не погрешим против истины, если примем за период ученичества Дрокми первую четверть одиннадцатого столетия, а началом его наставничества будем считать вторую четверть. При этом нет уверенности, что он прожил очень долго в третьей четверти этого столетия. Дрокми пережил самого известного из своих ранних учеников Драма Депу Тончунга, а его главный индийский партнер в Тибете Гаядхара узнал о смерти великого переводчика во время своего третьего путешествия в Тибет.
История Дрокми напрямую связана с храмом Дромпа-гьянг, расположенным недалеко от Лхаце в месте слияния Брахмапутры с ее притоком Трумчу7. Дромпа-гьянг является одним из четырех главных «храмов укрощения», чье сооружение более поздними мифами приписывается Сонгцену Гампо. Согласно старинным хроникам, этот храм был построен для того, чтобы пришпилить левое бедро горной демоницы в «роге» Тибета, носящем название Рулак8. Впоследствии Дромпа-гьянг стал известным местом обнаружения «текстов-сокровищ» (terma), в том числе одной из важнейших молитв на тибетском языке: «Молитвы в семи гла́вах» (gSol ‘debs le’u bdun ma), явленной Зангпо Дракпе в четырнадцатом столетии9. В ранних хрониках сакьяпа рассказывается о трех внуках Пела Кхорцена – трех «де» восточной части: Пелде, Оде и Кьиде, – сетовавших на то, что этот храм полностью обезлюдел. Вследствие этого они решили пригласить двух «людей У-Цанга», Лотана и Цонгцуна, чьей резиденцией был Гьенгонг, предложив им стать священнослужителями в этом храме. Лотан, у которого были другие неотложные дела, решил отправить вместо себя двух своих старших учеников, Гья Шакья Жону и Се Еше Цондру. По прибытию они наладили монашеское служение и провели множество ритуалов посвящения в послушники (pravrajya) своих новых учеников.
В Дунгдроке на землях расположенных вдоль реки Дрилченчу правил некий мелкий предводитель кочевников. В те времена у них это было обычным делом, поскольку сообщества кочевников уже были стратифицированы подобно оседлым или полукочевым/полуземледельческим (sa ma ‘brog) тибетцам10. Окружение этого кочевого правителя включало в себя две группы приближенных к нему людей: одна состояла из мирян, а вторая – из бенде, священнослужителей с неясным происхождением и сомнительной добродетелью. Один из членов мирского окружения правителя обратился с просьбой о посвящении к известным наставникам Восточной винаи и после его получения был наречен Дрокми Шакья Еше. Его новое имя отражало его происхождение из мест обитания кочевников (Дрокми), а также сообщало, кто был его наставниками: Шакья (Жону) и Еше (Цондру).
Конечно, это был не первый случай вхождения кочевника в социальную группу избранных. В списках буддистских линий передачи порой встречаются и другие «люди из земель кочевников» (‘brog mi), а наименование «дрокми» иногда использовалось для обозначения особой географический зоны (как, например, в перечне тысячи округов Нелпы Пандиты (stong sde))11. Особенно интересно употребление «Дрокми» в качестве первой части религиозного имени представительницами довольно своеобразной ритуальной группы, известной как «матери» (ma mo), чей культ, по-видимому, основывался на сплаве местных преданий о демоницах с повествованиями, связанными с группой индийских богинь-матерей (matrika)12. Кроме того, нам известно о существовании Дрокми Пелги Еше, работавшего переводчиком в конце имперского династического периода, а позже в той же наследственной линии мы встречаем другого переводчика, Лоцаву Дрокми Тракги Релпачена13.
Дрокми Шакья Еше и его товарищ по посвящению Тагло Жону Цултрим в первое время были двумя основными священнослужителями в Дромпа-гьянге. Немногим позже к ним присоединился Ленг Еше Жону, о котором кроме этого факта более ничего не известно14. Мы не знаем, кем были те, кто получал посвящение вместе с Дрокми и Тагло, но для отправки в Индию наставники отобрали именно их, снабдив некоторым количеством золота для покрытия расходов во время путешествия. Им предстояло изучить буддийские священные писания, чтобы затем, вернувшись с этими новыми знаниями в Тибет, распространять там истинную Дхарму. Далее мы переходим к самому раннему из наших источников: запискам Дракпы Гьелцена конца двенадцатого или начала тринадцатого столетий, прилагаемым в качестве дополнения к его «Летописи индийских наставников»:
Хроника Тибета: линия наставников
«Припадаю к стопам святого учителя родничком моей головы15! Теперь из “Хроники Тибета” касательно линии наставников:
1. Гья Шакья Жону и Се Еше Цондру выступали в роли, соответственно, упадхьяи и ачарьи [при посвящении монахов] в монастыре (Дхармачакра) Дромпа-гьянга. [Из всех этих] Се выбрал для отправки в Индию Лачена Дрокми Шакью Еше и Тагло Жону Цултрима. Их наставлял [Се Еше Цондру]: “Корень Учения – Виная. Сердце Учения – Праджняпарамита. Семя Учения — это [тексты] мантр. Идите и услышьте их!” Получив такое наставление, они отправились в Индию.
2. Тогда Лачен [Дрокми] сначала отправился в Непал и вошел в двери мантры посредством [учителя] Бхаро Харн-тхунга. Затем он отправился в саму Индию и, зная о том, что ачарья Ратнакарашанти был очень знаменит и образован, прослушал многое из Винаи, Праджняпарамиты и мантры. Затем, отправившись в восточную часть Индии, он встретил Бхикшу Вираваджру, величайшего прямого ученика Дурджаячандры, который был держателем линии передачи собственного ученика Ачарьи Вирупы Домбихеруки. У Бхикшу Вираваджры он прослушал объемный материал по мантрам трех тантр Хеваджры, полностью во всех их ответвлениях. Он также запросил множество наставлений по Ачинтьякраме и т.п., то есть он также прослушал “ламдре без коренного текста” (rtsa med lam ‘bras). Таким образом Дрокми прожил в Индии двенадцать лет и стал великим переводчиком.
3. Но что касается Тагло, он так ничего и не понял, и только научился декламировать “Сутру Сердца” на индийский манер. Он просто остался в Ваджрасане, обходя храм [Махабодхи]. Однако, благодаря его харизме и примерной монашеской добродетели многие в конечном счете стали считать себя членами группы Тагло.
4. Затем Лачен Дрокми вернулся в Тибет. Когда он проживал в Намтанг Карпо, недалеко от Па-дро16, где разъяснял многое из Дхармы, Гуру Гаядхара послал ему сообщение: “Приди и прими меня!” Дрокми разузнал, какую Дхарму знает Гаядхара, и, осознав, что он сведущ в ваджраяне, очень обрадовался и отправился к гуру. Они вместе проживали в Лхаце-драке, поэтому это стало называться “месяцем Дхармы”, и удовлетворяли потребности друг друга взаимным обучением17. Гаядхара сказал Дрокми: “Я останусь на пять лет”. Дрокми ответил: “Я преподнесу тебе пятьсот унций золота”. Таким образом они отправились жить в Мугулунг.
5. Однако через три года Гаядхара сказал, что собирается уйти. Дрокми понял, что он еще должен отдать целых пятьсот унций золота. Дрокми провел церемонию обретения золота, но не смог произвести даже малого количества. Поэтому он послал сообщение Зуру Шакье Джунгне: “Приди с подарком для Дхармы!” Однако Зур находился в ретрите, практикуя медитацию Янгдака. Его ученики предостерегали его [от прерывания ретрита]: “Это будет помехой для выполнения твоей практики!” Зур ответил на их опасения: “Дрокми – великий переводчик, наверняка у него есть устные наставления [разрешающие эту проблему]”. Он предложил Дрокми около ста унций золота и получил наставления, известные как “Непостижимое [недвойственное] продвижение” (Acintyadvayakramopadesa). Зурпоче Шакья Джунгне очень обрадовался и заявил: “Благодаря доброте великого ламы духовное приобретение младшего брата превзошло отданное им богатство”.
6. Итак, через какое-то время Дрокми преподнес Гаядхаре все пятьсот унций золота. Гаядхара не мог в это поверить и задавался вопросом: «Может быть это какой-нибудь трюк?» Поэтому он вышел на улицу, где собрались жители Мангхара Дрилчена, и спросил: «Так это золото или нет?» Они ответили утвердительно, и, поняв что это действительно золото, Гаядхара очень обрадовался. Он сказал Дрокми: «Я дам тебе все, что ты захочешь, что сделает тебя счастливым». Дрокми сказал: «Мне не о чем Вас просить!» Гаядхара, однако, спрашивал его снова и снова, и, в конце концов, Дрокми уступил: «Хорошо, я бы хотел Вас попросить, чтобы вы не обучали этому священному слову [т.е. ламдре] никого другого». Гаядхара согласился с его просьбой и отправился в Индию.
7. Позже Го [лоцава Кхукпа Лхеце] снова встретился с Гаядхарой в Дромо, и Гаядхара заявил: “Я Майтрипа”. Поэтому Го пригласил его в Тибет только для того, чтобы точно выяснить, что Гаядхара не Майтрипа. Го заявил прямо в лицо Гаядхаре: “Гуру солгал!” Однако Гаядхара ответил просто: “Я более образован, чем Майтрипа. Если это Дхарма, которую тебе нужна, ты должен быть рад встрече со мной!” Го был увлечен Дхармой, поэтому он очень почитал Гаядхару, пока гуру не вернулся в Индию.
8. Наконец, уже в более поздние времена, Гьиджо Даве Осер прислал из своего дома в Нгари-то приглашение Гаядхаре. Он также очень почитал этого учителя. Однако, когда Гаядхара возвращался домой, ученик Гьиджо Кхарак Цангпа [= Ньо-лоцава] пригласил его в Кхарак, куда он и отправился. Кхаракпа выказывал ему всяческое почтение, но у учителя начали проявляться признаки смерти. “Отвези меня на вершину этой горы, – потребовал Гаядхара, – там мои сыновья!” “Но разве мы не ваши сыновья?” – спросил Кхаракпа. Гаядхара ответил: “Это бесполезный разговор, отвези меня туда!” На вершине горы находились два ученика Дрокми, наставники медитации Се и Рок18. Когда он прибыл, Гаядхара заявил: “Я приложил немало усилий ради моих совершенных сыновей. И хотя я никогда не медитировал, именно так мантрин встречает момент своей смерти”. Он поднял свою ваджру и гханту, и в тот же миг из его родничка вырвался светящийся шарик, после чего он скончался. И по сей день эта ваджра и гханта находятся в Топу.
9. Теперь Лачен Дрокми взял за правило никогда не давать наставлений по медитации ламдре тем ученикам, которых он обучал толкованию текстов. И наоборот, те, кого он наставлял в медитациях ламдре, никогда не обучались текстам. У него было пять учеников, которых он обучал текстам ламдре: Гьиджанг Укарва из Лхаце, Дракце Сонакпа из Шанга, Кхон Кончок Гьелпо из Сакьи, Ре Кончок Гьелпо из Транг-о и лама Нгарипа Селве Ньингпо. Обучение медитации завершили трое: Дром Депа Танчунг, Лхацун Кали и лама Секхар Чунгва. [Причины, по которым именно они были выбраны для получения наставлений по медитации ламдре, заключались в том, что] Дром оказал Дрокми большую услугу; Лхацун был зятем Дрокми; а Лама Се провел вместе с Дрокми семнадцать лет: сначала семь, а затем спустя некоторое время еще десять. Он преподнес Дрокми около тридцати “низовых черных” яков19. Дрокми ответил на этот подарок замечанием: “Это небольшой подарок, но он представляется необходимым”. Говорят, что Секхар Чунгва получил наставления по медитации ламдре, поскольку скромно прислуживал Дрокми и провел с ним большое количество времени, а также из-за его приложения к медитативной практике, которое удовлетворило Дрокми. Выполнив практику ламдре согласно указаниям, он попросил пройти обучение по текстам. Однако, Дрокми вновь подтвердил свою позицию: “Я не объясняю тексты тем, кто получил медитативные наставления ламдре. Если ты веришь в книги, то иди в Сакью!” Таким образом, Лама Се отправился в Сакью, где он четыре года учился у Сакьяпы Ченпо [Кхона Кончока Гьелпо], прослушав весь корпус материалов. И наконец, учениками Дрокми, обретшими “достижения” (siddhi), были трое мужчин и четыре женщины. Этими тремя мужчинами были Гьергом Сепо, Шенгом Рокпо и Упа Дропоче. Четырьмя женщинами были Темо Дордже-цо, Регом-ма Коне, Шепамо Чамчик и Чемо Намкхамо. Первые шесть из этих семи мужчин и женщин обрели свои сиддхи без оставления своих тел. А Чемо Намкхамо достигла лишь обычных сиддхи. Кроме того, у Дрокми было много других учеников, которые смогли обрести отдельные виды “достижений”.
10. Со своей стороны, Дже Гонпава прожил восемнадцать лет с Ламой Се и радовал своего учителя своим преданным служением и своей практикой медитативного и ритуального пути. С учетом всего этого, ему были дарованы все медитативные наставления ламдре. Именно во время пребывания в Гьичу Сакьяпа-ченпо [Кунга Ньингпо] впервые встретился с Ламой Се. Лама Се много раз просил его рассказать о Сакье [и его отце Кхоне Кончоке Гьелпо]. Взяв юного Кунга Ньингпо к себе на колени, он заплакал и сказал: “Хотя у этого измученного старика не так много знаний о Дхарме, пожалуйста, приходи скорее. Если ты промедлишь, я умру”. Затем он даровал Сачену некоторые фрагментарные разделы ламдре. Поняв, что Сачен собирается уйти [чтобы следовать за Ламой Се], геше Кхончунг сказал: «В нем нет ничего особенного. То, что он совершил, – это всего лишь рассеянные крохи Дхармы нашего ламы Нгарипы”, и поэтому он не дал Сачену разрешения уйти. В следующем году Сачен все равно ушел, но услышал, что Лама Се уже скончался. Поэтому он спросил: “Кто из его учеников лучший?” Услышав, что лама Гонпава был наиболее усердным, Сачен отправился к нему. Лама Гонпава понял, что отец Сачена был учителем его собственного Ламы Се, и поэтому обучение Сачена вменялось ему в обязанность обетом почтительного отношения к своей линии преемственности. Поэтому Дже Гонпава передал Сачену полные наставления ламдре.
Это краткое изложение «Хроники Тибета». Оно было написано брахмачарином Дракпой Гьелценом.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
1. Zangs gling ma, p. 129.13-17.
2. A good survey of the phenomenon, primarily from a later point of view, is Gyatso 1996; for Bonpo gter traditions, see Martin 20016.
3. This is the emphasis in Snellgrove 1987, vol. 2, pp. 397-99.
4. Especially seen in Mayer 1994, p. 541; Gyatso 1994 discusses the earliest apology, that of Guru Chas dbang, whose ideas will play a part here.
5. Karmay 1972, pp. 65-71.
6. For these categories, see Gyatso 1998, pp. 147-48; for a modern Tibetan rep- resentation of gter-ma, see Thondup 1986.
7. gTer byung chen mo, pp. 101.7, 104.1.
8. gTer byung chen mo, pp. 81.5-82.3; these are discussed in Gyatso 1994, p. 276.
9. Zangs gling ma, pp. 132-133.
10. Thomas 1957, pp. 45-102.
11. Davidson 1990, 2002a, 2002c, p. 147.
12. For some reason, the sutra side of this has received little attention, but several sutras are quoted in the gter literature, most notably variations on the title Chu klung sna tshogs [rol pa’i ] mdo and the rNam rol mdo; see bKa’ ‘chems ka khol ma, pp. 14.17, 15.8-9, 107.13-14; the M a,:zi bka’ ‘bum, pp. 173.3-75.4; and Guru Chos-dbang’s gTer ‘byung chen mo, pp. 89.5, 91.6. Martin 20016, p. 23, seems to presume an Indian text and provides one of these sutras with the Sanskritized title Ntiefilalita Sutra, an improbable combination. See Davidson 2003, forthcoming a.
13. bKa’ ‘chems ka khol ma, p. 258.2-12; compare statements in Guru Chosdbang’s gTer ‘byung chen mo, p. 83.6-84.1; Gyatso 1994, p. 280-83.
14. Denjongpa 2002, p. 5,”One day, my teacher Lopen Dugyal mentioned that there are many more spirits and deities inhabiting the environment in Sikkim than there are human beings.”
15. Karmay 1998, p. 254; Tucci 1949, vol. 2, pp. 721-24; Nebesky-Wojkowitz 1956, pp. 287-300.
16. bKa’ thang sde Inga, p. 137-18.
17. Lalou 1938 translates and studies Atisa’s text on the eight Na.gas.
18. This is also true of their comparison to the Chinese dragon, which has traits accorded to the Tibetan klu, the Tibetan dragon, the ‘brug, and the Tibetan wind horse, the lung-rta; for this latter, see Karmay 1998, pp. 414-15.
19. On Naga; see Sutherland 1991, pp. 38-43; Vogel 1926.
20. For example, Zangs gling ma, p. II r.12-15, has Padmasambhava do many ceremonies focused on the klu because of their dominion; similarly p. 120.12-14.
21. bK a’ ‘chems ka khol ma, pp. 257.12, 247.8; sBa bzhed, p. 46.5; sBa bzhed zhabs btags ma, p. 38.1; Richardson 1998, pp. 247-50, locates the chapel to the klu and gnod-sbyin nos. 12 and 16.
22. The sBa bzhed p. 45.12-14 makes no mention of the klu, and the treasury is called the “treasury of things” (rdzas kyi bang mdzod), but sBa bzhed zhabs btags ma, p. 37 leaves it out; compare bKa’ thang sde Inga, p. 139.12: ‘khor sa bar ma klu la gtad pa yin.
23. bK a’ ‘chems ka khol ma, pp. 37.14, 203.8; mKhas pa’i dga ston 1: 221.6.
24. bKa ‘ ‘chems ka khol ma, p. 221.5-7; mKhas pa’i dga ston 1: 223.15-17.
25. sBa bzhed p. 53; sBa bzhed zhabs btags ma, p. 45; dBa’ bzhed, pp. 53 (r ra), 55 (ua), 63 (14b); for a discussion of the issue of phywa, see Karmay 1998, pp. 178-180, n.; 247, n.
26. Tucci 1956b, p. 77.
27. Aspects of this have been studied in the fine collection of essays in Blondeau and Steinkellner 1996.
28. dBa’ bzhed, pp. 24-25 (text fol. 163-6 has been rather freely interpreted by the translators); S0rensen 1994, p. 150; Haarh 1969, pp. 335-38; Stein 1986, pp. 188-93; Richardson 1998, pp. 74-81. On the gnyan po gsang ba, mKhas pa’i dga ston, vol. 1, pp. 168- 70 ; rGya bod yig tshang chen mo, p. 137.6; Chas ‘byung me tog snying po sbrang rtsi”i bcud, pp. 164.8-166.7.
29. dBa’ bzhed, pp. 24- 25 (fol. 2a1).
30. dBa’ bzhed, p. 36.
31. sBa bzhed, p. 35.2-3; sBa bzhed zhabs btags ma, p. 28.5-6.
32. sBa bzhed, p. 32.15-17; sBa bzhed zhabs btags ma, p. 26.6- 7.
33. Haarh 1969, pp. 348-49; for the Kharo thi materials, see Salomon 1999, pp. 240-47.
34. This phrase is employed in the rGyal rahs gsal ba ‘i me slong, p. 61.4, for the gnyan po gsang ha.
35. Ma’l_li bka’ ‘bum, fol. 96.5-6; the Punaka edition cited here reads the temple name incorrectly as phra ‘brug, but the Zhol spar khang (fol. 9ob6) has khra ‘brug; this treasury was probably at the Khra-‘brug palace; see bKa’ ‘chems ka khol ma, p. 104.7- 8. T he temple is the Arya-palo (i.e. Aryavalokitesvara] temple close to the south entrance of the compound, which was built first by Khri-srong lde’u-btsan; its certification here by Srong-btsan sgam- po is an anachronism; sBa bzhed, p. 339.5-6; sBa bzhed zhabs btags ma, p. 32.1-4. The “river silk” is chu dar, a board-like or felt-like material made from pounding water weeds (Tshig mdzod chen mo, p. 802b); the water weed described by chu bal (mo) remains uncertain, and the attempt by Arya 1998, p. 65b, to identify it with spirogyra varians (a form of algae) may not be correct, since a solid paper would need fibers. The consistent reference to chu dar in gter ma means that it may have been an early (sacred?) form of paper employed by Tibetans before the importation of Chinese products; see bKa’ thang sde Inga, pp. 160 .19, 195.21. It is placed first on the list of materials on which gter ma may legitimately be copied (bris gzhi) in Guru Chos-dbang’s gTer ‘byung chen mo, p. rn2.4.
36. The best material on the ideas of the bla is collected in Karmay 1998, pp. 310-38; see also Tucci 1980, pp. 190-93.
37. mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 254.21-55.1.
38. That is, g.yas kyi tshugs dpon; dBa’ bzhed, p. 60, fol. 14a7; sBa bzhed, p. 34.7 ; the title chos kyi bla is left out of sBa bzhed zhabs btags ma, p. 27.10.
39. sBa bzhed, p. 35.14; dBa’ bzhed, fol. 15a2; mKhas pa”i dga’ ston, vol. 1, p. 333.13; missing sBa bzhed zhabs btags ma, p. 26.11. The identity of the bla’i gtsug lag khang with bSam-yas is evident in the sNgon gyi gtam me tog phreng ha, Uebach 1987, p. I 12 (Bod kyi lo rgyus deb ther khag Inga, p. 28.2), in which the same episode mentions bSam-yas. For the Ba-lam-glag temple, see dBa’ bzhed, Wangdu and Diemberger 2000 (under dBa’ bzhed), pp. 41 n. 90, 63, n. 203.
40. rGya bod yig tshang chen mo, pp. 192.8, 192.15.
41. Zangs gling ma, pp. 130-32.
42. Chas ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 437.5.
43. gNa’ rabs bod kyi chang pa’i lam srol, p. 37.
44. Ferrari 1958, pp. 48, 122, n. 207.
45. Karmay 1998, pp. 327- 28.
46. Karmay 1998, p. 314.
47. Z angs gling ma, pp. 130-32.
48. gTer ‘byung chen mo, p. 98.5- 6.
49. bKa’ thang sde Inga, pp. 166- 77.
50. rGya bod yig tshang chen mo, p. 136.13; Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi’i bcud, p. 164.8.
51. Tun hong nas thon pa i bod kyi lo rgyus yig cha, pp. 34-35 (= Pelliot Tibetan 1287).
52. Haarh 1969, p. 144; mKhas pa’i dga’ ston, p. 161.15- 21.
53. Haarh 1969, p. 381, and Macdonald 1971b, p. 222, n. 133, pointed out that a tent provided the fundamental metaphor for the tombs, a point that Karmay 1998, p. 225, does not accept. I believe he is incorrect in this, although he is to be commended for discovering the site.
54. This line of thought is particularly noticeable in rNying-ma-pa literature; see chap. 38 of the gTam gyi tshogs theg pa’i rgya mtsho by ‘Jigs-med gling-pa, pp. 27-8 303. T his chapter was used by Tucci 1950, pp. 1-5, and Haarh 1969, pp.114-17, 362- 64, 381- 91; compare the Bon-po text studied in Lalou 1952.
55. bKa’ thang sde Inga, p. 146; discussed in Tucci 1950, p. 10, and translated Haarh 1969, pp. 350-52, but his translation is in need of revision, and Haarh has misunderstood the tomb guardians as different from the ministers.
56. Guru Chos-dbangs gTer ‘byung chen mo, p. rn2.3, mentions that gter has an inexhaustible location, as it may be hidden in the mind; this may lead to the sys tem of dgongs gter, but is not quite there yet, for it is missing the question of Padmasambhava’s disciples’ reincarnating consciousnesses revealing at a later date the texts buried earlier.
57. Zangs gling ma, p. 130.15, has the thugs gter buried in mChims phu’i dben gnas, that is, the Chimpu hermitage, a placement followed in Padma bka’ thang, p. 551.17, but not in the same text, p. 551.5-7; gTer ‘byung chen mo, p. 98.7, has the thugs gter buried at rNam skas brag (unidentified). There is a dgongs gter, but it too is placed in the ground, and the bKa’ thang sde Inga, pp. 74.21-75-1, indicates that the three dgongs gter were to be hidden in the three Jo mo gling.
58. Padma bka’ thang, pp. 558-74.
59. A later example is presented in Gyatso 1998, pp. 57-60, 168, 173-75, 255-56; we see the beginning of this process in the kha-byang statements found in the Zangs gling ma, p. 140.2.
60. Karmay 1972, pp. 118-22.
61. Kvrerne 1971, p. 228; Karmay 1972, pp. 112-26; Karmay 1998, pp. 122-24.
62. Martin 200Ia, pp. 49-80, 93-99; Karmay 1972, pp. 126-32.
63. There earliest reference I have seen to Sangs-rgyas bla-ma is in the Padma bka’ thang, p. 558.9; this section is quoted and expanded in the Gu bkra ‘i chos ‘byung, pp. 365-66, which is essentially copied in gTer ston brgya rtsa’i rnam thar, fols. 36a3-37a5.
64. This is the Yang gter rtsa gsum dril sgrub, found in Rin chen gter mdzod chen mo, vol. 97, pp. 521- 52. The dubious nature of this work is evident when we take into accoun t the statement of Gu-ru bKra-shis that the fifth Dalai Lama could not locate any texts by Sangs-rgyas bla-ma; Gu bkra’i chos ‘byung, p. 366.1. It is interesting that Kong-sprul sought out verification of this work from mChog-gyur gling-pa and others before including in the Rin chen gter mdzod chen mo; see gTer ston brgya rtsa’i rnam thar, fol. 37 – 5.
65. Martin 2001a, p. 53, notes that a number of texts associated with gShenchen klu-dga’ were found by later gter ston.
66. gTer ston brgya rtsa i rnam thar, fol. 6oa2-b5; again much of the material is taken from the Gu bkra i chos ‘byung, pp. 398-99.
67. rGyud bzhi’i bka’ bsgrub nges don snyingpo, pp. 235.4- 36.2; first no ted by Kar- may 1998, pp. 228-37, esp. p. 230, n. 12.
68. Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 501.8-12.
69. Padma bka’ tha ng, p. 563-1-4.
70. gTer ‘byung chen mo, pp. 84.7- 85.7.
71. Bairjurya sngon po, pp. 206.6-rn.4; compare Gu bkra ‘i chos ‘byung, pp. 376- 78, and gTer ston brgya rtsa’i rnam thar, fols. 45b6-46b5.
72. Karmay 1998, pp. 228-37, has given this his usually meticulou s atten tion .
73. The 1302 Zhu fen nor bu phreng ba, for example, mentions the bKa’ ‘chems ka khol ma revelation only in association with Zhang-ston Dar-ma rgyal-mtshan ( p. 454). He was a disciple of Zhang-ston Dar-ma-grags (1103-74), whose dates are found Blue Annals, vol. 1, p. 284. For the bKa’-brgyud-pa evidence, see chap. 4, n. 9. There also were several thirteenth-century bKa’-gdams-pa masters strongly associated with the khams lugs sems sde in Central Tibet: see sLob dpon dga’ rab rdo rje nas brgyud pa’i rdzogs pa chen po sems sde’i phra khrid k.yi man ngag, pp. 436-37, 516-17.
74. Phug-brag no. 772; Samten 1992, pp. 240-4r.
75. Compare Padma bka’ thang, p. 558.9-13, Gu bkr•ai chos ‘byung, pp. 366.10-17, and gTer ston brgya rts;ai rnam thar, fol. 37a5-b4.
76. This passage translates bKa’ ‘chems ka khol ma, pp. 258.14-59.8, 260.17-61.7. For ease of reading, I have altered the ra-sa of 259.1 to lha-sa, which is the reading for the same sentence 259.5-6, and have altered Khrom-pa-rgyan to Grom-pargyang, as it is evidently an unusual spelling of the temple’s name. The meaning of seng ge lag zan ma of 259.4 is not clear to me; apparently it has been changed in later recensions to ka ba seng ge can, the lion pillar (bKa’ thang sde Inga, p. 159.9).
77. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 372-76.
78. Zangs gling ma, pp. 130-32; bKa’ thang sde Inga, pp. 74-75, 155-20 7, 529-32; Padma bka’ thang, pp. 548-57; compare the quotation in mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 246-47.
79. gTer byung chen mo, pp. 105.2, I 11.5.
80. I thank David Germano for many conversations on the question of the sNying-tig lineages.
81. A good introduction to the position of the lCe can be found in Vitali 1990, pp. 91-96; much remains to be said on this clan, however, as well as on other clans in the Myang-stod area.
82. Rig pa rang shar, A-‘dzom chos-gar ed., pp. 852-55; the mTshams-Brag, pp. 696-99; and the gTing-skyes, pp. 332- 34. I thank David Germano for suggestions and corrections to the colophon translation.
83. I have read “kun gyis ma tshims sa yi gter du bzhag” where the texts are problematic.
84. Compare sNying thig ya bzhi, vol. 9, pp. 162- 72; rNying ma bka’ ma rgyas pa, vol. 45, pp. 643-52. Karmay 1988, p. 209, n. 16, dates this to the twelfth century. W hile I have erred in my previous dating of the text by attributing it to kLongchen-pa (Davidson 1981, p. 11) and have no objection to the twelfth-century date, Karmay, though, has far more confidence than I that the single occurrence of the first person bdag indicates that the text should be definitely ascribed to Zhangston- pa (1097-u67), for such first-person identities are often hagiographically manipulated.
85. I have been able to identify eight translations on which he worked: To. 604: Khrodhavijayakalpaguhyatantra, working alone [see Samten 1992, p. xv]; To. 1301: Manjusrijnana’s Hevajra sadhana, working with the author; To. 1319: anon. Kurukullesadhana, working again with Manjusrijnana; To. 1922: Padmapani’s Krsnayamaritantrapanjika, working with Paramesvara; To. 1982: *Amoghavajra’s Vajrabhaira-vasadhanakarmopacara-sattvasamgraha, revised translation with Manjusrijnana and Phyug-mtshams dBang-phyug rgyal-po; To. 2014: *Vilasavajra’s Yamantakavajraprabheda-nama-mulamantrartha, with Upayasrimitra; To. 4432: anon. Tripratyayabhasya, on his own; and *Vilasavajra’s Vajramandalavidhipusti-sadhana, which noncanonical and is found in Rong zom chos bzang gi gsung ‘bum, vol. 1, pp. 355-67. For his hagiographical sources, see Almogi 2002.
86. Rong-lugs rdo-rje phur-pa; Sog bzlog pa gsung ‘bum, vol. 1, pp. 145-56, treats the rong zom lugs kyi dbang lung; for the four lineages of Rong lugs sems sde, kLong chen chos ‘byung, p. 394.
87. Rong-zo m’s oeuvre has been mapped out by his great-great grandson, sLobdpon Me-dpung, Rong zom chos bzang gi gsung ‘bum, vol. 2, pp. 235-39, and it is distressing how little has been preserved; the relationship of this figure to Rong-zom is found in the hagiography, Rong zom chos bzang gi gsung ‘bum, vol. 1, p. 30. The principal materials ascribed to Rong-zom are collected in his Rong zom gsung thor bu, the rNying ma bka’ ma rgyas pa collections (esp. his rdo rje phur pa and gsang snying texts in vols. 8-9), the Theg chen tshul’j ug, and the Rong zom chos bzang gi gsung ‘bum. I do not have access to the recently published Khams edition of his collected works; see also Martin 1997, p. 25, n. 6. We may note that he is ascribed a Chos ‘byung which is missing in action; see Martin 1997, p. 25, n. 5.
88. Chos ‘byung grub mtha’ chen po, pp. 43.3-47.4; the material I have not translated (. . .) includes a discussion of Bai-ro tsa-na’s banishment and Vimala’s problems with other PaQ<;litas, with the result that there are no more texts in India. Compare also the partial quotation of this passage in Ratna gling pa’s Chos ‘byung bstan pa’i sgron me, pp. 72-73. Compare the Rong-zom chos-bzang quote, Rog Bande Shes rah ‘od, Chos ‘byun grub mtha’ chen po, pp. II5-18, on the superiorities of the rNying-ma system over the gSar-ma, discussed as well in Ratna gling-pa, pp. 136-40. Rog-ban has been given the dates 1166-1233 by the Tshig-mdzod chenmo, pp. 3223 and 3228.
89. Either Rong-zom or Rog-ban is making a sarcastic pun; more than one of the gSar-ma traditions entitled their teachings the “Golden Dharma,” but the text indicates that these lo-tsti-ba and pa’!Jr/itas were really interested in the religion (chos) of gold (gser).
90. These historical works were not included in Martin 1997; Ratna gling-pa, Chos ‘byung bstan pa’t sgron me, p. 106, cites the same sources, possibly taken from Rog-bande.
91. Eimer 1979, § 239.
92. Witzel 1994, pp. 1-21.
93. Rocher 1986, pp. 49- 59.
94. Chos ‘byu ng bstan pa’i sgron me, pp. 166-67-
95. For example, the gTer ‘byung chen mo gsal ba’i sgron me of Ratna gling-pa, pp. 46.1-47.2, 52.5-54.5, takes pains to identify the category of gsar- ma-gter. We may even note that the issue of gter per se apparently did not become an area of contention until the time of Chag-lo-tsa-ba, and his Chag lo tsd bas mdzad pa”i sngags log sun ‘byin pa, in sNgags log sun ‘byin gyi skor, pp. 13.2-4.2.
96. Karmay 1988, pp.175-200, views rig-pa from a somewhat different perspective.
97. On the Rig pa rang shar, Tucci 1958, vol. 2, pp. 63-64, states, “This tantra preaches the doctrine of the non-existence of a path and the non-existence of cause and effect.”This seriously misrepresents this scripture, as will be seen. By means of such misrepresentations, Tucci was trying to prove that the rNying-ma tantras are reformulations of Chan doctrines. Cf. van Schaik 2004.
98. For these phrases, see Broughton 1983; Gomez 1983; Ueyama 1983; and Meinert 2002, 2003, and forthcoming. My own reading of such documents as Pelliot Tibetan u6, 823; Stein Tibetan 468, and others convinces me of little influence visible in the oldest strata of rDzogs chen, that of the sems sde. For example, the limited use of so so’i rang gi rig pa, found in Pelliot Tibetan 116, indicates the translation of pratyatmavedaniya (individually perceived) or some similar Sanskrit word through the Chinese and does not render the gnoseological force of rig-pa; see Mala and Kimura 1988, p. 90 (£ 157, lines 3-4); see a similar use fols. ur.4-12.r, 237.5. The only use I have noted in Pelliot Tibetan u6, similar to the rNying-ma sense is fol. 194.4, followed immediately by a lengthy discussion of myed pa’i sems and myed pa’i gnas, which have no connection to rNying-ma use. Stein Tibetan 468, fol. 1br, uses rig-pa as a term of beginning understanding, equivalent to shespa, and I could not find rig-pa in Pelliot Tibetan 823 at all.
99. In particular, I would like to acknowledge that the contents of some sNyingtig tantras, like the sGra thal ‘gyur chen po’i rgyud (Kaneko 1982, n. 155) rNying ma rgyud ‘bum, gTing-skyes manuscript, vol. ro, pp. 386-530, do not consider rig-pa in the definitive sense of the Rig pa rang shar. But many others do, and it remains the main gnoseological term for the rNying-ma tradition.
100. For a review of the Yogacara documents, see Davidson 1985.
101. Tucci 1930b, p. 51; Hattori 1968, pp. 28-31, 101-6; Bandyopadhyay 1979.
102. Pramanavarttika, pp. 190-210, 223- 45.
103. Davidson 1981, p. 8 n. 21; Davidson 1999; Sthiramati uses the word in his Madhyantavibhaga-tika , pp. 79.12, 122.16. The first of these two references is the more important as it occurs in a quotation of an unnamed sfltra. The sutra identifies svasamvedy9 as the description of nonconceptual gnosis (nirvikalpajnana) through which one enters the dharmadhdtu.
104. It is not generally noted that this work is featured in the two later recensions of the Testament of the Ba-clan and played an important in the early renaissance rNying-ma self representation; sBa bzhed, p. 32.5-7; sBa bzhed zhabs btags ma, pp. 25-16- 26.1.
105. My translation; compare Karmay 1988, pp. 159, 167; this passage in a slightly different form is quoted in bSam gtan mig sgron, p. 192.4-5. For a discussion of this passage and the antiquity of the Man ngag /ta phreng, see Karmay 1988, pp. 140-44.
106. Tohoku 2591; Mafijusrimit ra’s text is edited and translated in Norbu and Lipman 1986.
107. Rong-zom Chas kyi bzang-po, Theg chen tshul ;’ug, pp. 319.4, 333.2-6; we note the sparse discussion of rig-pa in his Man ngag /ta ba’i phreng ba zhes bya ba’i ‘grel pa, p. 104.2. At one place in his commentary to the Guhyagarbha-tantra, the rGyud rgyaf gsang ba snying po’i ‘grel pa rong zom chos bzang gis mdzad pa, p. 207-1-2, the tantra quotation seems to cry for an explanation of rig-pa, but he interprets it as a perception ‘of ye-shes. Again, in the same commentary, he emphasizes the perceptual interpretation of rig-pa; for example, pp. 148.5, 151.5.
108. Karmay 1988, pp. 99-103, discusses the problem of gNubs-chen’s dates and proposes a tenth-century date; Vitali 1996, pp. 546-47, arrives at the same date based on other sources.
109. gNubs-chen, bSam gtan mig sgron, p. 196.r.
110. bSam gtan mig sgron, p. 290.6.
111. Rig pa rang shar, gTing-skyes, p. 106.7; A-‘dzom, p. 539.5.
112. Rig pa rang shar, gTing-skyes, p. 62.4-6; A-‘dzom, pp. 473.6-74.2.; almost identical language elsewhere, for example, gTing-skyes, p. 42.1-5; A-‘dzom, p. 446.1-4.
113. Rig pa rang shar, gTing-skyes, pp. 205.5-206.2; A-‘dzom ed., p. 683.2-6.
114. Rig pa rang shar, gTing-skyes, p. 134.4; A-‘dzom ed., p. 583.6; compare gTing-skyes, pp. 99.7-100.6.
115. Rig pa rang shar, gTing-skyes, p. 57-2-5; A-‘dzom ed., p. 465.6-66.3.
116. See Nye brgyud gcod kyi khrid yig gsal bar bkod pa legs bshad bdud rtsi’i rol mtsho, p. 26; Karmay 1988, p. 1851 considers some of the early materials; Ratnagotravibhtiga l.42-44; Takasaki 1966, pp. 225-29; Ruegg 1971, p. 464, n. 73; 1973, p. 79, n.3.
117. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 190-91; this list was reviewed by Tucci 1956a, pp. 88-89; compare Chang 1959-60, pp. 133, 153, n. 21. The texts are found in sNying thig ya bzhi, vols. 8-9. The term phra khrid may be understood in light of the Old Tibetan phra- men, which was argued by Tucci 1950, p. 79, n. 45, to correspond to silver-gilt, as is understood by Dunhuang Chinese equivalents. Compare Richardson 1985, p. 105, n. 1, where lapis lazuli may be this item, although he is uncertain; see Stein 1986, p. 193. On these appointments, see Stein 1984; Demieville 1952,pp. 284-86.
118. Haarh 1969, pp. 380-91.
119. Richardson 1998, pp. 219- 33; Tucci 1950, passim; compare with the spirit roads illustrated and discussed in Paludan 1991.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Интегрированное видение реальности, представленное «Калачакрой», не могло не привлечь внимания других буддистских школ, в число которых входила и кагьюпа, начавшая развивать свое собственное комплексное направление буддийской мысли. Пока кадампинцы боролись с новыми философскими идеями, их базовое махаянское наследие помогало развиваться другим традициям. В этом контексте одним из лучших примеров является деятельность Гампопы Сонама Ринчена (1079–1153), который был весьма интригующей и, безусловно, гораздо более сложной персоной, чем та, что фигурирует в описаниях его сторонников и недоброжелателей. Поскольку большинство линий кагью ведут свое происхождение от его учеников, именно благодаря Гампопе началось превращение этой школы из совокупности неустойчивых линий передачи в организованную монашескую систему, включавшую в себя множество институтов, обладающих общей идентичностью. Он родился в низовьях долины Ньел, возможно, недалеко от Лхунце, в плодородной местности, расположенной вблизи от границы с Индией, где река Ньел впадает в Субансири, несущую свои воды в Ассам (см. карту 7)18. Его клан носил название Ньива (snyi-ba), и, хотя был известен с имперских времен, имел такое же скромное происхождение, как и клан Кхон. При этом в отличие от последнего он никогда ранее не был вовлечен в дела местной религии19. Тем не менее, отец Гампопы для своего второго сына смог заключить очень удачный брачный союз, и юноша получил в жены девушку из могущественного и высокостатусного клана Чим, что было в какой-то мере неожиданной удачей для отпрыска семьи целителей и магов. Для того, чтобы это произошло, ньивы должны были иметь большое политическое влияние, распространявшееся за пределы долины Ньел, где они фактически доминировали. Кроме того, похоже, что со временем они стали очень богатыми, возможно, такими же, как семья Марпы в Лхо-драке, расположенном всего в двух долинах к западу. Высокое положение Ньивы в долине Ньел, вероятно, как-то повлияло на решение Гампопы переселиться на север в Дакпо, расположенный вдоль реки Цангпо. Вполне возможно, что он просто хотел, чтобы его монашеская деятельность, опирающаяся на учение кадампы, приносила духовные плоды без использования влиятельности родного клана.
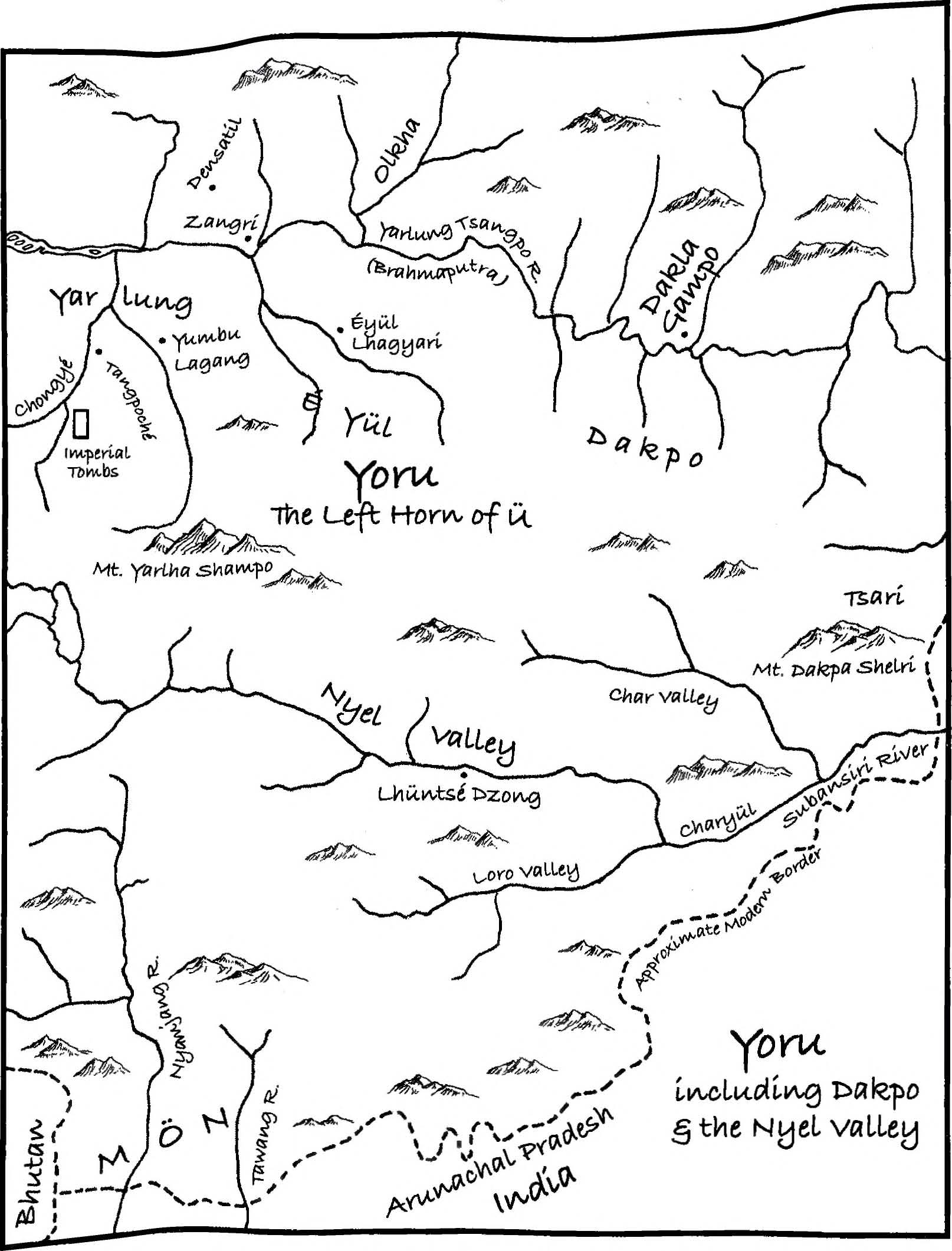 |
|
Карта 7. Йору, включая Дакпо и долину Ньел
|
Однако, своих первых успехов Гампопа добился на поприще медицины, являвшейся потомственным занятием его семейства. Поскольку медицина была частью культурного наследия имперских времен, некоторые агиографы также утверждают, что он обучался «Гухьягарбхе» и другим тантрам ньингмы, что вполне может быть правдой20. В автобиографической заметке сам Гампопа сообщает, что в возрасте пятнадцати лет он изучал другие тантры, в частности не названную им йога-тантру и «Чакрасамвару», с неким геше Зангскарвой (очевидно, что это не Зангскар-лоцава). Однако, по всей видимости, это продолжалось очень недолго: до тех пор, пока он не приступил к изучению медицины. Вскоре семейное благополучие Гампопы был разрушено эпидемией (возможно, чумы), унесшей жизни его жены и детей. По этой причине уже в достаточно зрелом возрасте (в двадцать пять лет) он принял монашеские обеты под руководством Геше Мар-юла Лодена Шерапа в расположенном в Дакпо Ронгкаре. Получив тантрическое посвящение и попрактиковавшись в некоторых экзотерических медитациях, он отправился учиться к монахам кадампы в находившийся в У Пен-юл. Судя по всему, он обучался у нескольких кадампинских ученых, при этом его главными учителями были Геше Гья-йондак, у которого он учился три года, а также Геше Джангчуп семпа, Геше Ньюк-рампа и Геше Чак-ри-ва (все они упоминаются в трудах Гампопы)21. В общей сложности Гампопа провел в Пен-юле около пяти лет, изучая экзотерические и эзотерические материалы кадампы и в совершенстве освоив «Стадии пути», но при этом его главной специализацией была кадампинская версия созерцательной системы махаяны. В этом вопросе Гампопа был чем-то вроде вундеркинда, и источники утверждают, что уровень его духовной одаренности был несоизмеримо выше того, что должно было бы соответствовать полученным им наставлениям и времени, проведенном в медитации.
Весной 1109 года Гампопа услышал о Миле Репе и попросил у своих учителей разрешения отправиться на поиски знаменитого поэта-йогина, чтобы пройти у него обучение (Илл. 18). Его кадампинские наставники поначалу были недовольны перспективой того, что их ученик, в которого было вложено столько сил, последует за странствующим йогином. Но в конце концов они скрепя сердце разрешили ему отправиться на поиски Милы. Потратив сорок дней и испытав определенные трудности Гампопа наконец нашел странствующего медитатора. При этом, подобно агиографиям других святых подвижников, хроники кагьюпы представляют поиски Гампопы как великое испытание его устремлений: бесплодные поиски, получение манящих подсказок, встреча с божественными проводниками и, наконец, знакомство с гуру, которые сам явился перед ним. Не вызывает сомнений тот факт, что он был очень хорошо принят, и Мила Репа сразу начал активно заниматься обучением одаренного монаха, который оставался в колонии йогинов в течение тринадцати месяцев. Затем Мила подтвердил Гампопе, что он обрел требуемое постижение, и в 1100 году отправил его практиковать медитацию в одиночку22. Гампопа вернулся в У, но стало ясно, что полученное им эзотерическое учение не в полной мере согласуется со взглядами кадампинской махаяны, и Гампопа некоторое время должен был разбираться с противоречиями между тантрическими практиками и методами интуитивного прозрения махаяны. Похоже, что именно в этот период Гампопа вернулся домой, где его отец, судя по всему, построил для него храм в долине Ньел, в котором Гампопа практиковал медитацию и изучал священные писания в течение шести лет, прежде чем начать самостоятельную жизнь23. В конце концов, он и Мила Репа снова встретились незадолго до смерти великого йогина, случившейся около 1123 года, в результате чего Гампопа получил несколько последних продвинутых наставлений.
 |
|
Илл. 18 Линия кагьюпы, включающая Марпу, Милу Репу и Гампопу. Фрагмент рисунка начала тринадцатого столетия
|
Одной из проблем, с которой столкнулись летописцы традиции, было отсутствие у Гампопы достаточного буддийского образования, т.к. шесть лет, которые он затратил на схоластическое/монашеское и медитативное обучение, по буддистским стандартам является слишком коротким сроком. По этой причине его агиографы всегда подчеркивают, что Гампопа являлся перерождением бодхисатвы Чандрапрабха-кумарабхута, которому была преподана классическая махаянская «Самадхираджа-сутра»24. Эта недостаточность образования особенно ярко проявляется в эзотерических сочинениях Гампопы, которые Джексон (Jackson) характеризует как «антиинтеллектуальные и антиконцептуальные». Однако, такое определение представляется несколько преувеличенным, поскольку в отношении концептуализации Гампопа в целом не делает утверждений более экстремальных, чем те, что уже присутствуют сиддховской литературе индийского эзотерического буддизма и, если уж на то пошло, даже в большей части нормативных текстов махаяны. Он действительно конструирует их с помощью своей врачебной метафоры простой панацеи (dkar po chig thub) от всех трудностей, но его отношение к словесным формулам является не столь радикальным, как это изображалось такими более поздними неоконсерваторами, как, например, Сакья Пандита, которые были полностью поглощены защитой схоластической системы25.
Что действительно делает Гампопа, так это использует эзотерическую литературу для описания концептуальных областей, присущих экзотерическим учениям, тем самым нарушая некоторые неписаные правила, которые сформировались в достаточно поздних доктринальных системах индийского буддизма. Так в процессе объяснения совершенства мудрости (темы, относящийся к пути бодхисатвы) он пересекает определенную черту, не только цитируя сиддхов и тантры, но даже привлекая для этого китайские апокрифические сутры. Гампопа также предполагает, что в махаяне есть третий путь – «врожденная йога» (sahajayoga) Великой печати (mahdmudra), которая существует вне рамок сутры и тантры26. Эта «врожденная йога» имеет две разновидности: одна относится к самому уму (sems nyid lhan cig skyes pa), а другая – к воспринимаемому миру (snang ba lhan cig skyes pa). Первая – это абсолютное тело будды (dharmakaya), а вторая – ясный свет абсолютного тела. Существует два вида «брони», которые следует использовать в практике пути: «броня» внешнего видения, состоящая из добродетельности, и «броня» внутреннего прозрения, состоящая из внутренних йогических практик27. Хотя Великая печать выходит за рамки других описаний, утверждая, что этот обычный ум и есть будда, в конечном счете она все же согласуется как с сутрами, так и с тантрами.
Кажется очевидным, что следует избегать произвольного использования формальной терминологии, но вместе с тем не вполне понятно, почему между разъяснениями с помощью сутр и разъяснениями с использованием тантр обязательно должен существовать непреодолимый барьер. На самом деле такое разделение этих двух методов является всего лишь следствием индийской доктринальной стратегии. Как только индийские буддисты начали формализовывать различные системы мышления, между сторонниками этих течений сразу же началась борьба за доктринальное господство. По факту в экзотерической и эзотерической традициях представлены несоизмеримые между собой идеи, поэтому одновременная опора на сутры и тантры могла существовать на институциональном и доктринальном уровне только в том случае, если бы все воспринимали это так, как будто каждое из этих направлений оперирует своей отдельной вселенной. Таким образом можно было бы избежать прямого сравнения или синтеза идей мадхьямаки и ваджраяны и, соответственно, взаимной оценки их этических систем.
Поскольку социальная стратификация является неотъемлемой составляющей индийской общественной жизни, индийцы стали использовать и доктринальную стратификацию в качестве средства разделения различных духовных течений. Это было вполне работоспособной схемой, т.к. одной из целей индийской кастовой системы является распределение отдельных сегментов областей конкуренции и брачных отношений между различными социальными группами. Во многом это связано с тем, что конкуренция в Индии имеет тенденцию порождать насилие, а деятельность в кастовой системе осуществляется только в пределах дискретных наследственных линий. С утверждением тантр в качестве «слова Будды» стратификация сотериологической системы в Индии стала обычной практикой, поскольку махаянисты того периода хотели, чтобы и традиционный буддийский путь по-прежнему считался истинным, и чтобы в их канон были включены радикальные тантры, причем все это с минимальным взаимообменом соответствующих лексиконов. Таким образом кастовая модель стала применяться при формировании отдельных религиозных направлений и отдельных линий происхождения, причем как в случае сутры, так и тантры. Однако в реальности это приобрело следующий вид: традиция утверждала, что сутры и философские шастры дозволено использовать для объяснения эзотерических тем, но никак не наоборот. В индийской системе такой тантрический автор как Виласаваджра вполне законно мог цитировать махаянские тексты в своем комментарии к «Манджушринамасангити». Однако, вместе с тем предполагалась, что махаянские писатели, высказывая философские утверждения, должны воздерживаться от ссылок на тантрическую литературу. Но даже в таких условиях мы порой встречаем индийцев, не придерживавшихся этих неписаных правил, особенно на ранних стадиях тантрического сочинительства. В качестве примера этого можно привести Харибхадру, который цитирует «Ваджрапаньябхишека-тантру» в своем длинном комментарии к «Абхисамаяланкаре»28. Конечно, большая часть экзегезы буддийских тантрических текстов является прямым подтверждением такой стратификации, однако Гампопа не имел достаточной ученой подготовки в данной дисциплине. Мы знаем, что преемником тантрической текстовой экзегетики Марпы был Нгок Чадор, а не Мила Репа, и кроме того Гампопа провел со своим учителем Милой Репой всего лишь немногим более года. Причем в дальнейшем он изучал эзотерическую литературу с упором на медитативные практики, а не на ее экзегетическую систему. Как следует из цитаты, приведенной в начале главы, Гампопа предполагал, что великий медитатор способен интуитивно познать все необходимое (что на самом деле является достаточно давней буддистской идеей)29.
Некоторым читателям может показаться странным такой акцент на разницу между изучением тантр и тантрической практикой, однако, считается, что сам Марпа достиг буддовости без медитации, а пандит Дрокми Гаядхара был широко известен тем, что редко практиковал созерцание. На самом деле, хотя к концу одиннадцатого и началу двенадцатого столетий тантрическая экзегеза стала важным направлением в изучении и практике тантры, в общепризнанных сочинениях Гампопы довольно редко цитируются тантрические источники, и почти никогда не упоминаются нормативные спорные вопросы тантрических комментариев30. В этом отношении Гампопа сильно отличался от хорошо образованного Го-лоцавы Кхукпы Лхеце, чье работы со всей очевидностью демонстрируют насколько свободно он использовал свои глубокие знания по широкому спектру тантрической литературы. По этой причине в общепризнанных сочинениях Гампопы присутствует множество несообразностей, и у читателя порой может возникнуть ощущение, что Гампопа пытался найти свой собственный путь в непроницаемом лабиринте буддийских текстов и идей.
В защиту Гампопы можно сказать следующее. Если отказаться от идеи существования различных духовных вселенных и убедить себя в том, что миры сутры и тантры – это всего лишь линии на зыбком доктринальном песке махаяны, то буддийские доктрины и лексиконы могут (а, возможно, даже и должны) рассматриваться в сочетании друг с другом. Существует не так много основанных на опыте поводов утверждать, что между экзотерическими и эзотерическими словарями не может быть конкуренции и арбитража спорных ситуаций, а также взаимодействия и совместного синтезирования. В самом деле, ничем не обоснованная предвзятость буддистской социальной оценки соответственно предполагает необоснованный анализ доктринальных дифференциаций. Это фактически то, о чем говорили различные авторы Великого совершенства одиннадцатого столетия, такие как, например, Ронгзом, а Гампопа во многих местах своих лекций демонстрирует нам, что он знаком и даже пленен идеями Великого совершенства31. Его работа изобилует лексикой и парадигмами, тесно связанными с природой ума Великого совершенства, особенно в его представлении «осознавания» (rig-pa), являющегося центральным термином в корпусе текстов Гампопы, хотя и у него оно и не ценится столь высоко, как «врожденность» (sahaja)32. Одна из наиболее значимых его работ, носящая название «Выявление скрытых характеристик ума» (Sems kyi mtshan nyid gab pa mngon du phyung ba), на самом деле является кагьюпинской версией одной из обучающих традиций системы Ронг раздела «Природы ума»33. Однако, гораздо более важным является тот факт, что Гампопа работал над разрушением барьеров на пути словарного синтеза, чтобы терминология одной доктринальной области могла свободно использоваться для разъяснения других. В рамках этой деятельности он провозгласил идею «совместимости» различных доктринальных направлений34. Вероятно, этот подход стала одной из основ, на которую он опирался при своем объединении воззрений кагьюпы с языком махаянских идей кадампы, которое наглядно прослеживается в ставшей классической жемчужине его творчества «Украшении освобождения» (Dwags po thar rgyan), причем такое слиянии вызвало по-настоящему озлобленную критику. Однако, это именно то, чего мы и должны были ожидать от медитатора, который не слишком хорошо разбирался в идеологии разделения доктринальных лексиконов и сам по себе был весьма синтетичен в своих подходах к созерцательной реальности. Похоже, что для Гампопы эти линии на доктринальном песке были эфемерными промежуточными остановками в его личном переживании предельного.
Это не означает, что стратификация им полностью игнорировалось, ведь одно из обвинений в адрес Гампопы было связано с одной из его, возможно, самых ортодоксальных идей: принципиальным различием между теми, кто следует постепенным путем (rim gyis ‘jug pa), и теми, кто является приверженцем одномоментного пути (cig char ‘jug pa). К началу двенадцатого столетия эти термины уже имели богатую историю, поскольку использовались в Тибете при обсуждениях различий буддийского пути еще со времен имперской династии, когда состоялись дебаты между наставником северного чаня Хэшаном Мохэяном и представителем индийской махаяны Камалашилой35. Причем в контексте ваджраяны это была вполне легитимная тема тантрических дискуссий, представленная в предыдущем поколении Го-лоцавой Кхукпой Лхеце, а в последующем – сакьяпинским иерархом Дракпой Гьелценом36. Указанные авторы могли без проблем обсуждать эти идеи, поскольку санскритские термины «постепенно» (kramavrtya) и «одномоментно» (yugapad) были переведены тибетскими терминами, обозначающими постепенный и одномоментный путь, в тибетском переводе тантрической «Чарьямелапакапрадипы» Арьядевы, являющейся текстом с безупречной родословной37. В ней Арьядева основывает свои рассуждения на их упоминании в «Ланкаватара-сутре», которая является наиболее вероятным источником такого разграничения как для чаня, так и для ваджраяны, поскольку авторы обеих систем в своих построениях отводят «Ланкаватара-сутре» центральное место38. Нет сомнений в том, что Гампопа использовал это категориальное разграничение более вольно и придавал ему большее значение, чем некоторые другие авторы, но это разница скорее в степени, чем в сущности. При этом Гампопа знал, что на его стороне индийский прецедент, поскольку он специально цитировал «Ланкаватара-сутру» как источник этих двух сотериологических стилей39. И наоборот, попытка неоконсерваторов тринадцатого столетия уравнять позицию Гампопы с позицией Хэшана Мохэяна частично основывалась на стирании различий между махамудрой и чанем при одновременном игнорировании ортодоксальных корней данной темы40.
Около 1120 г. Гампопа основал свой монастырь Дакла Гампо (названный по имени покровителя, обеспечивавшего финансирования) в тибетском регионе Дакпо, расположенном к востоку от Ярлунга, и начал собирать учеников, которых влекла харизма этой высокодуховной личности41. В его агиографиях подчеркивается идея, озвученная в цитате, приведенной в начале данной главы, согласно которой наставник, опирающийся по большей части на созерцательность, может передавать свой опыт другим, и отмечается, что Гампопа обладал этим качеством42. Таким образом он привлек группу лучших молодых монахов и медитаторов, четверо из которых считаются его величайшими учениками: Дусум Кхьенпа (Кармапа I), Пагмо Друпа, Баромпа и Дакпо Гомцул. Эти четверо положили начало «четырем великим линиям передачи кагьюпы». При этом не все обращают внимание на тот факт, что три самые успешные линии передачи ведут свое происхождение от трех лам, получивших прекрасное кадампинское образование: Дусума Кхьенпы, Пагмо Друпы и Дакпо Гомцула. И хотя в своей основе кагьюпа являлась традицией, ориентированной на йогу, наследие кадампа продолжало питать практики и идеологию кагью на протяжении нескольких последующих поколений.
Внедряя монашество в йогическую традицию, Гампопа вместе с тем развивал свой монастырь с опорой на прочные семейные связи. Его преемником стал его племянник Дакпо Гомцул, которому наследовал его младший брат Дакпо Гомчунг. В результате клан Ньива отстроил и закрепил за собой данный монастырь подобно тому, как это делал Нгок в других местах (первоначально в Сангпу), или как Марпа со своими сыновьями в Лхо-драке, или как Рало со своим племянником Ра Чобаром. К середине двенадцатого столетия окончательно сформировалось понимание того, что клан может не только владеть, но и использовать в качестве своей резиденции важные религиозные центры, где члены других кланов хотя и могут обучаться, однако, практически не имеют шансов стать одним из преемников местной линии. В таких случаях правовая основа правопреемство не вызывала сомнений, поскольку основывалась на кровном родстве. И наоборот, неродственное наследование земли в глазах тибетцев выглядело весьма сомнительной идеей, и даже редкие случаи, когда монастыри возглавляли неаристократические тибетцы (такие как, например, Дусум Кхьенпа), должно быть вызвали раздражение традиционалистов, которые уже и так чувствовали себя оскорбленными быстрым изменением институциональной жизни. И хотя «Муласарвастивада-виная» содержала различные положения о корпоративном владении и наследовании земли, ее авторитет в Индии опирался на идеологию разделения церковного и гражданского прецедента43. Однако, в Центральном Тибете не существовало подобных правил, поэтому правовая ситуация с монастырским наследованием выглядела достаточно проблематичной. По этой причине монашеские группы Восточной винаи нередко вступали между собой в конфликты по поводу права собственности, как это можно было наблюдать на примере ранних монастырей кадампы. И наоборот, с помощью стратегии наследования от отца к сыну или от дяди к племяннику юридические права и религиозная власть без лишних вопросов успешно передавались следующему поколению. В смутные времена это служило надежной защитой от посягательств на любые религиозные владения, как мирские, так и монашеские.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Отсутствие внятной биографической информации характерно не только для повествований о жизни и деятельности Сонама Цемо, но и в какой-то мере присуще жизнеописаниям его младшего брата Дракпы Гьелцена. Причина этого не вполне понятна, поскольку в отличие от своего старшего брата, не имеющего традиционных агиографий, Дракпа Гьелцен был удостоен стандартного по объему жизнеописания за авторством Сакья Пандиты65. Однако, к великому сожалению, работа Сакья Пандиты создает устойчивое ощущение какой-то незавершенности, поскольку он довольно часто уклоняется от изложения фактической информации, восклицая при этом: «Рассказ об этом слишком долог, поэтому я не буду здесь писать об этом!»66 Причины, по которым Сакья Пандита прибегает к многочисленным пропускам в повествовании, не вполне ясны, но, похоже, что он полагал, что полное описание физических событий не входит в обязательные требования агиографического жанра тех времен, а в своей работе он и так представил достаточно обширный обзор снов, видений и историй, связанных с чудесами. Кроме того, это может быть прямым отражением системы ценностей, которых придерживался сам Дракпа Гьелцен, поскольку единственным автобиографическим документом, который он оставил после себя, были надиктованные им описания особо значимых снов, начиная с семнадцатилетнего возраста и вплоть до самой его кончины67.
Нам известно, что Дракпа Гьелцен был вторым по счету сыном второй жены Сачена Мачик Одрон и родился в Сакье в 1147 году. Очевидно, что он прожил дольше всех остальных сыновей Сачена, поскольку всегда был центральной фигурой погребальных торжеств как своего отца, так и всех своих братьев68. Сакья Пандита усердно связывал каждое описываемое им событие из жизни своего дяди либо с мифологией предыдущих поколений, либо с определенными качествами бодхисатвы из махаянских священных текстов. Так, подобно истории из жизни Будды, сообщалось, что матери Дракпа Гьелцена приснилось, что повелитель слонов вошел в ее чрево, а его рождение и детство описывалось шаблонными формулировками, обязательными для начинающих буддистских святых праведников69.
Интересно, что Дракпа Гьелцен вслед за своим братом стал безбрачным мирянином (brahmacari-upasaka), приняв соответствующий обет в возрасте семи лет в присутствии Джангчуба Семпы Давы Гьелцена. Этот интригующий персонаж, вероятно, был известным учителем, распространявшим идеи фундаментальной буддийской этики и имевшим тесные связи с самыми разными линиями передачи. Он был наставником Таглунгпы, держателем линии передачи ламдре Дрома Депы Тончунга, а также тем самым учеником, для которого Саченом был написан комментарий к ламдере «Дагьелма»70. Аме-шеп выдвинул довольно интересное утверждение, заявив, что практика безбрачия Дракпы Гьелцена превосходит практику монаха, поскольку благодаря кармическим отпечаткам от пребывания монахом в предыдущих жизнях он не испытывал сексуального желания71. По-видимому, примерно в этом же возрасте Дракпа Гьелцен также решил отказаться от алкоголя и употребления в пищу мяса, за исключением тех случаев, когда это требовалось в тантрической практике. Другими его устремлениями юношеского периода были изучение «Двадцати строф об обете бодхисатвы» и основополагающей практики Хеваджры – визуализации Хеваджры в соответствии с текстом садханы Сарорухаваджры. Говорят, что отец передал ему ламдре в возрасте восьми лет, и ему было запрещено преподавать его до двенадцати лет – весьма необычное указание, учитывая крайнюю молодость мальчика и сложность системы. Тем не менее, вполне очевидно, что столь раннее приобщение к ламдре с помощью своего отца не только способствовало упрочению авторитета Дракпы Гьелцена, но и дало возможность ему ознакомиться из первых рук с общей организацией традиции.
По общему мнению, поворотным событием в жизни Дракпы Гьелцена стала смерть его отца. В этот момент Дракпе Гьелцену было всего одиннадцать лет, а его братьям, соответственно, шестнадцать и восемь. Он и его старший брат оказались в центре внимания многих великих ученых, собравшихся на погребальную церемонию, и сообщается, что во время нее Дракпа Гьелцен по памяти декламировал «Хеваджра-тантру». Ученые были конечно же поражены, и некоторые из них утверждали, что, поскольку его отец являлся эманацией Манджушри, то он также, должно быть, благословлен этим бодхисатвой разума. Другие заявляли, что, поскольку Сачену, когда он был молод, было видение Манджушри, он получил его благословение, вследствие чего всем его потомкам будут дарованы подобные откровения. Очевидно, что именно это событие побудило отдельных ученых к распространению предания, согласно которому всех членов клана Кхон можно считать эманациями Манджушри (хотя ничего подобного сам Дракпа Гьелцен никогда не утверждал). Однако, каковыми бы ни были обстоятельства возникновения его мифической связи с бодхисатвой мудрости, вполне очевидно, что декламация «Манджушринамасамгити» («Перечисление имен Манджушри») должна была стать первоочередной заботой Дракпы Гьелцена, и эта рецитация не только занимала определенную часть его ритуального времени, но и являлась ему во снах72.
Сонам Цемо после смерти Сачена оставил Сакью и отправился на обучение к Чапе в Сангпу, а Дракпа Гьелцен остался в монастыре, чтобы продолжить свое эзотерическое образование у геше Ньена Пул-джунгвы, который на три года (до 1161 г.) принял бразды правления Сакьей. Не вызывает сомнений, что геше Пул-джунгва и геше Ньяк Ванг-гьел оставались наиболее значимыми учителями Сакьи, как минимум, до 1165 года. Кроме того, Сакья Пандита писал, что Дракпа Гьелцен обучался у одного «Жанга» (вероятно, у Жанга Цултрим-драка), а также и у «других наставников» – фраза, употребляемая им для того, чтобы обесценить авторитетность альтернативных источников и аккуратно задвинуть большинство учителей Дракпы Гьелцена в тень великого Сачена73. В свою очередь, Аме-шеп утверждает, что помимо геше Ньена, Жанга и геше Ньяка, Дракпа Гьелцен также обучался у непальца Джаясены, лоцавы Дармы Йонтена, Сумпа-лоцавы Пекхок-дангпо Дордже и ряда других учителей, однако, Аме-шеп не приводит содержание их программ индивидуального обучения74. Кем бы ни были его наставники, мы абсолютно уверены в том, что Дракпа Гьелцен получил доскональное образование и именно в эзотерической традиции – факт, совершенно очевидный для любого, кто возьмет на себя труд ознакомиться с его работами. Он, безусловно, изучил все четыре уровня эзотерического канона, признаваемого сакьяпой: крия-, чарья-, йога- и йоготтара-тантры. Кроме того, в лице Дракпы Гьелцена мы впервые видим проникновение идей «Калачакра-тантры» в мировоззрение сакьи (хотя Сачен якобы тоже изучал этот текст). Как только Дракпа Гьелцен достиг совершеннолетия (определяемого по разным данным в интервале от двенадцати до двадцати пяти лет), он принял на себя ответственность за управление Сакьей. При этом немногочисленные свидетельства его усилий скорее говорят нам о том, что, когда Сонам Цемо находился в монастыре, Дракпа Гьелцен вынужден был пребывать в тени авторитета своего старшего брата75. В письме Сонама Цемо к Гьягому Цултрим-драку от 1165 года он выражает признательность своему младшему брату за то, что тот поощрял его к высказыванию своего собственного понимания ваджраяны. Похоже, что в период описываемых событий (а, вполне вероятно, что и в другие времена), перед тем, как в очередной раз вернуться к своему обучению у Чапы, Сонам Цемо в течение нескольких месяцев оставался в Сакье76.
Однако через некоторое время произошла очередная трагедия, и Дракпе Гьелцену снова пришлось выступать в роли устроителя еще одной грандиозной погребальной церемонии, на этот раз для Сонама Цемо, который скончался в 1182 году, когда Дракпе Гьелцену было около тридцати пяти лет. В соответствии с практикой приобретения заслуг он оплатил изготовление тридцати семь экземпляров «Совершенства мудрости в 100 000 строф», примерно восьмидесяти копий версии этого же священного писания в 25 000 строфах, пятидесяти экземпляров «Ратнакуты», написанного золотыми буквами текста «Совершенства мудрости в 8000 строф», а также множества других подношений. Дракпа Гьелцен также пережил и своего младшего брата Пелчена Опо (1150–1203), который был женат и произвел на свет двух сыновей. Для его погребальных обрядов он снова профинансировал копирование текстов в тех же объемах, что и в случае с погребальной церемонией своего старшего брата. Не вызывает сомнений, что погребальные церемонии имели особую значимость в жизни Дракпы Гьелцена, и именно по этой причине Сакья Пандита сделал их одним из важнейших аспектов религиозной деятельности своего дяди. Сакья Пандита сообщает, что в общей сложности его дядя преподнес в дар более 250 экземпляров «Совершенства мудрости в 100 000 строф», написанных чернилами, смешанными с порошком из драгоценных камней. Многие из этих писаний были изготовлены для посмертных ритуалов членов клана Кхон, и примерно в 1216 г. в главном храме Сакья все еще хранилась сотня таких копий77. Джецун Ринпоче (как теперь стал называться Дракпа Гьелцен) также спонсировал запись раннего канона золотыми буквами, причем это касалось как сутр, так и тантр. Когда мы видим такое покровительство копированию священных текстов и изготовлению многочисленных изображений, шелковых знамен, балдахинов и других культовых предметов, которые он подносил в дар в Сакье и многих других монастырях, то не приходится удивляться тому, что Дракпа Гьелцен особо прославился своей щедростью в служении делу буддизма. Сакья Пандита отмечал, что когда его дядя скончался, у него не осталось почти никакого имущества, кроме носимого им одеяния и нескольких личных вещей.
Как следует из цитаты в начале данной главы, Дракпа Гьелцен не любил путешествовать, и Сакья Пандита не упоминает ни одного другого места, где жил бы его дядя, кроме своего любимого монастыря. Однако, согласно другим источникам, Дракпа Гьелцен основал по крайней мере одно уединенное пещерное убежище в долине Мангхар, упоминаемое как в путеводителях паломников, так и в агиографии Царчена78. По всей вероятности, этот период (или периоды) затворничества пришелся на его зрелые годы, поскольку Дракпа Гьелцен в возрасте сорока восьми лет упоминал о ряде снов, в которых он взбирается на скалы, а также еще один сон, который он видел, пребывая на «полке» (уступе) в Мангхаре79. Вполне очевидно, что в данном случае речь не идет об еще одной уединенной обители, описываемой как «восточное отдаленное место» Гьянгдрака Ньипака, где в 1206 году он создал комментарий к «Йогинисанчара-тантре»80. Принимая во внимание его долгую жизнь и ограниченные перемещения, неудивительно, что Дракпа Гьелцен смог стать автором самого широкого профиля, затронувшим в своих работах практически все темы эзотерического канона и таким образом завершившим начатое его отцом и братом. В Таблице 9 перечислены те из его немногочисленных работ, которые содержат в своих колофонах точные или хотя бы приблизительные даты.
Таблица 9. Датированные работы Дракпы Гьелцена
|
Текст
|
Дата завершения
|
|
Khams bde dri ha’i nyams dbyangs
|
1171
|
|
Lam ‘bras brgyud pa’i gsol ‘debs
|
1174
|
|
dGa ‘ ston la spring yig
|
год мыши (1192?/1204/1216)
|
|
rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i ljon shing
|
к 1196 81
|
|
brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan
|
1204
|
|
bDe mchog kun tu spyod pa’i rgyud kyi gsal byed
|
1206
|
|
Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig
|
1206
|
|
‘Khor ‘das dbyer med tshig hyas rin chen snang ba
|
1206
|
|
‘Phags pa rdo rje gur gyi rgyan
|
1210
|
|
Rin chen snang ha shlo ka nyi shu pa’i rnam par ‘grel pa
|
1212
|
|
rJe btsun pa’i mnal lam
|
1213/1214
|
Как и в случае с его братом, мы не в состоянии отследить по датированным работам интеллектуальную эволюцию самого Дракпы Гьелцена. Ведь приведенные выше названия относятся лишь к малой части из примерно 150 приписываемых ему произведений, включенных в «Собрание сочинений наставников сакьи», приложение к нему, а также в «Желтую книгу» (Pod ser), которая в прямом смысле этого слова является величайшим вкладом Дракпы Гьелцена в систему ламдре. Однако, к двенадцатому столетию применение его наследия все больше и больше начало сужаться к использованию только в посвящениях отдельных линий традиции. А само понятие «ламдре» постепенно стало восприниматься как обобщающая рубрика эзотерического обучения, опирающегося на «Хеваджра-тантру» (в том виде, как ее преподавали в Сакье).
Если с творческим наследием Дракпы Гьелцена все более или менее понятно, то в описании его деятельности на благо других, а также его взаимоотношений с этими людьми содержится много неясного. В колофонах двух его работ указывается, что он занимался преподаванием (в особенности текстов тантр) своему юному племяннику Кунге Гьелцену, которому со временем было суждено стать Сакья Пандитой. Это обучение продолжалось с 1196 года и вплоть до перехода Кунги Гьелцена к новому наставнику Пан-чену Сакьяшри в первые годы тринадцатого столетия82. В течение этого времени Кунга Гьелцен изучил со своим стареющим дядей множество различных произведений, а отношения между ними стали предметом восторженных отзывов агиографов, перечислявших названия многочисленных предметов, которым пожилой мудрец обучал молодого ученого. Не вызывает сомнений, что этот список в немалой степени преувеличен, к примеру, мы практически не располагаем свидетельствами того, что Дракпа Гьелцен мог обучать своего племянника санскриту или ньингмапинским тантрам83. Точно так же, как повествование Сакья Пандиты о своем дяде задвигает учителей Дракпы Гьелцены в тень его отца Сачена, собственные агиографии Сакья Пандита выводят на передний план и ставят превыше всего обучение молодого ученого у своего дяди. Таким образом, определяющим фактором в обретении учености этими людьми становится их принадлежность к клану Кхон84.
Дракпа Гьелцен избегал дальних путешествий по окружавшему его миру. Однако, со временем мир сам пришел к нему, и Сакья оказалась вовлечена в большую геополитику того периода, точно так же, как Цурпу и другие монастыри кагьюпы тех времен. Объявив священную завоевательную войну, тюрки и афганцы заняли большую часть Северной Индии и двинулись на восток, разрушая по пути великие монастыри Бихара и Бенгалии. Западный Тарим был захвачен каракитаями в начале двенадцатого столетия, а Восточный Тарим испытал на себе растущее могущество тангутского государства, покорившего уйгуров Турфана в 1028 году. Тангутский император Жэньцзун был могущественным сторонником буддизма и, казалось, воплощал в себе образ дхармараджи.
Все эти и сопутствующие им факторы стали причиной ряда очень важных последствий. Самым значимым из них стало то, что в последней четверти двенадцатого и первой четверти тринадцатого столетий территория Цанга оказалась просто наводнена индийскими монахами. Это были времена, когда Сакьяшри, Вибхутичандра, Суматикирти и другие путешествовали по западным и южным районам Тибета, и Дракпа Гьелцен имел возможность принимать многих из них у себя в Сакье. Помимо прочего, он использовал присутствие индийских монахов для своего собственного обучения и уже в достаточно зрелом возрасте получил от них передачи по отдельным направлениям эзотерической литературы. Таким образом Дракпа Гьелцен получил от Джаяшрисены наставление по медитации Ваджраварахи, приписываемое Адваяваджре, при этом собрание его сочинений содержит и другие разрозненные индийские ритуальные тексты, вероятно, полученные им от самих индийцев или же от их непосредственных переводчиков85. Похоже, что именно в это время Дракпа Гьелцен под влиянием присутствия индийцев (как и его брат под влиянием непальцев) подписывался санскритским переводом своего именем: Киртидваджа. Однако, порой иностранцы отказывались следовать тибетскими обычаями почитания особо значимых учителей и признавать их высокое положение в тибетском обществе. К примеру, известен надежно засвидетельствованный эпизод, когда отдельные монахи, в том числе и Вибхутичандра, не желали падать ниц перед мирянином, которым в данном случае был сам Дракпа Гьелцен86. Им это запрещалось правилами Винаи, а почти двумя веками ранее, когда Виная была возвращена в Центральный Тибет из Цонкхи, данный вопрос был одной из главных причин конфликта между мирянами бенде и монахами Луме и Лотона.
В эти же времена в Центральный Тибет прибыло множество монахов из Тангутской империи, восточного Тибета, Ладакха, Кашмира и других мест. Особенно заметно было присутствие тангутов, что было вызвано их стремлением к продолжению своего религиозного образования под покровительством Жэньцзуна, чья сильная поддержка буддизма уже отмечалась при рассмотрении кагьюпы87. Примерно в это же самое время, по словам Кычанова, «знание тибетского языка и тибетских буддийских текстов стало обязательным для образованных буддистов Си Ся (т.е. страны тангутов), и во всех без исключения случаях это было непременным условием для занятия должности в управлении буддистской общиной»88. Поскольку Тибет стал безопасным убежищем для индийских монахов, тангутские монахи могли не только изучать эзотерическую литературу под руководством тибетцев, но и получать передачу самого последнего варианта Винаи – «среднюю» Винаю (har ‘dul), утвержденную в 1204 году и доставленную в Тибет Сакьяшри и его коллегами-пандитами. В 1745 году тибетский историк Цеванг Норбу заявлял, что эта последняя Виная была самой влиятельной из монашеских систем позднего распространения, гораздо более влиятельной, чем западная передача (stod ‘dul) через Гуге, и по факту соперничавшей с передачей Восточной винаи (smad ‘dul) Луме и его соратников89.
Приток иностранцев оказал непосредственное влияние на Сакью и совершенно иным образом. Одна из работ Дракпы Гьелцена, посвященная десяти видам эзотерической деятельности с использованием ритуалов, связанных с Ваджраварахи, была продиктована им тангуту Цинге-тонпу Гелонгу Шерап-драку90. Другой текст с конспектом ритуалов посвящения, включающий мандалы класса крия и чарья, был написан им для Цинге-тонпы Дулва-дзинпы, вероятно, еще одного тангута91. Очевидно, что словосочетание «Цинге-тонпа» (см. также рассмотренное ранее «Цами») обозначало что-то вроде «тангутского учителя», и наверное не будет преувеличением сказать, что тибетские труды двенадцатого столетия могут внести определенный вклад в наше понимание фонологии тангутов. Другие имена тех, кто запрашивал у него работы, к примеру, некого Цами или Малу-лотона Гелонга Кончок-драка, указывают на иностранное происхождение их обладателей, не говоря уже о монахах из Лле’у (вероятно, sLe’u, т.е. Лех или Ладакх), Цонкхи или Амдо92. Монахи Амдо были настолько выдающимися личностями, что один из них, похоже, даже построил монастырь в Цанге. Это подтверждается тем, что Дракпа Гьелцен, вероятно, еще на заре своей карьеры написал в Цонгкхе Гонпе для Вангчук-озера текст, посвященный основополагающим ритуалам93. Самый ранний датированный текст Дракпы Гьелцена по факту является песней постижения, написанной для Еше Дордже из Кхама в 1171 году и являющейся одним из самых первых в череде подобных произведений, созданных Дракпой Гьелценом94.
Среди местных деятелей одним из наиболее интересных корреспондентов Дракпы Гьелцена был Гах-ринг Гьялпо, которому Дракпа Гьелцен в 1206 году направил письмо с описанием своей генеалогии и который фигурирует в письме Сонама Цемо Гьягому Цултрим-драку от 1165 года95. В письме 1165 года говорится, что Гах-ринг Гьелпо преподнес Дракпа Гьелцену замечательный кусок китайского шелка. Такие подношения были знаками отличия и повышали значимость получателя в глазах его ближайших сверстников, что в данном случае имело особое значение, поскольку Дракпе Гьелцену тогда было всего около восемнадцати лет. Очевидно, Гах-ринг Гьелпо и Дракпа Гьелцен переписывались на протяжении всего периода деятельности этих великих наставников, поскольку их обмен письмами является самой продолжительной из всех известных нам переписок Дракпы Гьелцена. Другими значимыми фигурами в жизни великого сакьяпинского ламы, несомненно, были некоторые из его учеников, но за исключением нескольких имен мы мало что знаем об их личной жизни. Причиной этого является тот факт, что они были исключены из списков линии преемственности и записей традиции ради выдвижения на первый план Сакья Пандиты, чья ученая репутация и святость превзошли всех остальных в первой половине тринадцатого столетия.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Агиографии сиддхов, имеющие наибольшую значимость для школ кагьюпа и сакьяпа, содержат вполне очевидные идеи, которые должны передаваться их последователям посредством соответствующих линий преемственности. Прежде всего эти тексты, используя свои нарративы, создают культовые образы своих персонажей. Кроме того, в обоих случаях прототип, пока он находится в институциональной среде, представляет собой вторичную для целей повествования фигуру, поскольку, как нас уверяют, ни одна институция не может быть выше реального устремления к просветлению. Каждый из наших сиддхов изображается начавшим свой путь в качестве великого ученого-монаха, и закончившим его как садху-гуру. До того, как обрести истинную святость, они оба добились великих успехов в монашеской жизни, хотя их пробуждение в полной мере было связно с отказом от земной славы великих буддистских монастырей, освободившим их от бремени интеллектуальных устремлений и погони за религиозным авторитетом. Такой сценарий был необходим для того, чтобы облечь продвигаемое учение в мантию сотериологической аутентичности, поскольку в данных традициях статус и ученость сами по себе не считались признаком достоверности духовных достижений. Однако, во всем этом присутствует и более тонкий момент, поскольку оба они должны были обладать особо выдающимися качествами, чтобы суметь отказаться от своего высокого сана (а убедить себя в этом очень непросто) ради обретения возвышенного статуса йогина и наставника. Таким образом, религиозные достижения в мирской среде явились необходимым условием их успешности в качестве сиддхов.
Кроме того, в каждом случае прослеживается непосредственная связь между верховным гуру и божественной сферой: Телопа – это сам Ваджрадхара; Наропа был выведен из состояния самодовольства Джнянадакини; а Вирупа получил наставления напрямую от самой Найратмьи, которая даровала ему текст «*Маргапхалы» в качестве подтверждения своей милости и свидетельства его реализации. Здесь также присутствует фактор кармических элементов, которые должны правильно созреть, вследствие чего будет умилостивлено именно надлежащее божество (но при этом каждый должен сам прочувствовать какое). Итак, Наропа начинает свои искания с медитации на Хеваджру, но ему сообщают, что он должен отказаться от этой практики и вместо этого посвятить себя Чакрасамваре. У Вирупы противоположный случай: он начинает с неудачи в системе Чакрасамвары, после чего супруга Хеваджры (Найратмья) сообщает ему, что он должен сосредоточиться на ее практиках. Каждая из традиций институциализировала это преимущественное положение одной тантры и ее наставлений по отношению к другой, т.е. сакьяпа поддерживала особую значимость практик Хеваджры, продолжая при этом культивировать различные линии преемственности Чакрасамвары, а в случае с кагьюпой – все то же самое, но только наоборот.
Тем не менее, также немаловажны и различия этих систем, которые четко прослеживаются в самых повествованиях. Нет никаких сомнений в том, что отсутствие в агиографической истории кагьюпы явного упоминания о текстовом послании свыше стало причиной ее полной сосредоточенности на личностях и йогических системах. При этом в ней присутствует лишь косвенной акцент на священные и сопутствующие им тексты, используемые в соответствующих практиках. Вместо этого главное внимание сфокусировано на преданности учителю, выполнении сложных задач и практике интенсивных йогических упражнений, избегая слишком глубокого погружения в дебри священных текстов. Вследствие этого кагьюпинцы проявляли меньшую сдержанность в признании альтернативных источников духовности, что стало одним из факторов их вовлеченности в тибетский феномен открытия «текстов-сокровищ» (gter ma), причем следуя путем отличным от последователей сакьяпы. Сакьяпа же, напротив, подчеркивала выдающуюся значимость «Корня пути и его плодов» (Lam ‘bras rtsa ha; *Marga-phala-mula-sastra), т.е. текста, который, как считается, был вручен Вирупе во время божественного явленья Найратмьи. Следует отметить, что такая ориентация стала определяющим фактором очень консервативных взаимоотношений школы сакьяпа с буддистским миром за пределами ее собственных линий передачи. Однако, нельзя упускать из виду и общность этих двух школ, поскольку и сакьяпа, и кагьюпа приняли в качестве высшего стандарта духовности наставления по йогическим системам (как устные, так и письменные), а не тантрические священные тексты как таковые.
Всякий раз, описывая жизнь агиографического Вирупы, наставники «*Марга-пхалы», как правило, утверждают, что он обучал двух своих самых первых учеников по-разному: с учетом их различных потенциалов и выбирая для каждого вид наставления, соответствующего его потребностям. Это, безусловно, является старым буддистским принципом, и акцент на его применение к ученикам Вирупы соответствует фундаментальным основам эзотерической передачи, когда наставник дарует каждому отдельному человеку особое учение. То, как линия *марга-пхала/ламдре понимает этот принцип, следует из ее представления об особой значимости текста «*Марга-пхала», который, как считается, содержит то, что было передано Найратмьей Вирупе.
Тибетские авторы уверяют нас, что Домбихеруке была передана одна из версий учения *марга-пхалы, но при этом он не имел возможности получить соответствующий текст. Хотя точное содержание того, что в принципе могло быть передано в Индии, остается неясным, они упоминают три составляющие этой альтернативной передачи41. Во-первых, сообщается, что в систему Домбихеруки на самом деле входил определенный набор мандал Хеваджры, описанных в его «Шри-Хеваджрасадхане», т.е. тех мандал, которые, в конечном счете, стали стандартом для большей части наставлений по посвящениям и практикам в линиях передачи *марга-пхалы. Во-вторых, акцент на эти мандалы, ритуалы и медитативные системы был следствием обращения к ним на схоластическом уровне текстуального анализа. Учение «Хеваджра-тантры», «Ваджрапанджары», «Сампуты» и других священных текстов, которые передавались и преподавались в рамках ламдре, в данном случае считается непрерывной линией передачи, начатой Домбихерукой, но полученной от Вирупы. Наконец, краткое учение о процессе завершения, со временем ставшее вместе с другими вспомогательными практиками приложением к «Желтой книге» (pod ser), иногда включалось в состав этого экзегетического произведения. Как следствие, данная форма *марга-пхалы/ламдре называется «бескорневой ламдре» (rtsa ba med pa’i lam ‘bras), поскольку ее линия преемственности вслед за началом продолжалась без передачи «коренного текст» системы. Довольно любопытно, что по причине того, что данная линия в значительной степени опиралась на систему священных текстов, ее также называют «разъяснительной линией» ламдре (lam ‘bras bshad brgyud)42.
Канха, напротив, был учеником Вирупы, которому он, как считается, передал коренной текст *марга-пхалы (Илл. 2). Говорят, что Канха был одним из тех шиваитских йогинов, что подчинил себе Вирупа, и этому существуют косвенные подтверждения. В сборнике старинной бенгальской поэзии, который ныне известен как «Песни действия» (Caryagiti), Канха поет о том, что будучи буддистом, он все равно одевается как йогин-капалика. Не вызывает сомнений, что члены этой экстремальной шиваисткой секты также могли переходить в буддизм, хотя и неясно, как часто такое случалось. По всей видимости, существовало несколько сиддхов с именем Канха/Кришна, так что отождествление старого бенгальского поэта с учеником Вирупы вполне допустимо, хотя и не выглядит безусловным.
Илл. 2. Рисунок с изображением линии передачи *марга-пхала. По часовой стрелке от верхнего левого угла: Ваджрадхара, Найратмья, Канха, Вирупа. Тибет, вторая половина пятнадцатого века. Краски и роспись золотом на ткани, 57,5 х 50,2 см. © The Cleveland Museum of Art, 2004 г. Куплено у J. H. Wade Fund, 1960 г. 206 (рисунок совершенно неразборчив, поэтому привожу только подпись – прим shus).
Как бы ни трактовались линии передачи Домбихеруки и Канхи, важно осознавать, что посредством этой линеальной архитектуры наследие сиддхов представляется традицией как в текстуальном, так и в йогической формате. Когда в начале двенадцатого столетия появились первые разъяснения *марга-пхалы/ламдре, они уже содержали как нарративы антиномианистической деятельности сиддхов, так и ограничительные утверждения институционализированных писаний. Поскольку оба контента включали в себя эзотерические правила поведения (со ссылкой на обеты, ритуалы, выдержки из текстов традиции и т.п.), становится очевидным, что тибетское ламдре по сути объединяет в себе два основных направления эзотерической системы Индии. Таким образом, хотя и достаточно сложно установить историческую подлинность агиографической линии передачи на основании ее описания традицией, вполне очевиден тот факт, что ламдре в Тибете не могла возникнуть без всеобъемлющего участия в этом процессе эзотерического движения.
Наконец, представляя модель двойного происхождения своей линии передачи, система ламдре (как, впрочем, и все тантрические традиции), тем не менее стремилась создать свою концепцию адигуру (adiguru, изначальный гуру) – великого предка высшей линии передачи, и здесь в этом качестве выступает Вирупа. Таким образом, тантрическая система одновременно взывает и к биологической реальности физического родства, и вытеснят ее духовным наследием или эзотерическим родством. Последнее является следствием получения посвящения в мандале, когда человек наделяется духовной властью своим наставником (acarya), после чего заново рождается в семействе будды. Приведенные ниже строфы, бывшие популярными с восьмого по одиннадцатое столетия, декламируются в заключении как махаянского, так и ваджраянского ритуалов, причем в последнем случае ученик повторяет их после посвящения:
Сегодня мое рождение плодотворно, а моя жизнь благодатна.
Сегодня я родился в семействе Будды,
И я действительно сын Будды43.
При этом мастера ваджраяны в своей деятельности использовали индийские модели, основанные на статусе происхождения и связанном с ним праве на власть, поскольку социальное родство является стержнем кастовой системы и, соответственно, главным фактором при любой передаче власти от одного поколения к другому, будь то брахманы, декламирующие Веды, или наследный принц, коронуемый под эгидой своего отца. Последнее в качестве метафоры со временем стало использоваться в эзотерическом буддизме.
Соответственно, учеников, которые посвящались вместе, называли «ваджрными» братьями и сестрами (vajrabhatribhagini), обозначая таким образом их священный статус, поскольку слово «ваджра» часто ставилось в начале составного слова как знак того, что мирское именование теперь возвышено до освященного буддийского смысла44. Согласно наиболее важным правилам поведения они должны были воздерживаться от ссор и драк друг с другом, особенно когда собираются вместе на тантрическом празднестве45. В данном случае одной из целей этого мероприятия была ликвидация кастовой принадлежности членов сообщества с заменой ее на особую тантрическую идентичность, поскольку запреты на совместный прием пищи до сих пор остаются (наряду с браком и трудоустройством) главным фактором кастовых ограничений. Таким образом, на собрании членов ваджрной семьи все должны были употреблять пищу вместе, поскольку «нет ложных представлений об этой пище; брахман, собака и внекастовый едят вместе, ибо у всех них одна и та же природа»46.
Переопределение родовой принадлежности по духовному принципу было хотя и не полностью, все же достаточно эффективным. При этом, хотя в индийской тантрической литературе любят в первую очередь изображать тех, кто родился в высших кастах, насколько мы можем судить, каста не была препятствием для тантрического посвящения. Вполне возможно, что, как и в современном вишнуитском течении Рамананди, каста была важным фактором при принятии определенных институциональных решений типа: какой касты гуру; какова каста ученика; кто может стать настоятелем и т.п.47. Тем не менее, я не встречал свидетельств того, что в буддистской Индии каста (varna), родовая группа (jati), определенный клан (gotra) или местное семейство (kula) когда-либо получали исключительные права на институциональные назначения или же обладали особыми правами на исполнение ритуалов или получение статуса ученика.
Мы располагаем достаточным количеством упоминаний о различных внекастовых персонажах (Домбихерука, Кукури, Телопа), посвящавших людей из высших каст, и поэтому можем считать структуру тантрического буддизма умеренно эффективной в части противодействия чрезмерному акценту на принадлежность к определенной касте, являвшейся доминирующей парадигмой индийской общественной жизни. Этот момент представляется очень важным, поскольку в Центральном Тибете социальный статус семейства ламы со временем приобрел чрезвычайно высокую значимость, а получение власти над буддистскими структурами в конечном счете стало напрямую увязываться с обязательностью происхождения из аристократических кланов. Различный подход к вопросу социального происхождению на самом деле является одной из важнейших характеристик, отличающих тибетские религиозные институты от индийских. Этот факт выглядит еще более парадоксальным на фоне того, что в целом тибетское общество гораздо больше склонно к эгалитарности, чем индийское. Конечно, оно стало гораздо более буддистским, однако, приверженность клановой идентичности красной нитью проходит через большую часть тибетской религиозной жизни, даже при том, что тибетцы с этим боролись на протяжении всего периода возрождения.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Тибетцы многое унаследовали от древней династии, принесшей им международную известность и богатство, но фрагментарный характер религиозных традиций Центрального Тибета заставил их в конце десятого столетия искать более аутентичную форму буддистской практики. Учебная программа с опорой на махаяну и организация сообщества, основанная на винае, давали ощущение стабильности в окружавшем их мире стремительных перемен. Монахи Восточной винаи принесли с собой живое наследие раннего распространения Дхармы с его упором на изучение махаянских сутр, «Муласарвтистивада-винаю», сарвастивадинскую абхидхарму и труды йогачары. Благодаря своим правилам посвящения в монахи, возрожденная традиция позволяла вступать в ее ряды даже тем, кто не являлся отпрысками великих кланов, хотя по-прежнему давала ощущение власти и контроля членам этих кланов, доминировавших в ее руководстве. Монахи Восточной винаи следовали высоким моральным принципам, способствуя соблюдению как правил общественного порядка, так и этических норм поведения, которые в У-Цанге тех времен находились в постоянной опасности. Доступность для населения местных храмов, возведенных в каждой долине «четырех рогов» Тибета, означала, что утверждение гражданских добродетелей и религиозных ценностей осуществлялось посредством стратегии, основанной на демонстрации монашеского поведения как примера для подражания. Таким образом, монахи и их последователи-миряне стали для тибетцев ориентирами в части восстановления чувства собственного достоинства и возврата к добродетельной жизни.
К середине одиннадцатого столетия такие люди, как Драпа Нгонше, уже во всю осваивали практики древней тантрической системы. Одновременно с этим, другие, подобно Нгоку Лекпе Шерапу, были вовлечены в учебные планы кадампы, хотя при этом сохраняли принадлежность к линии Восточной винаи и соблюдали все ее организационные процедуры. В конечном счете, храмовая система Восточной винаи, чей рост подпитывался осознанием древности своих корней, стала основой для перехода к следующему этапа развития: эпохе великих переводчиков одиннадцатого столетия. На самом деле, главной движущей силой возрождения тибетской цивилизации была деятельность тибетских переводчиков индийской тантрической литературы, обладавших харизмой представителей новой религии и безусловным авторитетом, подпитываемым индийскими йогинами, имевшими собственный интерес в пропаганде их достижений. Махаянские учебные программы и старой Восточной винаи, и более новой кадампы имели слишком много недостатков и поэтому не могли стать главным знанием страны. Они не давали магической власти для защиты Тибета в отсутствие центрального правительства; они не освящали своих последователей, используя метафору владычества и монаршего статуса, как это делали тантрические системы; он не несли в себе описаний великих ритуалов обретения господства и власти, присутствовавших в тантрах; в них не было идеологии организации отдельного взаимосвязанного сообщества, которую можно было найти в описаниях тантрических мандал; и, наконец, они не предлагали своим последователям тайные йогические системы, претендующие на дарование состояния будды уже в этой жизни. Хотя все эти составляющие так или иначе присутствовали в старых тантрах, существовало множество замечаний относительно их подлинности, и некоторые из этих вопросов будут освещены далее в рамках рассмотрения культа переводчиков.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
 |
|
Карта 6. Западный Цанг и Восточный Лато
|
В конце концов, Дрокми вернулся в Центральный Тибет и обосновался в районе Лхаце. Через некоторое время он основал свой центр обучения в Мугулунге, расположенном в долине Мангкхар к югу от Лхаце. Затем он учредил монашескую общину и занялся привлечением к своей деятельности как покровителей, так и индийских пандитов, в число которых входил один из наиболее интересных персонажей одиннадцатого столетия Каястха Гаядхара (к нему мы вернемся позже). Почему Дрокми поселился в Мангкхаре и в частности в Мугулунге? Воспользовавшись Картой 6, мы увидим, что эта долина обращена на север, а протекающая по ней река Мангкхар-чу впадает в Цангпо – великую реку Брахмапутру, несущую свои воды с запада на восток вдоль северных предгорий Гималаев. Фактически, именно Брахмапутра и ее притоки задают географическую конфигурацию традиционного Центрального Тибета, поскольку большинство наиболее значимых коммерческих и религиозных объектов располагается в ее долине или в долинах, примыкающих к ней с севера и с юга. В нескольких километрах от устья Мангхар-чу ниже по течению Цангпо в нее впадает другая река под названием Трумчу, пересекающая в своих верховьях область Сакья. Еще ниже по течению находится район Лхаце, а к востоку от Лхаце расположен домашний храм Дрокми Дромпа-гьянг, который, вероятно, был основан в позднеимперский период.
Помимо своей ритуальной и мифологической значимости, эта территория была важна и с государственной точки зрения, что подтверждается ее присутствием в списках административных единиц периода имперской династии. Каждый из «четырех рогов» Тибета был разделен на десять «тысячных подразделений» (stong sde), и тремя из них в Цанге были Мангкхар, Лхаце и долина Дромпа, что указывает на их ценность для имперских военных и бюрократических чиновников41. Поскольку в «четырех рогах» Центрального Тибета в целом насчитывалось сорок «тысячных подразделений», можно смело предположить, что территория с примерно восемью процентами людских и экономических ресурсов очень значима для государства, а область Дромпа-Мангкхар-Лхаце «рога» Рулак была именно такой территорией. Большая часть этих земель была передана под контроль могущественных кланов Дро и Кхьюнгпо, которые и в более поздние времена продолжали проявлять чрезвычайный интерес к провинции Цанг, а генерал-губернаторами (ru dpon) здесь были грозные Дро Гьелцен Сенге и Кхьюнгпо Юи-сурпу42. Дромпа принадлежал к другому авторитетному семейству Че, которое известно своей активной позицией в деле защиты монастыря Шалу и «текстов-сокровищ» Ньинг-Тик43. Значимость Дромпы для империи сохранялась даже в период раздробленности, поскольку Пел Кхорцен останавливался в имперской резиденции в Дромпа-Лхаце для выполнения погребальных обрядов по своему отцу Осунгу во времена беспорядков, охвативших разделенное государство44.
Повышенное внимание империи к данной области было вполне обоснованным, т.к. торговые пути из Лхасы в Западный Тибет и оттуда в Кашмир и Западный Туркестан, а также из Лхасы в Непал и далее в Индию, шли вдоль Брахмапутры до Лхаце, где разветвлялись на запад и на юг. Это был стратегический пункт контроля как на маршрутах торговли солью, драгоценными металлами и другими предметами, так и на внутреннем транспортном пути Центрального Тибета. Поэтому, если бы Лхаце был захвачен армией Кашмира, Нгари или Непала, то это бы привело к краху всего У-Цанга. Кроме того, благодаря своим плодородным долинам, торговым связям и относительной близости к Непалу и Индии, эти места были более привлекательны для переводчиков одиннадцатого столетия, чем, например, Лхо-драк, где поселился Марпа. Тем не менее, Дрокми предпочел держаться в стороне от бурной жизни Дромпа-гьянга, поскольку такие древние храмы являлись хотя и очень престижными, однако, весьма политизированными местами, и в качестве наглядного примера здесь можно привести отношение монахов Восточной винаи к Самье. Видимо, поэтому Дрокми выбрал вполне разумную стратегию, которой ранее следовали индийские буддисты: он предпочел расположиться невдалеке от региональной столицы, но не в ней самой. Земля в таких местах не имела особой ценности, а религиозный персонал мог так же, как и в городе, претендовать на феодальные щедроты. При этом не было необходимости занимать чью-либо сторону в неизбежных ежедневных дрязгах, которые при феодальной системе могли привести к самым серьезным последствиям, включая потерю не только земель, но и жизни. Несмотря на то, что имперская система уже давно рухнула, эта область сохранила многое из древних клановых традиций и по-прежнему оставалась очень значимой для всего Тибета.
Как же выглядел Мугулунг, в те времена, когда там обосновался Дрокми? Я не нашел никаких записей, оставленных ранними сакьяпинцами или другими тибетскими авторами, в которых бы описывалась эта местность в одиннадцатом или двенадцатом столетиях. На самом деле Мугулунг – а это слово используется как для обозначение резиденции Дрокми, так и в качестве названия ответвления долины – расположен достаточно близко к Сакье. Путь между ними занимал всего лишь несколько дней, поэтому его описание, по всей видимости, считалось излишним45. При возникновении альтернативных институций, таких как, например, сакья, у представителей этих линий всегда возникало желание превратить свои новые религиозные сооружения в центры паломничества, и именно это являлось одной из основных причин появления хвалебных описаний таких объектов. Поэтому со временем путеводители стали включать Мугулунг в свои маршруты, хотя у них и вызывало огорчение отсутствие в таком значимом места физических останков какой-либо знаменитости. Кроме того, эта местность должна была способствовать успешной созерцательной практике, и нам известно, что у великого наставника сакьяпы Дракпы Гьелцена невдалеке от Сакьи была своя пещера для медитации46. В более поздние времена Мангкхар стал владением Царчена Лосела Гьямцо (1502-66), который был основателем линии царпа, являющейся одним из ответвлений ламдре, и которому приписывают разработку фундаментальной модели обучения этому направлению. В агиографии Царчена, написанной пятым Далай-ламой, указывается, что в долине Мангкхар было четыре утеса, и что Царчен впервые ушел в затвор около 1532 года в пещеру Дракпы Гьелцена, расположенную на западном утесе, известным под названием Чалунг Дордже-драк47. Царчен основал свой монастырь в непосредственной близости от старой обители Дрокми, и с этих пор резиденция Царчена в Туптене Гепеле и его могила в Даре Дронгмоче несколько затмили место жизни и деятельности Дрокми. Более поздние паломники из других регионов Тибета, такие как Джамьянг Кхьенце Вангпо или Ситу Чокьи Гьямцо, были разочарованы видом остатков религиозных сооружений в долине, где жил и занимался переводами Дрокми, поскольку, похоже, что он никогда не покидал пределы своей резиденции, располагавшейся в довольно-таки простых пещерных сооружениях48.
К счастью, сохранилось краткое руководство по паломничеству 1479 года. Оно было написано Джампой Дордже Гьелценом еще до того, как религиозное наследие Царчена начало доминировать в этой долине49. Как и в большинстве произведений такого типа, в нем приводятся самые причудливые этимологии названий, указываются конкретные чудотворные места и дается самое общее описание самой местности. В частности, в нем сообщается, что Мангкхар Мугулунг получил свое название в связи географическими особенностями долины. Название более крупной долины Мангхар с современного тибетского языка переводится как «множество крепостей», хотя первоначально оно могло означать «множество лагерей» (mang gar)50. От Лхаце долина Мангхар идет на юг, а после некоторого удаления от старого центра Лхаце разделяется на две, при этом главная долина продолжается на юг, а меньшая (собственно Мугулунг) поворачивает налево, на восток в сторону Сакьи. На развилке долин находится гора Мук-чунг, которая и дала названия меньшей долине. Хотя в путеводителе приводятся две другие этимологии названия долины, эта кажется наиболее убедительной, поскольку в основе тибетских топонимов часто лежат физические характеристики местности.
В другом месте наш добрый монах сообщает, что словосочетание «мугулунг» означает освобождение, поскольку освобождение – это «мукти» (mukti) на санскрите. В этом смысле гора Мукчунг являет собой скромный знак освобождения, отмечающий долину, где обретается освобождение. Джампе Дордже Гьелцену не так интересна другая популярная этимология указанного выражения, согласно которой тибетское слово «му» означает «конец» или «завершение» и указывает на цель Дхармы, т.е завершающее освобождение. Он явно очарован легендарными ассоциациями этой долины, в которой находится 108 мест практики, которые для достижения своих целей посещали 108 сиддхов. Точно так же здесь есть 108 монастырей, 108 деревень, 108 небольших рынков, 108 ивовых рощ и 108 водоворотов на реке, что указывает на священный характер этого места. Кроме того, к югу от долины находится высокая покрытая зеленью гора (spang ri), а рядом с ней – гора из голубого сланца (g.ya’ ri), свернувшаяся кольцом, как дракон, что указывает на присутствие здесь драконоподобных йогинов, как, впрочем, и многие другие религиозные знаки.
Однако, сердцем долины являются тринадцать пещер, большинство из которых связано с жизнью и деятельностью Дрокми и Гаядхары. Автор путеводителя сообщает, что великий переводчик впервые начал работать здесь в 1043 году, хотя, похоже, что это произошло несколько раньше. Самой впечатляющей среди них является «белая жилая пещера» (gzims khang dkar ma phug), которая на самом деле состоит из двух пещер: верхней и нижней. На верхнем уровне жил Гаядхара, а на нижнем – Дрокми. В путеводителе говорится, что в нижней части находилась выполненная из глины ростовая статуя Дрокми. В области сердца этой статуи была вмурована небольшая каменная фигурка Гаядхары, размером с кулак и с выступом на макушке. Также сообщается, что обе статуи заговорили во времена беспорядков, а долина пережила военные вторжения как из Центрального Тибета, так и неназванной «южной армии» (где-то перед 1479 годом). Помимо прочего, здесь находились: «пещера переводчиков» (sgra sgyur lo tsti phug), в которой были выполнены многие из известных переводов; «пещера посвящения» (dbang bskur byin brlabs phug), предназначенная для эзотерических посвящений; а также пещеры, ассоциируемые с дакини и учениями Махамудры. Кроме этого, путеводитель описывает пещеры, связанные с другими святыми подвижниками, среди которых самой значимой являлась пещера индийца Вираваджры (другое имя Праджнендраручи), который передал Дрокми экзегетический метод ламдре. Считается, что в этой пещере Вираваджра написал очень важную садхану к практике Хеваджры под названием «Блеск драгоценного камня» (Ratnajvalasadhana), пользующуюся огромным авторитетом в среде сакьяпы51. Наш монах уверяет, что Вираваджра прожил в ней три года, прибыв сюда из Индии на солнечном луче, что для таких личностей как он, наверное, является единственно достойным способом перемещения.
Библиография представлена в следующем порядке: индийские и якобы индийские источники, китайские источники, местные тибетские источники и источники на западных языках. Я отделил китайские канонические материалы от индийских и якобы индийских источников, потому что их сложно расположить в порядке индийского алфавита.
INDIC AND OSTENSIBLY INDIC SOURCES
Acintyadvayakramopadesa.
Ascribed to Kuddalapada. Edited with Guhyasiddhi, pp. 195-208. Translated by Ratnavajra and ‘Brog-mi Shakya ye-shes, LL XI.347-62. Translated by *Sukhankura and ‘Gos [Khug-pa lhas-btsas]; To. 2228. bsTan ‘gyur, rgyud, wi, fols. 99b5-i04b6.
Advayavajrasamgraha.
Edited by Haraprasad Shastri, 1927. GOS no. 40. Baroda: Oriental Institute.
Anavilatantraraja.
To. 414. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 259b3-6ib3.
Abhidharmakosabhasya.
Edited by Pralhad Pradhan, 1975. Abhidharmakosabhasyam of Vasubandhu.
Tibetan Sanskrit Works Series, vol. 8, 2nd rev. ed. Patna: K. P. Jayaswal Research Institute.
Abhidharmasamuccaya.
Edited by Pradhan Pralhad, 1950. Abhidharma Samuccaya of Asanga. Santiniketan: Visvabharati. To. 4049; T. 1605.
Abhidhanottara-tantra.
To. 369. bKa gyur, rgyud Turn, ka, fols. 24731-37037.
Abhisamayalamkara
Asc. Maitreya. Edited by Theodore Stcherbatsky and Eugene Obermiller, 1929. Abhisamayalamkara-Prajnaparamita-upadesasastra. Bibliotheca Buddhica 23.
St. Petersburg: Academy of Sciences of USSR.
Abhisamayalamkaraloka.
Asc. Haribhadra. Edited with Astasahasrika-prajnaparamita, pp. 267-558.
Amrtasiddhimula.
Asc. Virupa. To. 2285. bsTan ‘gyur, rgyud, zhi, fols. 142117-4531.
Amrtadbisthana.
Asc. Virupa. To. 2044. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, fols. I43a2-44a2.
Arthasastra.
Edited and translated by R. R Kangle, i960. The Kautiliya Arthasastra. University of Bombay Studies in Sanskrit, Prakrit, and Pali, nos. 1-3. Bombay: University of Bombay.
Avatamsaka-sutra.
278. To. 44. bKa ‘gyur, phal chen, vols. ka-ga.
Astasdhasrika-prajnaparamita-sutra.
Edited by P. L. Vaidya, i960. Astasdhasrwa Prajnaparamita with Haribhadra’s Commentary Called Aloka. Buddhist Sanskrit Texts no. 4. Darbhanga: Mithila Institute.
Arya-tathagatosnisasitatapatraparajita-mahapratyangiraparamasiddha-nama-dharani.
To. 591. bKa’ ‘gyur, rgyud Turn, pha, fols. iizby-iqwj.
A li ka li gsang ba bsam gyis myi khyab pa chu klung chen po’i rgyud.
In Dam chos snyingpo zhi byed las rgyud kyi snyan rgyud zab ched ma, vol. 1, pp. 6-114; 3 chaps, in gDams ngag mdzod, vol. 9, pp. 2-16.
Arya-Taramandalavidhi-sadhana.
Asc. *Sahajavilasa. To. 1705. bsTan ‘gyur, rgyud, sha, fols. 62a2-63b3-
Uddiyanasriyogayoginisvabhutasambhoga-smasanakalpa.
Asc. Birba-pa. To. 1744. bsTan ‘gyur, rgyud, sha, fols. mb6-i3b2.
‘Odgsal ‘char ba’i rim pa.
Asc. Virupa. To. 2019. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, fols. 8ob5-8ia6.
Olapaticatustaya.
Asc. Kanha. To. 1451. bsTan ‘gyur, rgyud, wa, fols. 355by – 58by.
Karmacandalika-dohakosa-giti.
Asc. Virupa. To. 2344. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fols. 2b7-3a5.
Kanhapadasya dohakosa.
Edited and translated by M. Shahidullah, 1928. Les Chants mystiques de Kanha et de Saraha – Les Doha-Kosa. Paris: Adrien-Maisonneuve. Edited by Prabodh Chandra Bagchi, 1935. Dohakosa. University of Calcutta Journal of the Department of Letters, vol. 28.
Kayavakcittatrayadhisthanoddesa.
Asc. Buddhajnanapada. To. 2085. bsTan gyur, rgyud, tsi, fol. i6ia6 – b5_
Kalacakra-tantra.
Edited by Biswanath Banerjee, 1985. A Critical Edition of Sri Kdlacakratantra- Raja (collated with the Tibetan version). Calcutta: Asiatic Society.
Kurukullesadhana.
To. 1319. bsTan ‘gyur, rgyud, ta, fols. 245a6-47a5.
Krsnayamari-tantra.
Edited by Samdhong Rinpoche and Vrajvallabh Dvivedi, 1992. Krsnayamari- tantram with Ratndvali Panjika of Kumaracandra. Rare Buddhist Text Series, no. 9. Sarnath: CIHTS.
Krsnayamaritantrapanjika.
Asc. Padmapani. To. 1922. bsTan ‘gyur, rgyud, bi, fols. 3^5-33737.
Kaumudipanjika.
Durjayacandra. To. 1185. bsTan ‘gyur, rgyud, ga, fols. xbi-58b4. bsKyed rim zab pa’i tshul dgus brgyan pa.
Asc. Padmavajra but written by Grags-pa rgyal-mtshan. Podser LL XI.419-41.
Khasama-tantraraja.
To. 386. bKa gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. I99a7-202ai.
Khrodhavijayakalpaguhyatantra.
1217. To. 604. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, vol. pha, fols. 269a3-8ya7; vol. ba, fols. ibi-35b7.
Gandavyuha.
Edited by Daisetsu Teitaro Suzuki and Hokei Itsumi, 1949. The Gandavyuha Sutra. 2nd rev. ed. Tokyo: Society for the Publication of Sacred Books of the World.
Guhyagarbha. Sri-Guhyagarbha-tattvaviniscaya.
To. 832. bKa’ ‘gyur, rnying rgyud, kha, fols. nobi-i32a7; Kaneko 1982, no. 187. Guhyatattvaprakasa.
Asc. Kanha. To. 1450. bsTan ‘gyur, rgyud, wa, fols. 349a3-55b7.
Guhyamani-tilaka-sutra.
To. 493. bKa ‘gyur, rgyud Turn, kha, fols. ii9b5-5ibi.
Guhyaratna.
Ascribed to Pandita Aksobhya. To. 1525. bsTan gyur, rgyud, za, fols. 82b6-83b2.
Guhyasamaja-tantra.
Edited by Matsunaga Yukei, 1978. Guhyasamaja Tantra. Osaka: Toho shuppan.
Guhyasiddhi.
Asc. Padmavajra. Edited by Samdhong Rinpoche and Vrajvallabh Dwivedi, 1987.
Guhyadi-Astasiddhi-Sangraha. Rare Buddhist Text Series, no. 1, pp. 5-62. Sarnath: CIHTS.
Gopalarajavamsavali.
Edited and translated by Dhanavajra Vajracarya and Kamal P. Malla, 1985.
Gopalarajavamsavali. Nepal Research Centre Publications, no. 9. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
dGongs ‘dus. Sangs rgyas kun gyi dgongs pa dm pa’i mdo chen po. Kaneko 1982, no. 160.
sGra thal gyur chen po rgyud.
Kaneko 1982, no. 155.
Cakrasamvara-tantra. Tantraraja-srilaghusamvara.
Edited by Janardan Shastri Pandey, 2002. Sriherukdbhidhanam Cakrasamvaratantram. 2 vols. Sarnath: CIHTS. To. 368. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, ka, fols. 2i3bi-46b7.
*Catuhkrama.
Asc. Kanha. To. 1451. bsTan ‘gyur, rgyud, wa, fols. 355b7-58b7.
Catuhpitha-mahayogini-tantraraja.
To. 428. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, nga, fols. i8iai-23ib5.
*Caturasitisiddhapravrtti.
Asc. Abhayadattasri. Pe. 5091. Edited and translated by James B. Robinson, 1979.
Candraguhya-tilaka-mahatantraraja.
To. 477. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, ja, fols. 247b4-303a7.
Caryagitikosa.
Edited and translated by Per Kvaerne, 1977. Anthology of Buddhist Tantric Songs: A Study of the Caryagiti. Det Norske Videnskaps-Akademi II Hist.- Filos. Klasse Skrifter Ny Serie, no. 14. Oslo: Universitetsforlaget. Edited by Nilratan Sen, 1977. Caryagitikosa facsimile ed. Simla: Indian Institute of Advanced Study.
Caryamelapakapradipa.
Asc. Aryadeva. Edited by Janardan Shastri Pandey, 2000. Caryamelapakapradipam of Acarya Aryadeva. Sarnath: CIHTS.
Cittaguhyadoha.
Asc. *DakinI. To. 2443. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fols. 6733-7137.
Chinnamundasadhana.
Asc. Birwa. To. 1555. bsTan ‘gyur, rgyud, za, fols. 2o6ai-8a4. See Nihom 1992.
mChod rten drung thob.
Asc. Nagarjuna but written by Grags-pa rgyal-mtshan. Podser LL XI.400-6.
Jnanatilaka-yoginitantraraja-paramamahadbhuta.
To. 422. bKa ‘gyur, nga, fols. 96b6-i36a4.
Jnanaprasthana.
- i543> 1544.
Jnanavajrasamuccaya.
To. 450. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, cha, fols. 1b1-35b7.
Jnanasiddhi.
Asc. Indrabhuti. Edited with Guhyasiddhi, pp. 93 – 157. Edited by Benoytosh
Bhattacharya, 1929. Two Vajrayana Works. GOS no. 44. Baroda: Oriental Institute.
Jnanodaya-tantra.
Edited by Samdhong Rinpoche and Vrajvallabh Dwivedi, 1988.Jnanodaya Tantram. Rare Buddhist Text Series, no. 2. Sarnath: CIHTS.
Jnanodayopadesa.
Asc. Kayastha Gayadhara. To. 15×4. bsTan ‘gyur, rgyud, zha, fols. 363b4-74b4.
Jnanolka-dharani-sarvagatiparisodhani.
To. 522. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, na, fols. 59a7-6ob4. T. 1397,1398.
rje btsun ma ‘phags pa sgrol ma’i sgrub thabs nyi shu rtsa gcig pa’i las kyi yan lag dang bcas pa mdo bsdus pa.
Asc. *Suryagupta [Nyi-ma sbas-pa]. To. 1686. bsTan ‘gyur, rgyud, sha, fols. ioa7-24b6.
rNying ma rgyud ‘bum.
mTshams-brag manuscript. 1981. The mTshams-Brag Manuscript of the rNying-ma rgyud ‘bum. 46 vols. Thimphu, Bhutan: National Library. gTing-slcyes manuscript. 1973/74. rNying ma rgyud ‘bum, The Collected Tantras of the Ancient School of Tibetan Buddhism. 36 vols. Thimbu, Bhutan: Dil mgo mkhyen brtse. See Kaneko 1982.
Dakarnava. Dakarnava-mahayoginitantraraja.
To. 372. bKa’ ‘gyur, rgyud Turn, kha, fols. I37ai-264b7-
Dakinyupadesasrotraparamparapidacchedanavavada.
Anon. To. 2286. bsTan ‘gyur, rgyud zhi, fols. i45ai-5oa2.
Tattvaratnavaloka.
Asc. Vagisvarakirti. Edited by Janardan Pandey, 1997. Bauddhalaghugrantha Samgraha, pp. 81-142. Rare Buddhist Text Series, no. 14. Sarnath: CIHTS. To. 1889.
Tattvasamgraha.
See Sarvatathagatatattvasamgraha.
Tantrarthavatara.
Asc. Buddhaguhya. To. 2501. bsTan ‘gyur, rgyud, ‘i, fols. ibi-9ib6.
Tantrarthavatara-vyakhyana.
Asc. Padmavajra. To. 2502. bsTan ‘gyur, rgyud, ‘i, fols. 9ib6-35ia7-
Tarka-jvala. Madhyamakahrdayavrtti-tarkajvala.
Asc. Bhavya. To. 2856. bsTan ‘gyur, dbu-ma, dza, fols. 4ob7-329b4.
Tripratyayabhasya.
To. 4432. bsTan ‘gyur, sna-tshogs, no, fols. I4ib7-49a7-
Trisattvasamadhisamapatti.
Asc. Buddhajnanapada. To. 2086. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, fols. i6ib5-62b5.
gTum mos lam yongs su rdzogs pa.
Asc. *Mahacarya-cirnavrata-Kanha but written by Grags-pa rgyal-mtshan. Pod ser LL XI.445-57.
Dasabhumika.
Edited by Kondo Ryuko, 1936. Dasabhumisvaro Nama Mahayanasutram. Rinsen Buddhist Text Series, no. 2. Reprint, Kyoto: Rinsen Book, 1983.
Divyavadana.
Edited by R L. Vaidya, 1959. BST, no. 20. Darbhanga: Mithila Institute.
Dohakosa.
Asc. Birba-pa. To. 2280. bsTan ‘gyur, rgyud, zhi, fols. I34ai-36a4.
Dravva-samgaha.
Asc. Nemicandra Siddhanta-cakravarttl. Edited and translated by Sarat Chandra Ghoshal, 1917. Dravya-samgraha. The Sacred Books of the Jainas, vol. 1. Arrah: Central Jaina Publishing House.
rDo rje sems dpa’ nam mkha ‘ che bram ze rgyas pa’i rgyud.
Kaneko 1982, no. 19.
brDa ngespar gzung ba.
To. 1214. bsTan gyur, rgyud, ja, fols. 3i4bi-i6a4.
Nikayabhedavibhanga-vyakhyana.
Asc. Bhavya. To. 4139. bsTan ‘gyur, ‘dul-ba, su, fols. I47a3-54b2.
Nilamatapurana.
Edited by K. de Vreese, 1936. Nilamata or Teachings of Nila – Sanskrit Text with Critical Notes. Leiden: Brill. See Ikari 1994.
Nepalavamsavali.
Edited by Kamal P. Malla, 1985. “Nepalavarhsavali: A Complete Version of the Kaisher Vamsavall.”Contributions to Nepalese Studies 12(2): 75-110.
Nairatmyayogi nisadhana.
Asc. Dombiheruka. To. 1305. bsTan ‘gyur, rgyud, ta, fols. 2i2b7-i5a7.
rNal ‘byor pa thams cad kyi de kho na nyid snang zhes bya ba grub pa rnams kyi rdo rje’i mgur.
Pseudo-Indie title: Yogasarvatattvaumutrialoka-vikalavajragiti. To. 2453. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fols. 92bi-ii5b3.
Pancakrama.
Asc. Siddha Nagarjuna. Edited by Mimaki Katsumi and Tomabechi Torn, 1994. Pancakrama – Sanskrit and Tibetan Texts Critically Edited with Verse Index and Facsimile Edition of the Sanskrit Manuscripts. 2 parts. Bibliotheca Codicum Asiaticorum 8. Tokyo: Centre for East Asian Cultural Studies for UNESCO.
Pramanavarttika.
Edited by Shastri Dharmakirti and Swami Dwarikadas, 1968. Pramanavarttika ofAcarya Dharmakirtti. Bauddha Bharati Series, no. 3. Varanasi: Bauddha Bharati.
Pramanaviniscaya.
Dharmakirti. To. 4211. bsTan ‘gyur, tshad-ma, ce, fols. i52bi-23oa7- See Steinkellner 1973.
Pramanasamuccaya.
Dignaga. To. 4203. bsTan ‘gyur, tshad-ma, ce, fols. ibi-i3a7. See Hattori 1968.
Phyag rgya chenpoyi ge medpa.
Asc. Vaglsvarakirti but written by Grags-pa rgyal-mtshan. Pod ser LL XI.4o6-ig
Phyag rgya i lam skor.
Asc. Indrabhuti. Pod ser LL XI.461-79.
*Biruvajragiti.
Asc. Virupa. To. 2356. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fol. 6b4-7.
Buddhakapala-tantra. Sri-Buddhakapala-yogini-tantra-raja.
To. 424. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, nga, fols. I43ai-67a5; Peking 63. bKa gyur, rgyud Turn, da, fols. I26b4-53a6.
Buddhakapalatantrapanjika Tattvacandrika.
Asc. Padmavajra. To. 1653 bsTan ‘gyur, rgyud, ra, fols. i5oa3-66a7.
Bodhicaryavatara.
Edited by P. L. Vaidya, i960. Bodhicaryavatara of Santideva, with the Commentary Panjika of Prajnakaramati. Buddhist Sanskrit Texts, no. 12. Darbhanga: Mithila Institute.
Bodhicittabhavana.
Asc. Manjusrimitra. To. 2591. Edited and translated by Norbu and Lipman, 1986.
Bodhicittavivarana.
Asc. Nagarjuna. To. 1800. Edited and translated by Lindtner, 1982.
Bodhipathapradipa.
Asc. Atisa Dlpamkarasrijnana. Edited by Helmut Eimer, 1978. See Davidson 1995-
Bodhisattvabhumi.
Edited by Unrai Wogihara, 1930-36. Bodhisattvabhumi: A Statement of Whole Course of the Bodhisattva (Being Fifteenth Section ofYogacdrabhumi). Reprint, Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store, 1971. To. 4037; T. 1579.
Bhiksavrtti-nama.
Asc. Dombipa. To. 1234. bsTan ‘gyur, rgyud, nya, fols. 67b7-7oa5.
Bhiksuvarsagraprccha.
To. 4133. bsTan ‘gyur, ‘dul-ba, su, fols. 66ai-7ob3.
Bhotasvamidasalekha.
Buddhaguhya. To. 4194. Dietz 1984, pp. 360-65.
Manjusrimulakalpa.
Ganapati Sastri, 1920. Aryamanjusrimulakalpa. Reprint, Trivandrum: C B H Publications, 1992. To. 543.
Manjusrinamasamgiti.
See Davidson 1981.
Madhyamakalamkara.
Asc. Santaraksita. To. 3884. bsTan ‘gyur, dbu-ma, sa, fols. 53ai – 56b3.
Madhyamakaloka.
Asc. Kamalasila. To. 3887. bsTan ‘gyur, dbu-ma, sa, fols. iT,^by-2/srya.y.
Madhyamakavatara.
Edited by Louis de la Vallee Poussin, 1907 – 12. Madhyamakavatara par Candrakirti. Bibliotheca Buddhica, no. 9. St. Petersburg: L’Academie imperiale des sciences. See Huntington 1989.
Madhyamakopadesa.
Asc. Atisa Dlpamkara. To. 3929. To. bsTan ‘gyur, dbu-ma, ki, fols. 95bi-96a7.
Madhyantavibhaga-tika.
Sthiramati. Edited by Ramachandra Pandeya, 1971. Madhyantavibhaga-sastra. Delhi: Motalal Banarsidass.
Mayamata.
Edited and translated by Bruno Dagens, 1970 – 76. Mayamata – Traite Sanskrit d’architecture. Publications de l’lnstitut fran^ais d’indologie no. 40-I and II. Pondichery: Institut francais d’indologie.
—. 1985. Mayamata – An Indian Treatise on Housing Architecture and Iconography.
New Delhi: Sitaram Bhartia Institute of Science 6c Research.
Mahakala-tantraraja.
To. 440. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ca, fols. 45b6-86ay.
Mahamdyatantra.
Edited by Samdhong Rinpoche and Vrajavallabh Dwivedi, 1992. Mahamayatantram with Gunavati by Ratndkarasanti. Rare Buddhist Text Series, no. 10. Sarnath: CIHTS.
Mahamudratilaka. Sri-Mahamudratilaka-mahayogini-tantrarajadhipati.
To. 420. bKa’ gyur, rgyud ‘bum, nga, fols. 66zi-goby.
Mahayana-sutralamkara.
Asc. Maitreya. T. 1604. To. 4020. Edited by Levi 1907.
Mahavairocanabhisambodhitantra.
Extended title: Mahavairocanabhisambodhi-vikurvitadhisthana-vaipulyasutrendraraja-nama-dharmaparyaya. To. 494. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, tha, fols. i5ib2-26oa7; T.848.i8.ia-55a.
Mahavyutpatti.
Edited by Sasaki Ryozaburo, 1916-25. Mahavyutpatti: Bonzo Kanwa shigaku taiko Mahawyuttpattei. 2 vols. Kyoto.
Mahasamghika-vinaya.
- 1425.
Mulamadhyamakakarika.
Edited by Louis de la Vallee Poussin, 1903-13. Mulamadhyamakakarikas de Nagarjuna avec la Prasannapada commentaire de Candrakirti. Bibliotheca Buddhica, ho. 4. St. Petersburg: L’Academie imperiale des sciences.
Mulasarvastivada Vinaya.
To. 1-7. Edited by Nalinaksha Dutt, 1947-50. Gilgit Manuscripts. Vol. 3, parts 1-4. Srinagar: Research Department. Edited by Raniero Gnoli, 1977. The Gilgit Manuscript of the Sanghabhedavastu. SOR, vol. 49, 2 parts. Rome: ISMEO. Edited by Raniero Gnoli, 1978. The Gilgit Manuscript of the Sayandsanavastu and the Adhikaranavastu. SOR, vol. 50. Rome: ISMEO.
Mrcchakatika.
Edited by M. R. Kale, 1924. The Mrichchhakatika of Sudraka. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 1988.
Mrtyuvancanopadesa.
Asc. Vaglsvarakirti. To. 1748. bsTan ‘gyur, rgyud, sha, fols. n8b7-33b3.
rDzogs pa chen po lta ba’i yang snying \ sangs rgyas thams cad kyi dgongs pa \ nam mkha’ klong yangs kyi rgyud.
Kaneko 1982, no. 114.
Yamantakavajraprabheda-nama-mulamantrartha.
Asc. *Vilasavajra. To. 2014. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, fols. ibi-69a7.
Yamariyantravali.
Asc. Virupa. To. 2022. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, fols. 85ai-88a4.
Ye shes kyi mkha ‘gro ma sum cu rtsa lnga’i rtogs pa brjod pa.
Anon. To. 2450. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fols. 8sb6-88ai.
Yogacarabhumi.
Partially edited by Vidhushekhara Bhattacharya, 1957. TheYogacarabhumi of Acarya Asanga. Calcutta: University of Calcutta. See Bodhisattvabhumi and Sravakabhumi. To. 4035-4042. T. 1579.
Yogimsancaratantra.
Edited by Janardan Shastri Pandey, 1998. Yoginisancaratantram with Nibandha of Tathagataraksita and Upadesanusarinivyakhya of Alakakalasa. Rare Buddhist Texts Series, no. 21. Sarnath: CIHTS.
Yon po bsrang ba’i gdams ngag.
Asc. Acyuta-Kanha but written at Sa-skya. Pod ser LL XI.457-61.
Raktayamantakasadhana.
Asc. Virupa. To. 2017. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, fols. jeh^-yfoy.
Raktayamarisadhana.
Asc. Srlvirupa. To. 2018. bsTan gyur, rgyud, tsi, fols. 78ai-8ob5.
Raktayamarisadhana.
Asc. Buddhajnanapada. To. 2084. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, fols. i6oa6-i6ia5.
Ratnakuta.
310. To. 45-93.
Ratnagotravibhdga.
Edited by E. H. Johnston, 1950. Ratnagotravibhdga Mahayanottaratantrasastra. Patna: Bihar Research Society. See Takasaki 1966.
Ratnajvalasadhana.
Asc. Prajnedraruci. To. 1251. bsTan ‘gyur, rgyud, nya, fols. 21433-41132.
Rahasyanandatilaka.
Asc. Mahamati. To. 1345. bsTan ‘gyur, rgyud, ta, fols. 359136-6637.
Rajatarangini.
Edited and translated by Marc Aurel Stein, 1892. Kalhana’s Rajatarangini or the Chronicle of the Kings of Kashmir. Bombay. M. A. Stein, 1900. Kalhana’s Rajatarahgini, a Chronicle of the Kings of Kashmir. 2 vols. Westminster.
Rig pa rang shar chen po’i rgyud.
A-‘dzom chos-gar xylographic ed. rNying-ma’i rgyud bcu bdun. Vol. 1, pp. 389855. New Delhi: Sanje Dorje, 1977. rNying ma rgyud ‘bum, gTing-skyes manuscript, vol. 10, pp. 2-334; Kaneko 1982, no. 153; mTshams-brag manuscript, vol. 11, pp. 323-699.
Re ma ti srog sngags kyi rgyud kyis rgyalpo.
Samten 1992, Phug-brag no. 772.
Lahkavatara-sutra.
Edited by Nanjio Bunyiu, 1923. Reprint, Bibliotheca Otaniensis, vol. 1. Kyoto: Otani University Press, 1956.
Lam ‘bras bu dang bcas pa’i gdams ngag dang man ngag tu bcaspa.
Asc. Vinipa. To. 2284. bsTan-‘gyur, rgyud, zhi, fols. I39a6-42b7. See app. 2.
Lalitavistara.
Edited by P. L. Vaidya, 1958. Lalita-Vistara. Buddhist Sanskrit Texts, no. 1. Darbhanga: Mithila Institute.
Vajradaka-mahatantraraja.
To. 370. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, kha, fols. 1b1-125a7
Vajrapanjara. Arya-Dakinivajrapanjara-mahatantrarajakalpa.
To. 419. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, nga, fols. 3oa4-65b7.
Vajrapany-abhiseka-mahatantra.
To. 496. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, da, fols. ibi-i56b7.
Vajrabhairavasadhanakarmopacara-sattvasamgraha.
*Amoghavajra. To. 1982. bsTan ‘gyur, rgyud, mi, fols. I59b5-66a7.
Vajramandalavidhipusti-sadhana.
Asc. *Vilasavajra. Rang zom chos bzanggi gsung ‘bum, vol. 1, pp. 355 – 67.
Vajrayanasthulapatti.
Attributed to Nagarjuna. To. 2482. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fols. 180a2-b3.
*Vajrayanamulapattitika, [rDo rje theg pa’i rtsa ba’i ltung ba’i rgya cher ‘grel pa\.
To. 2486. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fols. i85a7-92b6.
Vajrayanamulapattitika-margapradipa.
Manjusrikirti. To. 2488. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fols. I97b7-23ib7. Vajraviddrana-dharani.
To. 750. Edited by Iwamoto Yukata, 1937. Kleinere Dharani Texte. Vol. 2, pp. 7-9. Kyoto.
Vajrasekhara-mahaguhyayogatantra.
To. 480. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, nya, fols. 14 2bi-27435.
Vasantatilaka.
Asc Krsnacarya. Edited by Samdhong Rinpoche and Vrajavallabh Dwivedi, 1990. Sarnath: CIHTS.
Vidyadharikeli-srivajravarahi-sadhana.
Asc. Advayavajra. SKB IV.28.4.3-29.2.3.
Vinaya-sutra.
Asc. Gunaprabha. To. 4117. Partially edited by P.V. Bapat and V.V. Gokhale, 1982. Vinaya-sutra and Auto-commentary on the Same. Patna: K. P. Jayaswal Research Institute.
Vimalaprabha.
Edited by Jagannatha Upadhyaya, 1986. Bibliotheca Indo-Tibetica Series, no. 11. Edited by Vrajavallabh Dwivedi and S. S. Bahulkar, 1994. Rare Buddhist Texts Series, nos. 12,13. 3 vols. Sarnath: CIHTS.
Viruapadacaurasi.
Asc. Virupa. To. 2283. bsTan gyur, rgyud, zhi, fols. 13834-3936.
*Virupagiti. Bir ru pa’i glu.
To. 2369. bsTan ‘gyur, rgyud, zi , fols. 9a5-9b1; Pe. 3197. rgyud-‘grel vol. tshi 11a5 -11b1.
Vairocanabhisambodhitantrapindartha.
Buddhaguhya. To. 2662. bsTan gyur, rgyud, nyu, fols. 1-653.
Sravakabhumi.
Edited by Karunesha Shukla, 1973. Sravakabhumi of Acarya Asanga. Tibetan Sanskrit Works Series, vol. 14. Patna: K. P. Jayaswal Research Institute.
Sri-Agnimalatantraraja.
To. 407. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 244b1-45b6.
Sri-Guhyasamajasadhana-siddhasambhava-nidhi.
Asc. Vitapada. To. 1874. bsTan ‘gyur, rgyud, pi, fols. 1b1-69b6.
Sri-Cakrasamvaraguhyacintyatantraraja.
To. 385. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 19631-9931.
Sri-Jnanajvala-tantraraja.
To. 394. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 22231-2337.
Sri-Jnanarajatantra.
To. 398. bKa ‘gyur, rgyud “bum, ga, fols. 22932-3032.
Sri-Jnandsayatantraraja.
To. 404. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 239ai-39b7.
Sri-Jvalagniguhyatantraraja.
To. 400. bKa ‘gyur, rgyud Turn, ga, fols. 23^54-3335.
Sri-Dakarnava-mahayoginitantraraja-vahikatika.
Asc. Padmavajra. To. 1419. bsTan ‘gyur, rgyud, dza, fols. ibi-3i8a7.
Sri-Dakinisamvaratantra.
To. 406. bKa gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 242b7-44a7.
Sri-Mahakhatantraraja.
To. 387. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 202a2-3bi.
Sri-Mahasamayatantra.
To. 390. bKa’ ‘gyur, rgyud Turn, ga, fols. 2^4-1633.
Sri-Ratnajvalatantraraja.
To. 396. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 224b4-2yb2.
Sri-Vajradakinigita.
Ascribed to *Dhatujyestha (dbyings kyi gtso mo). To. 2442. bsTan ‘gyur, rgyud, zi, fols. 64b7-67a2.
Sri-Vajrabhairavavidaranatantraraja.
To. 409. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols.24734-4831.
Sri-Smasanalamkaratantraraja.
To. 402. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 23535-3735.
Sri-Sahajapradipa-panjika.
Ascribed to *Vajragupta. To. 1202. bsTan ‘gyur, rgyud, ja, fols. 160a1-208b1.
Sri-Suryacakratantraraja.
To. 397. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 227b3-29a2.
Sri-Hevajrapanjika muktikavali.
Asc. Ratnakarasanti. To. 1189. Edited by Ram Shankar Tripathi and Thakur Sain Negi, 2001. Hevajratantram with Muktavalipanjika of Mahapanditacarya Ratnakarasanti. Bibliotheca Indo-Tibetica Series, no. 68. Sarnath: CIHTS.
Sri-Hevajrapradipasulopamavavadaka.
Asc. *Saroruhavajra. To. 1220. bsTan ‘gyur, rgyud, nya, fols. i9a7-2ob6.
Sri-Hevajrasadhana.
Asc. Dombi-pa. To. 1232. bsTan ‘gyur, rgyud, nya, fols. 45a4-48a1.
Sri-Hevajrabhisamayatilaka.
Asc. Sakya srung-ba. To. 1277. bsTan ‘gyur, rgyud, ta, fols. 10536-3036.
gShin rje gshed kyi yid bzhin gyi nor but phreng ba zhe bya ba’i sgrub thabs. Anon. To. 2083. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, 159a7-60a6.
Sadangasadhana.
Asc. *Durjayacandra. To. 1239. bsTan ‘gyur, rgyud, nya, fols. 126132-3033.
Saddharmopadesa.
Asc. Tillipa. To. 2330. bsTan ‘gyur, rgyud, zhi, fols. 27037-7133. Also in gDams ngag mdzod, vol. 5, pp. 106-7.
Samvaravyakhya.
Asc. Kanha. To. 1460. bsTan ‘gyur, rgyud, zha, fols. 6a3-10b7.
Samvarodaya-tantra.
To. 373. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, kha, fols. 26531-31136. Edited and translated by Shinichi Tsuda, 1974. The Samvarodaya-Tantra – Selected Chapters. Tokyo: Hokuseido Press.
Satyadvayavibhanga.
Edited and translated by Malcolm David Eckel, 198j. Jnanagarbha’s Commentary on the Distinction Between the Two Truths. Albany: State University of New York Press.
Sandhivyakarana-tantra.
To. 444. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ca, fols. I58ai-207b7.
Saptanga.
Attributed to Vagisvarakirti. To. 1889. bsTan ‘gyur, rgyud pi, fols. 203a3-4b4.
Samadhiraja-sutra.
Edited by P.L. Vaidya, 1961. Buddhist Sanskrit Texts, no. 2. Darbhanga: Mithila Institute.
Samputa-tantra. Samputodbhava.
To. 381. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 73bi-i58b7; Pe. 26. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. 244a2-330a5. Partially edited by Tadeusz Skorupski, 1996.
Samputa-tilaka.
To. 382. bKa’ ‘gyur, rgyud ‘bum, ga, fols. ^<^7-8437; Pe. 27. bKa gyur rgyud ‘bum, ga, fols. 33035-5736.
Sarahapadasya dohakosa.
C. Bagchi, 1935; M. Shahidullah, 1928; see Kanhapadasya dohakosa.
Sarvatathagatatattvasamgraha.
Edited by Yamada Isshi, 1980. Sarva-tathagata-Tattvasangraha: A Critical Edition Based on a Sanskrit Manuscript and Chinese and Tibetan Translations. New Delhi: International Academy of Indian Culture. Reprinted with errors by Chandra Lokesh, ed., 1987. Sarva-Tathdgata-Tattva-Sangraha. Delhi: Motilal Banarsidass, 1987. To. 479; T. 882.
Sarvadurgatiparisodhana-tantra.
Edited and translated by Tadeusz Skorupski, 1983. The Sarvadurgatiparisodhana Tantra – Elimination of All Evil Destinies. Delhi: Motilal Banarsidass.
Sarvabuddhasamayoga, or Sarvabuddhasamayoga-dakinijala-sambara-nama-uttara-tantra. (longer recension)
To. 366. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ka, fols. 151b1-93a6.
Sarvabuddhasamayoga-ganavidhi.
Asc. Indrabhuti. To. 1672. bsTan ‘gyur, rgyud, la, fols. I95a7-99a4.
Sarvabuddhasamayoga-tantraraja. (shorter recension)
rNying ma rgyud ‘bum, mTshams-brag ms., vol. tsha, fols. 1b1-26a7- Kaneko 1982, no. 207.
Sahajasiddhi.
Asc. Indrabhuti. To. 2210. bsTan ‘gyur, rgyud, zhi, fols. ibi-4a3; Pe. 3107. bsTan ‘gyur rgyud-‘grel, tsi, fols. 1b1-4b7.
Sahajasiddhi.
Asc. Dombiheruka. In Malati J. Shendge, ed. and trans., 1967. “Srisahajasiddhi,”IIJ10 (1967):126-49. Edited with the Guhyasiddhi, pp. 181 – 91.
Sahajasiddhi.
Asc. Dombiheruka. Pod ser LL XI.387-95.
Sahajasiddhipaddhati.
Asc. Lha-lcam rje-btsun-ma dpal-mo (? = *Devibhattarikasri). To. 2211. bsTan ‘gyur, rgyud, zhi, fols. 4a3-25a1; Pe. 3108. bsTan ‘gyur, rgyud-‘grel, tsi, fols. 4b8-29a7.
Sadhanamala.
Edited by Benoytosh Bhattacharya, 1925. GOS nos. 26, 41. 2 vols. Baroda: Oriental Institute.
Sunisprapancatattvopadesa.
Asc. Virupa. To. 2020. bsTan ‘gyur, rgyud, tsi, fols. 8:^7-8436.
Suparigraha-mandalavidhi-sadhana.
Asc. Durjayacandra. To. 1240. bsTan ‘gyur, rgyud, nya, fols. i3oa3-54a7.
Sekaprakriya.
To. 365. bKa ‘gyur, rgyud ‘bum, ka, fols. i46a7-5oa7-
Hevajra-tantra.
Edited and translated David L. Snellgrove, 1959. The Hevajra Tantra: A Critical Study. 2 vols. London Oriental Series, vol. 6. Oxford: Oxford University Press. Includes the Yogaratnamala of Kanhapada.
Hevajrasadhana.
Asc. Manjusrijnana. To. 1301. bsTan ‘gyur, rgyud, ta, fols. I99b6-205b2.
CHINESE SOURCES
Datang xiyu ji.
Xuan-zang.T2087.51. See Beal 1869.
Datang xiyu qiufa gaoseng zhuan.
Yijing. T.2o66.5i.ia-i2b. See Lahiri 1986.
TIBETAN SOURCES
Kah thog si tu’i dbus gtsang gnas yig.
Si-tu-pa Chos kyi rgya-mtsho. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1999.
Kun rig gi cho ga gzhan phan ‘od zer.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.199.1.1-228.1.6.
Kye rdo rje’i ‘grel ba’i dkar chag.
Ngor-chen Kun-dga’ bzang-po. SKB IX.284.4.1-85.1.2.
Kye rdo rje’i byung tshul.
Ngor-chen Kun-dga’ bzang-po. rGyud kyi rgyal po dpal kye rdo rje’i byung tshul dang brgyud pa’i bla ma dam pa rnams kyi rnam par thar pa ngo mtshar rgya mtsho. SKB IX.278.1.1-84.3.3.
Kye rdo rje’i rtsa rgyud brtaggnyis kyi dka’ ‘grel.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. SKB I.78.4.1-122.4.6.
Kye rdor lus dkyil gyi dbanggi by a ba mdor bsdus pa.
Attributed to bLa-ma Sa-chen-pa. Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’igsung maphyi gsar myed, vol. 1, pp. 7-20.
kLog skya ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. gZhung rdo rje’i tshig rkang gi ‘grel pa mal ‘byor dbang phyug dpal sa skya pa chen po la klog skya dbang phyug grags kyis zhus pa. LL XXVII.191-395. MS. facsimile published in gZun bsad Klog skya ma and Other Related Esoteric Sa-skya-pa Texts, pp. 1-345. See app. 3.
kLong chen chos ‘byung.
Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe snying dpe skrung khang, 1991.
dKar brgyud gser ‘phreng.
rGyal-thang-pa bDe-chen rdo-rje. Dkar-brgyud Gser-‘phren: A Thirteenth- Century Collection of Verse Hagiographies of the Succession of Eminent Masters of the ‘Brug-pa Dkar-brgyud-pa Tradition. Tashijong: Tibetan Craft Community, 1973.
dKar chag ldan dkar ma. Pho brang stod thang ldan dkar gyi chos ‘gyur ro cog gi dka chag.
To. 4364. See Lalou 1953.
bKa‘ ‘chems ka khol ma.
Edited by sMon-lam rgya-mtsho. Lanzhou: Kan su’i mi rigs dep skrun khang, 1989.
bKa thang sde lnga.
U-rgyan gling-pa. Edited by rDo-rje rgyal-po, 1986. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.
bKa gdams chos ‘byung.
A-mes Zhabs. dGe ba’i bshes gnyen bka’ gdams pa rnams kyi dam pa’i chos byung ba’i tshul legs par bshad pa ngo mtshar rgya mtsho. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1995.
bKa ‘gdams rinpo che’i chos ‘byung.
bSod-nam lha’i dbang-po. In Gonpo Tseten, ed., Two Histories of the Bka’-gdams-pa Tradition from the Library of Burmiok Athing, pp. 207-393. Gangtok: Palace Monastery, 1977.
bKa ‘gdams gsar rnyinggi chos ‘byung.
Pan-chen bSod-nams grags-pa. Edited with bKa gdams rin po che’i chos ‘byung, in Tseten, ed., Two Histories, pp. 1-205.
bsKyed rim gnad kyi zla zer.
Ngor-chen Kun-dga’ bzang-po. SKB IX.173.4-277.
bsKyed rim gnad kyi zla zer la rtsodpa spong ba gnad kyi gsal byed.
Go-rams bSod-nams seng-ge. Go rams bka ‘bum, vol. 12, pp. 557 – 693.
Kha rag gnyos kyi rgyudpa byon tshul mdor bsdus.
Edited by Khedup Gyatso, 1978. The History of the Gnos Lineage of Kha-Rag, pp. 1-96. Dolanji: Tibetan Bonpo Monastic Centre.
Khams bde dri ba’i nyams dbyangs.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.347.1.1-3.6.
mKhas grub khyungpo rnal ‘byor gyi rnam thar.
Edited by bSod nams tshe brtan, 1996. Shangspa bka’ brgyud pa bla rabs kyi rnam thar, pp 3-62. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.
mKhas pa ldeu chos ‘byung.
Edited by Chab-spel tshe-brtan phun-tshogs and Nor-brang o-rgyan, 1987. mKhas pa lde’us mdzad pa’i rgya bod kyi chos ‘byung rgyaspa. Lhasa: Bod ljongs mi rigs dpe skrun khang.
mKhas pa’i dga’ ston.
dPa’ bo gtsug lang phreng ba. Dam pa’i chos kyi ‘khor lo bsgyur ba rnams kyi byung b a gsal bar byed pa mkhas pa’i dga’ ston. 2 vols. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 1986.
‘Khor ‘das dbyer med tshig byas rin chen snang ba.
Grags-pa rgyal-mtshan. Pod ser, pp. 191-94.
Ga ring rgyalpo la rtsis bsdur du btang ba’I yi ge.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.104.1.6-4.6.
Gang zagg zhung ji lta ba bzhin du dkri ba’i gzhung shing.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. Pod ser, pp. 300-14.
Gu bkra’i chos ‘byung.
Gu-ru bKra-shis. Edited by rDo-ije rGyal-po, 1990. bsTan pa’i snying po gsang chen snga ‘gyur nges don zab moi chos kyi byung ba gsal bar byed pa’i legs bshad mkhas pa dga bnyed ngo mtshar gtam gyi rol mtsho. Beijing: Krung go’i bod kyi shes rig dpe skrun khang.
Go rams bka’ ‘bum.
The Collected Works of Kun-Mkhyen Go-Rams-pa Bsod-Nams-Seng-Ge. 13 vols. Rajpur: Sakya College, 1979.
Gong tu ma bstan pa’i rdo rje slob dpon gyi dbanggi tho.
Anonymous but probably by Sa-chen Kun-dga’ snying-po. Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung maphyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 21-25.
Grub chen bcu.
Asc. Sa-skya Pandita. SKB V.349.3.6-53.2.1.
gLegs bam gyi dkar chags.
Grags-pa rgyal-mtshan. gSung ngag rinpo che lam ‘bras bu dang bcas pa’i don gsal bar byedpa glegs bam gyi dkar chags. LL XI. 1-8.
dGag lan nges don ‘brug sgra.
Sog-zlog-pa bLo-gros rgyal-mtshan. gSang sngags snga ‘gyur la bod du rtsod pa snga phyir byung ba rnams kyi lan du brjod pa nges pa don gyi ‘brug sgra. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1997.
dGa’ston la spring yig.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.272.3.6-74.3.2.
rGya sgom tshul khrims grags la spring ba.
bSod-nam rtse-mo. SKB II.39.2.4-4.4.
rGya bod kyi sde pa’i gyes mdo.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.296.4.2-98.3.3.
rGya bod yig tshang chen mo.
sTag-sthang rdzong-pa. Cheng-du: Sichuan min zu chu ban she, 1985.
rGyalpo bka’i thangyig.
In bKa’ thang sde lnga, pp. 85-227.
rGyalpo gope la sras dang btsun mor bcas la shing moyos sogs la gnang ba’i bkra shis kyi tshigs bead rnams.
Asc. ‘Phags-pa bLo-gros rgyal-mtshan.
SKB VII.300.2.5-10.2.5.
rGyal po la gdams pa’i rab tu byed pa’i rnam par bshad pa gsung rab gsal ba’i rgyan.
By Shes-rab bzhon-nu under the direction of Phags-pa bLo-gros rgyal-mtshan. SKB VII.90.4.1-108.4.6.
rGyal bu byang chub sems dpa la gnang ba’i bka yig.
Asc. ‘Phags-pa bLo-gros rgyal-mtshan. SKB VII.238.2.3-4.4.
rGyal rabs gsal ba’i me long.
bLa-ma dam-pa bSod-nams rgyal-mtshan. In B.I. Kuznetsov, ed., 1966. Rgyal Rabs Gsal Ba’i Me Long (The Clear Mirror of Royal Genealogies). Scripta Tibetana, no. 1. Leiden: Brill. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 1981. See Sorensen 1994.
rGyud kyi rgyalpo chen po sam pu ta zhe bya ba dpal ldan sa skya pandi ta’i mchan dang bcas pa.
Sa-skya Pandita Kun-dga’ rgyal-mtshan. Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung maphyigsar rnyed, vol. 2, pp. 69-669.
rGyud kyi mngon par rtogs pa rinpo che’i ljon shing.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.1-70.1.
rGyud rgyal gsang ba snying po’i ‘grelpa rang zom chos bzanggis mdzadpa.
Asc. Rong-zom Chos-kyi bzang-po. rNying ma bka’ ma rgyaspa, vol. 25.
rGyud sde kun btus.
Compiled by ‘Jam-dbyangs bLo-gter dbang-po. Delhi: N. Lungtok & N. Gyaltshan, 1971.
rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.1-37.
rGyud sde spyi’i rnam gzhag chung ngu.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. SKB 1.2.3.4-74.6.
rGyud sde spyi’i rnam gzhag dang rgyud kyi mngon par rtogs pa’i stong thun sa bead.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.70.2.1 – 81.2.6.
rGyud bzhi’i bka bsgrub nges don snyingpo.
In Sog bzlogpa gsung ‘bum, vol. 2, pp. 213 – 41.
rGyud lugs rnam ‘grel. rTsa ba rdo rje’i tshig rkang rgyud lugs kyi rnam par ‘grel pa bshadpa.
Asc. Bo-dong Phyogs-las rnam-rgyal. In Bo dong gsung ‘bum, vols. 104.2.1-105.414.4.
sGa theng ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. gZhung rdo rje’i tshig rkanggi ‘grelpa rnal ‘byor dbang phyug dpal sa skya pa chen po la khams pa sga theng gis zhus pa. LL XXVIII.149-491.
sGam po pa gsung ‘bum.
The Collected Works (Gsuti ‘Bum) of Sgam-Po-Pa Bsod-Nams-Rin-Chen. 2 parts. Shashin Learned Works Library and Publishing House Series, vol. 5. Manali: Khasdub Gyatsho Shashin, 1975.
sGampo pa gsung ‘bum yid bzhin nor bu.
Edited by Khen po shedup Tenzin and Lama Thinley Namgyal, 2000. 4 vols. Kathmandu: Shri Gautam Buddha Vihara.
sGra sbyor bam po gnyis pa.
To. 4347. bsTan ‘gyur sna-tshogs, co, fols. 131b1-60a7.
sGrub thabs rgya rtsa.
Compiled by Amoghavajra and Ba-ri lo-tsa-ba. To. 3306-399.
sGrub thabs so so’i yig sna.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.148.1.1-70.1.6.
brGyudpa dang bcas pa la gsol ba ‘debs pa.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.38.3.4-39.2.4.
Nges brjod bla ma’i ‘khrul ‘khor bri thabs.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.43.1.1-45.4.5.
Ngor chos ‘byung.
dKon-mchog lhun-grub, completed by Sangs-rgyas phun-tshogs. New Delhi: Ngawang Topgay, 1973.
sNgags log sun ‘byin gyi skor.
Thimphu: Kunsang Topgyel and Mani Dorji, 1979.
sNgon gyi gtam me tog phreng ba.
Ascribed Ne’u (Nel-pa) Pandita. Edited and translated in Uebach, 1987. Chab-spel tshe-brtan phun-tshog and lDan-lhun sangs-rgyas chos-‘phel, eds., 1990. Bod kyi lo rgyus deb ther khag lnga, pp. 1-54. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.
bsNgags par ‘os pa’i rab tu byedpa.
‘Phags-pa bLo-gros rgyal-mtshan. SKB VII.285.2.2-286.1.1.
Chag lo tsa ba’i rnam thar.
By ‘Ju-ba Chos-dar. Edited and translated by G. N. Roerich, 1959. Biography o fDharmasvamin (Chag lo-tsa-ba Chos-rje-dpal). Historical Researches Series, vol. 2. Patna: K. P. Jayaswal Research Institute.
Chos spyod rin chen phreng ba.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.312.2.1-20.2.6.
Chos ‘byung grub mtha’ chenpo.
Rog Bande Shes-rab-‘od. Grub mtha’so soi bzed tshul gZun gsal bar ston pa chos ‘byun grub mtha’ chen po bstan pa’i sgron me. Leh: Tshul Khrims-Jam dbyang, 1971.
Chos ‘byung bstan pa’i sgron me.
Ratna gling-pa. The Nyingmapa Apology of Rin-Chen-Dpal-Bzang-Po. Tashijong: Sungrab Nyamso Gyunphel Parkhang, 1972.
Chos ‘byung dpag bsam ljon bzang.
Sum-pa mkhan-po ye-shes dpal-‘byor. Lanzhou: Kan su’i mi rigs dpe skrun khang, 1992.
Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi’i bcud.
Asc. Nyang Nyi-ma ‘od-zer. Gangs can rig mdzod, vol. 5. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1988.
Chos la ‘jug pa’i sgo.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.318.3.1-45.3.6.
rje dus gsum mkhyen pa’i rnam thar.
rGwa-lo rNam-rgyal rdo-rje. In Dus gsum mkhyen pa’i bka’ ‘bum, vol. 1, pp. 47-139.
rje btsun pa’i mnal lam.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.98.2.6-100.1.6; LL I.57-64.
rje btsun sa sky a pa gong ma gsum gyi rnam par thar pa dpag bsam ljon pa.
Anonymous. Included in Sa skyapa lam ‘bras bla brgyud kyi rnam thar, pp. 57-107. Dehra Dun: Sakya Centre, 1985.
rje sa chen la bstod pa.
bSod-nam rtse-mo. SKB II.37.4.1-38.3.4.
Nyang ral rnam thar. sPrul sku mnga bdag chen po’i skyes rab rnam thar dri ma med pa’i bka’ rgya can.
In Bka brgyad bde gs’egs ‘dus pa’i chos skor. 13 vols. Ngagyur Nyingmay Sungrab Series, no. 75, vol. 1, pp. 1-163. Gangtok: Sonam Topgay Kazi, 1978.
Nye brgyud gcod kyi khrid yig gsal bar bkod pa legs bshad bdud rtsi’i rol mtsho.
Pad-ma lung-rtogs rgya-mtsho. Thimphu: Kunsang Topgay, 1978.
gNyags ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po.
gZhung bshad gnyags ma.
LL XI.21-128.
mNyam med sgam po pa’i rnam thar.
sGam-po sPyan-snga bSod-nams lhun-grub zla-‘od rgyal-mtshan. Xining: mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1993.
rNying ma bka’ ma rgyaspa.
Various authors. Edited by bDud- joms ‘Jigs-bras ye-shes rdo-rje, 1982. 55 vols. Kalimpong: Dubjung Lama.
sNying thigya bzhi.
Asc. kLong-chen-pa Dri-med ‘od-zer. 11 vols. New Delhi: Trulku Tsewang, Jamyang, and L. Tashi, 1970.
sNying thig lo rgyus chen mo.
In sNying thigya bzhi, vol. 9, pp. 1-179. In rNying ma bka’ ma rgyaspa, vol. 45, pp. 503-657.
Tun hong nas thon pa’i bod kyi lo rgyus yig cha.
Edited by dBang-rgyal and bSod-nams, 1992. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.
gTam gyi tshogs theg pa’i rgya mtsho.
‘Jigs-med gling-pa. Edited by bSod-nams tshe-brtan, 1991. Jigs med gling pa’i gtam tshogs. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.
gTer ston brgya rtsa’i rnam thar.
Kong-sprul blo-gros mtha’-yas. In Rin chen gter mdzod chen mo, vol. ka, pp. 291-759.
gTer ‘byung chen mo.
Gu-ru Chos-kyi dbang-phyug. The Autobiography and Instructions of Gu-ru Chos-kyi dban-phyug, vol. 2, pp. 75-193. Paro: Ugyen Tempa’i Gyaltsen, 1979.
gTer ‘byung chen mo gsal ba’i sgron me.
Ratna gling-pa. In Tseten Dorji, ed., 1973. Selected Works of Ratna-Glin-pa, vol. 1, pp. 1-215. Tezu, Arunachal Pradesh: Tibetan Nyingmapa Monastery.
sTag lung chos ‘byung.
sTag-lung zhabs-drung Ngag-dbang rnam-rgyal, supplemented by sTag-lung Khris-‘dzin Ngag-dbang bstan-pa’i nyi-ma. Gang can rig mdzod Series, vol. 22. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1992.
brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.96.3.1-162.3.6.
bsTan bcos lung gi nyi ‘od.
In sGam popa gsung ‘bum yid bzhin nor bu, vol. 4, pp. 91-184.
bsTan rtsis gsal ba’i nyin byed.
Mang-thos klu-sgrub rgya-mtsho. Lhasa: Bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1987.
bsTod pa rnam dag gi phreng ba.
Asc. ‘Phags-pa bLo-gros rgyal-mtshan. SKB VI.142.4.1-43.3.3.
Theg chen tshul ‘jug.
Rong-zom Chos kyi bzang-po. Commentaries on the Guhyagarbha and Other Rare Nyingmapa Texts from the Library of Dudjom Rimpoche, pp. 223-431.
New Delhi: Sanje Dorje, 1974.
Theg chen rgyud bla’i don bsdus pa.
Dharamsala: Library of Tibetan Works and Achives, 1993.
Theg pa chen po’i mal ‘by or jug pa’i thabs.
A-ro Ye-shes ‘byung-gnas.
sNga gyur bka ma’i chos sde, vol. 59, pp. 5-47.
Chengdu: Kah thog mKhan po ‘Jam-dbyangs, 1999. Copy provided courtesy of David Germano.
Thos yig rgya mtsho.
Ngor-chen Kun-dga’ bzang-po. SKB IX.44.4.1-108.2.6.
Dang po’i las can gyi bya ba’i rim pa dang lam rim bgrod tshul.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.143.2.1-47.2.1.
Dam chos snying po zhi byed las rgyud kyi snyan rgyud zab ched ma.
Edited by Barbara Nimri Aziz, 1979. The Tradition of Pha Dam-pa Saris-rgyas: A Treasured Collection of His Teachings Transmitted by Thugs-sras Kun-dga’. 5 vols. Thimphu: Druk Sherik Parkhang.
Dam chos dgongs pa gcig pa’i yig cha.
dbOn-po Shes-rab ‘byung-gnas. Thimphu: Kunsang Topgey, 1976.
Dus gsum mkhyen pa’i bka ‘bum.
Selected Writings of the First Zwa-Nag Karma-pa Dus-Gsum-Mkhyen-pa. 2 vols. Gangtok: Dzongsar Chhentse Labrang, 1980.
Deb ther sngon po.
‘Gos lo-tsa-ba gZhon-nu dpal. 2 vols. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1984. See Roerich 1949.
Deb ther dmar po.
Tshal-pa Kun-dga’ rdo-rje. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 1981.
Deb ther dmar po gsar ma.
Edited and translated by Giuseppe Tucci, 1971. Deb T’er Dmar Po Gsar Ma: Tibetan Chronicles. SOR 24. Rome: ISMEO.
gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed.
‘Jam-dbyangs mKhyen-brtse’i dbang-phyug. LL XIV.2-154.
gDams ngag mdzod.
Kong-sprul bLo-gros mtha’-yas. 14 vols. Paro: Lama Ngodrup and Sherab Drimay, 1979.
gDung rabs chen mo.
‘Jam-mgon A-mes-zhabs. Dzam gling byang phyogs kyi thub pa’i rgyal tshab chen po dpal ldan sa skya pa’i gdung rabs rin po che ji ltar byon pa’i tshul gyi rnam par tharpa ngo mtshar rin po che’i bang mdzod dgos ‘dod kun ‘byung. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 1986.
bDag med mai dbang gi tho yig.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.404.1.4-3.6.
bDag med lha mo bco lnga’i mngon rtogs.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.222.1.1-26.3.6.
bDag med lha mo bco lnga’i bstodpa dri ma med pa’i rgyan and bDag med bstod pa’i bsdus don.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.291.3.2-93.1.6.
bDud rtsi ‘khyil pa sgrub thabs las sbyor dang bcas pa.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.65.4.5-67.2.6.
bDe mchog kun tu spyod pa’i rgyud kyi gsal byed.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.48.4.6-55.2.6.
bDe mchog nag po pa’i dkyil chog lag tu blang ba’i rim pa.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.326.4.1-44.4.6.
bDe mchog lu hi pa’i lugs kyi bla ma brgyud pa’i lo rgyus.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.293.2-98.4.
rDo rje phur pa’i chos byung ngor mtshar rgya mtsho’i rba rlabs.
In Sog bzlog pa gsung ‘bum, vol. 1, pp. ni-201.
rDo rje ‘byung ba’i yig sna.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.i 12.2.1-47.4.6.
lDan bu ma.
Sa-chen Kun-dga snying-po. gZhung rdo rje’i tshig rkang gi ‘grel pa rnal ‘byor dbang phyug dpal sa skyapa chen po la jo gdan ldan bu mas zbuspa. LL XXIX.297 – 496.
lDe’u chos ‘byung.
Asc. lDe’u jo-sras. Chos byung chen mo bstan pa’i rgyal mtshan lde’u jo sras kyi mdzad pa. Lhasa: Mi dmangs dpe skrun khang, 1987.
sDom gsum rab dbye.
Sa-skya Pandita. SKB V.297.1.1-320.4.5.
Nag po dkyil choggi bshad sbyar.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.304.3.2-26.3.6.
gNas bstod kyi nyams dbyangs.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.347.3.6-48.2.6.
gNas yig phyogs bsgrigs.
Edited by dGe-‘dun chos-‘phel et al., 1998. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang.
gNa’ mbs bod kyi changpa’i lam srol.
Bar-shi Phun-tshogs Dbang-rgyal. Dharamsala: Library of Tibetan Works Sc Archives, 1979.
rNam thar rgyaspa.
Edited by Helmut Eimer, 1979.
rNam thar yongs grags.
mChims Nam-mkha’-grags. In Pha chos, pp. 44-228.
rNam thar lam yig.
Asc. ‘Brom-ston rGyal-ba’i Tyung-gnas. In Pha chos, pp. 229-90.
rNal ‘byor byang chub seng ge’i dris lan.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.276.4.1-78.2.7.
Padma bka thang.
Orgyan gling-pa. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1987.
Pusti dmar chung. Lam ‘bras gzhung bshad pod dmar ma.
First compiled by Kun-dga’ dbang-phyug with later additions. LL XIII.
Pod nag. Lam ‘bras bzhung bshad pod nag.
bLa-ma dam-pa bSod-nams rgyal-mtshan. LL XVI.
Pod ser.
First compiled by Grags-pa rgyal-mtshan, with many additions. LL XI.
dPal kye rdo rje rtsa ba’i rgyud brtag pa gnyis pa’i bsdus don.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.168.3.1-76.1.6.
dPal kye rdo rje’i sgrub thabs mtsho skyes kyi ti ka.
bSod-nams rtse-mo. SKB II. 116.3.1-31.2.1.
dPal kye rdo rje’i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.41.3.1-109.3.6.
dPal kye rdo rje’i rtsa ba’i rgyud brtag pa gnyis pa’i dka’ ‘grel man ngag don gsal.
Asc. sGyi-chu-ba. SKB 1.66.1-78.3.
dPal ldan Bi ru pa la bstodpa.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po with additions. SKB I.1.1.1-2.2.4.
dPal ldan sa skya pandi ta chen po’i rnam par thar pa.
Gung-thang gi btsun-pa Zhang rgyal-ba-dpal. SKB V.433.2.1-38.4.6.
dPal Na ro pa’i rnam par thar pa.
dBang-phyug rgyal-mtshan. The Biographies of Tilopa ananaropa by Dban- phyug-rgyal-mtshan. Darjeeling: Kargyud Sungrab Nyamso Khang, 1976.
dPal sa sky a pa’i man ngag gees btus pa rinpo che’i phreng ba.
Asc. Sa-chen Kun-dga’ snying-po. SKB 1.268.2.1-81.2.6.
dPalgsang ba dus pa’i dam pa’i chos byung ba’i tshul legs par bshad pa gsang ‘dus chos kun gsal pa’i nyin byed.
A-mes-zhabs Ngag-dbang kun-dga’ bsod-nams. Rajpur: Sakya Centre, 1985.
dPe chos rin chen spungs pa.
Asc. Po-to-ba Rin-chen-gsal. Dharma upama ratna sangrah. Sarnath: Mongolian Lama Guru Deva, 1965. Includes the commentary dPe chos rinpo che spungs pa’i bum ‘grel by bTsun-pa Shes-rab rdo-rje.
sPyod pa’i rgyud spyi’i rnam par gzhags pa legs par bshad pa’i sgron me.
Ngor-chen Kun-dga’ bzang-po. SKB X.248.3.1-65.4.2.
Pha chos.
Asc. ‘Brom-ston rGyal-ba’i ‘byung-gnas. Jo bo rje dpal ldan a ti sha’i thar bka’ gdam pha chos. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Pha dam pa’i rnam thar.
Chos kyi seng ge. In Pha dam pa dang ma cig lab sgron kyi rnam thar, pp. 3-242. Xining: Mtsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1992.
Phag mo gru pa’i bka ‘bum.
Photocopy in possession of University of Hamburg. 5 vols. Provided courtesy of Jan-Ubich Sobisch.
Phag mo gru pa’i gsung ‘bum.
Edited by Gompo Tseten, 1976. The Collected works (Gsun ‘Bum) of Phag- Mo-Gru-Pa Rdo-Rje-Rgyal-Po. Gangtok: Palace Monastery.
Phag mo gru pa’i rnam thar rinpo che’i phreng ba.
dPal-chen Chos-kyi ye-shes. In Phag mo gru pa’i gsung ‘bum, pp. 5-62.
Phag mo las bcu i gsal byed.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.23.2.5-28.2.5.
Phyag rgya chen po gees pa btus pa’i man ngag.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV 302,3.1-11.4.5.
Phra mo brgyad kyi man ngag.
Asc. Sa-skya Pandita. SKB V.353.2.1-54.3.1.
Phags pa don yod zhags pa’i lo rgyus.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.436.2.1-38.2.3.
Phags pa rdo rje gur gyi rgyan.
Grags-pa rgyal-mtshan, written 1210. SKB III.175.1.1-211.1.6.
Bande ma.
Asc. Sa-chen Kun-dga’ snying-po. gZhung rdo rje’i tshig rkang gi ‘grel pa mal ‘byor dbang phyug dpal sa skya pa chen po la bande gshing rje mas zhus pa. LL XXVIII.1-148.
Ba ri be’u bum.
Be’u bum of Ba ri Lo tsa ba Rin chen grags. Delhi: Lama Jurme Drakpa, 1974.
Bu chos.
sBrom ston rgyal ba’i ‘byung gnas kyi skyes rabs bka gdams bu chos. Xining: mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1993.
Bu ston bka’ ‘bum.
Edited by Chandra Lokesh, 1971. The Collected Works of Bu-ston. Sata-Pitaka Series, no. 68. 28 vols. New Delhi: International Academy of Indian Culture.
Bu ston chos ‘byung.
Edited by rDo-rje rgyal-po, 1988. Chos ‘byung gsung rab rin po che’i mdzod. Beijing: Krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang. Partially edited by Szerb 1990.
Baidurya sngon po.
Sangs-rgyas rgya-mtsho. Aryaveda in Tibet: A Survey of the History and Literature of Lamaist Medicine. Leh: Tashi Yangphel Tashigang, 1970.
Bo dong gsung ‘bum.
Encyclopedia Tibetica: The Collected Works of Bo-Don Pan-Chen Phyogs-Las-Rnam- Rgyal. New Delhi: Tibet House, 1973.
Bod kyi rgyal rabs.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.295.1.6-96.4.2.
Bod kyi gnas yig bdams bsgrigs. Edited by Tshe ring dpal ‘byor, 1995. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang.
Bod kyi gdung rus zhib jug.
lDong-ka-tsang dGe-bshes chos-grags et al. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang, 2001.
Bod rje lha btsan po’i gdung rabs tshig nyung don gsal.
Kah-thog mkhan-po Tshe-dbang nor-bu. In Bod kyi lo rgyus deb ther khag lnga, pp. 55-86. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1990.
Bod sil bu’i byung ba brjod pa shel dkar phreng ba.
Nor-brang O-rgyan. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1991.
Bhir ba pa’i lo rgyus.
In gZun bsad Klog skya ma and Other Related Esoteric Texts, pp. 347-404.
Bya rgyud spyi’i rnam par bshad pa legs par bshad pa’i rgya mtsho.
Ngor-chen Kun-dag’ bzang-po. SKB X.265.4.2-319.1.6.
Bya spyod rigs gsum spyi’i rig gtad kyi cho ga.
Grags-pa rgyal-mtshan.
SKB IV.252.4.1-55.1.5.
Byang chub sems dpa’i spyod pa la ‘jug pa’i ‘grel pa.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.457.4.1-515.2.6.
By in rlabs tshar gsum khug pa.
Grags-pa rgyal-mtshan.
SKB III.94.2.3-95.3.4.
bLa ma rgya gar ba’i lo rgyus.
Grags-pa rgyal-mtshan.
SKB III. 170.1.1-73.1.6; LL 1.2-14; LL XI.581-94.
bLa ma brgyudpa bod kyi lo rgyus.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.173.1.7 – 74.1.7; LL 1.14-18; LL XI.594-99.
bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba.
Asc. bLa-ma Dam-pa bSod-nams rgyal-mtshan. LL XVI.2-121.
bLa ma mnga’ rispas mdzad pa’i brtag gnyis kyi tshig ‘grel.
Asc. mNga’-ris-pa gSal-ba’i snying-po. SKB 1.13.4-65.4.
bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar.
Sa-skya Pand’ta Kun-dga’ rgyal-mtshan. SKB V.143.1.1-48.3.4.
bLa ma dam pa chos kyi rgyalpo rinpo che’i rnam par thar pa rinpo che’i phreng ba.
Asc. Ye-shes rgyal-mtshan. LL 1.290-338.
bLa ma rnam thar bstod pa khyod nyi ma.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.82.4.5-83.3.6.
bLa ma ba ri lo tsa ba rin chen grags kyi rnam thar.
bSod-nams rtse-mo. Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung ma phyi gsar rnyed\ vol. 1, pp. 255-66.
bLa ma sa sky a pa chen poi rnam thar.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.83.3.6-87.3.5.
dBa’ bzhed.
Edited and translated by Pasang Wangdu and Hildegard Diemberger, 2000. dBa bzhed: The Royal Narrative Concerning the Bringing of the Buddha’s Doctrine to Tibet. Vienna: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
‘Bri gung chos rje ‘Jig rten mgon po bka’ ‘bum.
The Collected Writings (Gsun- Bum) of’Bri-Gung Chos-Rje ‘Jig-rten-Mgon-po Rin-Chen-Dpal. 5 vols. New Delhi: Khangsar Talku, 1969.
‘Bri gung gdan rabs gser phreng.
‘Bri-gung bsTan-‘dzin pad-ma’i rgyal-mtshan. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1989.
‘Brugpa’i chos ‘byung.
‘Brug-pa Padma dKar-po. Gangs-cen rig-mdzod Series, no. 19. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1992.
sBa bzhed.
Edited by mGon-po rgyal-mtshan, 1980. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.
sBa bzhed zhabs btags ma.
Edited by Rolf A. Stein, 1961. Une chronique ancienne de bSam-yas: sBa-bted. Publications de l’lnstitut des hautes etudes chinoises, textes et documents, no. 1. Paris: Institut de hautes etudes chinoises.
Mani bka’ ‘bum.
Man. Bka’ ‘Bum: A Collection of Rediscovered Teachings Focusing upon the Tutelary Deity Avalokitesvara (Mahakarunika). 2 vols. New Delhi: Trayang and Jamyang Samten, 1975.
Man ngag gces pa btus pa.
Asc. Sa-chen Kun-dga’ snying-po. dPal sa skya pa’i man ngag gces pa btus pa rin po che’i phreng ba. SKB 1.268.2.1-81.2.6.
Man ngag lta phreng.
Rong zom gsung thor bu, pp. 1-18. See Karmay 1988, pp. 163-71.
Man ngag lta bat phreng ba zhes by a ba’i ‘grel pa.
Rong zom gsung thor bu, pp. 19-124.
Mar pa lo tsa’i rnam thar.
Asc. Khrag-‘thung rgyal-po (gTsang-smyong he-ru-ka). Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1983. See Nalanda Translation Committee 1982.
Mi la rnam thar.
Edited by J.W. de Jong, 1959. Mi la ras pa’i rnam thar: Texte tibetain de la vie de Milarepa. Indo-Iranian Mongraphs, no. 4. The Hague: Mouton.
Myang chos ‘byung. Apocryphally asc. Jo-nang Taranatha. Edited by Lhag-pa tshe-ring, 1983. Myangyul stod smad bar gsum gyi ngo mtshar gtam legs bshad mkhas pa’i ‘jug ngogs. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang. See Martin 1997, no. 190.
sMon lam dbang bzhi z bshad par sbyar ba.
Anonymous but possibly by Sa-chen Kun-dga snying-po. Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung maphyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 81 – 84.
sMra sgo mtshon cha. sMra ba’i sgo mtshon cha lta bu.
To. 4295. bsTan ‘gyur, sgra-mdo, she, fols. 277b1-281b7.
sMra sgo’i mtshon cha’i mchan rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa.
Asc. Grags-pa rgyal-mtshan. Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung ma phyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 767-94.
rTsa ba’i ltung ba bcu bzhi pa’i ‘grelpa gsal byed ‘khrul spong.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.235.1.1-65.3.6.
rTsa dbu ma’i khridyig.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.36.2.5-42.4.2.
Tshar chen rnam thar.
Ngag-dbang blo-bzang rgya-mtsho (Dalai Lama V). Rigs dang dkyil ‘khor kun
gyi khyab bdag rdo rje ‘chang bio gsal rgya mtsho grags pa rgyal mtshan dpal bzang po’i rnam par tharpa dob bshad bstan pa’i nyi ‘od. LL II.399-637.
Tshig mdzod chen mo. Bod rgya tshig mdzod chen mo.
Edited by Krang dbyis sun et al., 1985. 3 vols. Beijing: Mi rigs dpe skrun khang.
mDzod nag ma.
Karma-pa III Rang-byung rdo-rje. The Life and Songs of Mi-La-Ras-Pa. 2 vols. Dalhousie: Damchoe Sangpo, 1978.
Zhang ston la bstodpa.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. SKB I.2.2.4-2.3.4.
Zhi byed snga phyi bar gsum gyi khrid yig rnams phyogs gcig tu bsdebs pa bdud rtsi’i nying khu.
Lo-chen Dharma-Shri. gDams ngag mdzod, vol. 9, pp. 308-404.
Zhi byed dang gcod yul gyi chos ‘byung rin po che’i phreng ba.
Khams-smyon Dharma seng-ge. In Good Kyi Chos Skor, pp. 411-597. New Delhi: Tibet House, 1974.
Zhib mo rdo rje.
dMar-ston Chos-kyi rgyal-po. bLa ma bod kyi brgyud pa’i rnam thar zhib mo rdo rje. See Stearns 2001.
Zhu byas ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. gZhung rdo rje’i tshig rkang gi ‘grelpa mal ‘byor dbang phyug dpal sa sky a pa chen po la zhu byas dngos grub kyis zhuspa. LL XXVII.1-189.
Zhu lan nor bu’i phreng ba.
‘Brom-ston gZhon-nu blo-gros. In Pha chos, pp. 299-504.
gZun bsad Klog skya ma and Other Related Esoteric Sa-skya-pa Texts.
Edited by Tashi Dorje, 1975. Dolanji: Tibetan Bompo Monastic Centre.
gZhan phan nyer mkho.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.228.2.1-37.2.6.
Zangs gling ma.
Nyang-ral Nyi-ma ‘Od-zer. sLob dpon padma’i rnam thar zangs gling ma. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1989.
Zab don gnad kyi sgron me.
Go-rams bSod-nams seng-ge. Go ram bka ‘bum, vol. 12, pp. 1-29.
Zla rgyal ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. gZhung rdo rje’i tshig rkanggi ‘grelpa mal ‘byor dbang phyug dpal sa skya pa chen po la byang chub sems dpa zla ba rgyal mtshan kyis zhus pa. LL XXVII.397-529.
A ‘u ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. gZhung rdo rje’i tshig rkanggi ‘grelpa mal ‘byor dbang phyug dpal sa skya pa chen po la jo mo ‘a ‘u mas zhus pa. LL XXIX.161-295.
Yar lung jo bo’i chos ‘byung.
Shakya rin-chen sde. Edited by Ngag dbang, 1988. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang.
Yi ge’i bklag thab byispa bde blag tu ‘jugpa.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.345.4.1-49.4.6.
Yum don ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. gZhung rdo rjei tshig rkanggi ‘grelpa rnal ‘byor dbang phyug dpal sa sky a pa chenpo la yum ma gcig zhang mo’i don du mdzad pa. LL XXIX.1-159.
Rin chen gter mdzod chen mo.
Kong-sprul bLo-gros mtha’-yas. 111 vols. Paro: Ngodrub and Sherab Drimay, 1976-80.
Rin chen snang ba shlo ka nyi shupa’i rnam par ‘grelpa.
Pod ser, pp. 194-243.
Rang zom chos bzang gi gsung ‘bum. 2 vols.
Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 2001.
Rang zom gsung thor bu.
Rong-zom Chos-kyi bzang-po. Selected Writings (Gsuh Thor Bu) of Ron- zom Cbos-kyi-bzah-po. Leh: ‘Khor-gdon Gter-sprul ‘Chi-med-rig-‘dzin, 1974.
Rwa sgreng dgon pa’i dkar chag.
Lhun-grub chos-‘phel. Chengdu: Si khron mi rigs dpe skrun khang, 1994.
Rwa lo tsa ba’i rnam thar.
Attributed to Rwa ye-shes seng-ge. mThu stobs dbang phyug rje btsun rwa lo tsa ba’i rnam par thar pa kun khyab snyan pa’i snga sgra. Xining: mTsho sngon mi rigs dpe skrun khang, 1989.
rLangs kyi po ti bse ru rgyas pa.
Asc. Si-tu Byang-chub rgyal-mtshan, but with later additions. Lhasa: Bod ljongs mi dmangs dpe skrun khang, 1986.
Lam jug pa dang ldogs pa.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. Pod ser, pp. 323-25.
Lam ‘bras khogphub.
A-mes-zhab Ngag-dbang kun-dga’ bsod-nams. Yongs rdzogs bstan pa rin po che’i nyam len gyi man ngag gsung ngag rin po che’i byon tshul khog phub dang bcas pa rgyas par bshad pa legs bshad duspa’i rgya mtsho. LL XXII.i – 314.
Lam ‘bras rgyud pa’i gsol ‘debs.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.81.3.1-82.4.5.
Lam ‘bras snyan brgyud.
In gZun bsad Klog skya ma and Other Related Esoteric Texts, pp. 405-590.
Lam ‘bras byung tshul.
Ngor-chen Kun-dga’ bzang-po, supplemented by Gung-ru Shes-rab bzang-po.
Lam ‘bras bu dang bcas pa’i man ngag gi byung tshul gsung ngag rinpo che bstan pa rgyas pa’i nyi ‘od. SKB IX.108-26.
Lam ‘bras lam skor sogs kyi gsan yig.
‘Phags-pa bLo-gros rgyal-mtshan. SKB VI.32.4.1 – 35.1.4.
Lam ‘bras slob bshad.
Edited by Sa-skya Khri-‘dzin Ngag gi dbang phyug, 1983/84. 31 vols. Dehra Dun: Sakya Centre.
Lam zab mo bla ma’i rnal ‘byor.
Asc. Sa-skya Pandita. SKB V.339.3.1-43.4.1.
Lus kyi dkyi ‘khor.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. Pod ser, pp. 135-38.
Lo tsa ba chenpoi bsdus don.
rNgog bLo-ldan shes-rab. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives, 1993-
Sa sky a bka’ ‘bum.
Edited by Bsod Nams Rgya Mtsho, 1968. The Complete Works of the Great Masters of the Sa Skya Sect of the Tibetan Buddhism. 14 vols. Tokyo: Toyo Bunko.
Sa skya gsung rab dkar chag. dPal ldan sa skya’i rje btsun gong ma lnga’i gsung rab rin po che’i par gyi sgo ‘phar ‘byedpa’i dkar chag ‘phrulgyi lde’u mig.
By dGe-slong bKra-shis Lhun-grub. SKB VII.310.3.1-43.1.6.
Sa skya legs bshad gter.
Sa-skya Pandita. SKB V.50.2.1-61.32.6. See Bosson 1969.
Sa skya’i gdung rabs.
sGra-tshad-pa Rin-chen rnam-rgyal. In Bu ston bka ‘bum, vol. 28, pp. 309-14.
Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung maphyi gsar rnyed.
Edited by bSod-nams tshe-‘phel et al. 3 vols. n.p. (Lhasa?): n.d. (late 1980s?). Copy provided courtesy of E. Gene Smith and the Tibetan Buddhist Resource Center, Cambridge, Mass.
Sam pu ta’i ti ka gnad kyi gsal byed. bSod-nams rtse-mo. SKB II.188.1.1-307.1.6.
Sems kyi mtshan nyid gab pa mngon du phyung ba.
sGam-po-pa bSod-nams rin-chen. sGam po pa gsung ‘bum, part 2, pp. 24-32.
Sog bzlogpa gsung ‘bum. Collected Writings of Sog-Bzlog-Pa Blo-Gros-Rgyal-Mtshan. 2 vols. New Delhi: Sanji Doiji, 1975.
Sras don ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. Lam ‘bras gzhung bshad sras don ma. LL XII.11-446.
sLob dpon dga rab rdo rje nas brgyud pa’i rdzogs pa chenpo sems sde iphra khrid kyi man ngag.
sGya-sman-pa Nam-mkha’ rdo-rje. rNying ma bka ma rgyaspa, vol. 17, pp. 435-5I7-
sLob dpon rdo rje dril bu pa’i lo rgyus.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB III.345.1.1-46.1.4.
sLob dpon Phya pa la bstodpa.
bSod-nams rtse-mo. SKB II.39.4.4-41.2.5.
sLob dpon mtsho skyes kyi lo rgyus.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. SKB I.380.4.1-81.4.3.
gSang dus stong thun.
Asc. ‘Gos-lo Khug-pa lhas-btsas. New Delhi: Trayang, 1973.
gSung sgros ma.
dMar Chos kyi rgyal po. gZhung rdo rje’i tshig rkang gi ‘grelpa jam dbyangs bla ma’i gsung sgros ma. LL XXX.1-295.
gSung ngag rin po che lam ‘bras bu dang bcas pa ngor lugs thun min slob bshad dang thun mong tshogs bshad tha dad kyi smin grol yan lang dang bcaspa’i brgyud yig gser gyi phreng ba byin zab ‘od brgya ‘bar ba.
‘Jam-dbyang bLo-gter dbang-po. LL XX.417-511.
gSung ngag slob bshad khob phub gnad kyi be’u bum.
Mang-thos kLu-sgrub rgya-mtsho. LL XVIII.161-241.
gSo dpyad rgyal po’i dkor mdzod.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.354.3.1-96.1.6.
bSam gtan migsgron.
Asc. gNubs-chen sangs-rgyas ye-shes. Rnal ‘Byor Mig Gi Bsam Gtan or Bsam Gtan Mig Sgron. Leh: Khor-gdon Gter-sprul Chi-med-rig-‘dzin, 1974.
Lho rong chos ‘byung.
Ri-bo-che dpon-tshang. Gang can rig mdzod Series, vol. 26. Lhasa: Bod ljongs bod yig dpe rnying dpe skrun khang, 1994.
Arga’i cho ga dang rab tu gnas pa don gsal.
Grags-pa rgyal-mtshan. SKB IV.237.3.1-52.3.6.
Asta’i gzhi bshad.
Asc. Sa-skya Pandita. SKB V.355.2.1-58.4.4.
A seng ma.
Sa-chen Kun-dga’ snying-po. Thams cad kyi don bsdus pa’i tshigs su bead pa. LL XI. 188-91; gDams ngag mdzod vol. 4, pp.12-15; rGyud sde kun btus vol. 26, pp.104-6.
MODERN STUDIES
Almogi, Orna. 2002. “Sources on the Life and Works of the Eleventh-Century Tibetan Scholar Rong Zom Chos Kyi Bzang Po: A Brief Survey.” In Tibet, Past and Present, edited by Henk Blezer, vol. 1, pp. 67-80. Leiden: Brill.
Arenes, Pierre. 1998. “Hermeneutique des tantra: Etude de quelques usages du ‘sens cach.'”JIABS 21 8c 22:173-226.
Aris, Michael. 1979. Bhutan: The Early History of a Himalayan Kingdom. Warminster: Aris & Phillips.
Arya, Pasang Yonten. 1998. Dictionary of Tibetan Materia Medica, translated and edited by Dr. Yonten Gyatso. Delhi: Motilal Banarsidass.
Backus, Charles. 1981. The Nan-chao Kingdom and T’ang China’s Southestern Frontier. Cambridge: Cambridge University Press.
Bacot, J., E W. Thomas, and C. Toussaint. 1940-46. Documents de Touen-houang relatifs a Thistoire du Tibet. Annales du Musee Guimet, Bibliotheque d’etudes, vol. 51. Paris: Librairie orientaliste Paul Geuthner.
Bajracharya, Puma Harsha. 1979. “Than Bahil, an Ancient Centre for Sanskrit Study.” Indologica Taurinensia 7: 61-64.
Baldissera, Gabrizia. 2001. “The Satire of Tantric Figures in Some Works of Ksemendra.” In Le Parole e i marmi: Studi in onore di Raniero Gnoli nel suo 70° compleanno, edited by Raffaele Torella. SOR 92, vol. 1, pp. 13-35. Rome: Isti- tuto italiano per L’Africa e L’Oriente.
Bandyopadhyay, Nandity. 1979. “The Buddhist Theory of Relation Between Prama and Pramana.“JIPj: 43-78.
Banerji, R. D. 1919-20. “Neulpur Grant of Subhakara: The 8th year.”Epigraphia Indica 15:1-8.
Barrett, David V., ed. 2001. The New Believers: A Survey of Sects, Cults and Alternative Religions. London: Cassell.
Beal, Samuel, trans. 1869. Si-yu-ki: Buddhist Records of the Western World. London: Kegan Paul, Trench, Triibner.
Beckwith, Christopher 1.1977. “Tibet and the Early Medieval Florissance in Eurasia: A Preliminary Note on the Economic History of the Tibetan Empire.”CAJ 21: 89-104.
—. 1987. The Tibetan Empire in Central Asia. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Benson, Robert L. 1982. “Political Renovatio: Two Models from Roman Antiquity.” In Renaissance and Renewal in the Twelfth Century, edited by Robert L. Benson et. al., pp. 339-86. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Beyer, Steven. 1973. The Cult of Tara: Magic and Ritual in Tibet. Berkeley: University of California Press.
Blackburn, Anne M. 2001. Buddhist Learning and Textual Practice in Eighteenth-Century Lankan Monastic Culture. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Blezer, Henk, ed. 2002. Tibet, Past and Present. 2 vols. PIATS 2000: Tibetan Studies: Proceedings of the Ninth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Leiden 2000. Leiden: Brill.
Blondeau, Anne-Marie, and Ernst Steinkellner, eds. 1996. Reflections of the Mountain: Essays on the History and Social Meaning of the Mountain Cult in Tibet and the Himalayas. Vienna: Osterreichischen Akademie der Wis- senschaftem
Bosson, James. 1969. A Treasury of Aphoristic Jewels: The Subhasitaratnanidhi of Sa Skya Pandita in Tibetan and Mongolian. Uralic and Altaic Series, vol. 92. Bloomington: Indiana University Press.
Bouillier, Veronique. 1997. Ascetes et rois: Uni monastere de Kanphata Yogis au Nepal. Paris: CNRS Ethnologie.
Boyer, A. M., E. J. Rapson, and E. Senart. 1920-29. Kharosthi Inscriptions Discovered by Sir Aurel Stein in Chinese Turkestan. 3 vols. Oxford: Clarendon Press. Reprint, New Delhi: Cosmo Publications, 1997 (1 vol.).
Boyle, J. A., ed. 1968. The Cambridge History of Iran. Vol. 5, The Saljuq and Mongol Periods. Cambridge: Cambridge University Press.
Broido, Michael. 1982. “Does Tibetan Hermeneutics Throw Any Light on Sandhabhasa.”JTS 2: 5-39.
—. 1983. “Bshad-thabs: Some Tibetan Methods of Explaining the Tantras.” In Contributions on Tibetan Language, History and Culture, edited by Ernst Steinkellner and Helmut Tauscher, vol. 2, pp. 15-45. Proceedings of the Csoma de Koros Symposium, Velm-Vienna, September 13-19,1981. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien Universitat Wien.
—. 1984. “Abhipraya and Implication in Tibetan Linguistics.”///5 12: 1-33.
Broughton, Jeffrey. 1983. “Early Ch’an Schools in Tibet.” In Studies in Ch’an and Hua-yen, edited by Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, pp. 1-68. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Burke, Peter. 1986. The ltalian Renaissance – Culture and Society in ltaly. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Cabezon, Jose Ignacio, and Roger R. Jackson, eds. 1996. Tibetan Literature: Studies in Genre. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.
Carrasco, Pedro. 1959. Land and Polity in Tibet. American Ethnological Society, monograph 32. Seattle: University of Washington Press.
Cassinelli, C. W., and Robert B. Ekvall. 1969. Tibetan Principality – The Political System of Sa sKya. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Chang, Kun. 1959-60. “An Analysis of the Tun-Huang Tibetan Annals.”Journal of Oriental Studies 5:122-73.
Chattopadhyaya, Alaka. 1967. Atisa and Tibet. Calcutta: Motilal Banarsidass.
Chattopadhyaya, Brajadulal. 1994. The Making of Early Medieval India. Delhi: Oxford University Press.
Childs, Geoff H. 1997. “Householder Lamas and the Persistence of Tradition: Animal Sacrifice in Himalayan Buddhist Communities.” In Tibetan Studies: Proceedings of the yth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995, edited by Helmut Krasser et al., vol. 1, pp. 141-57. Osterreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Denk- schriften, 256 Band. Vienna: Osterreichischen Akademie Der Wissenschaften.
Cleaves, Francis W. 1967. “Teb Tenggeri.”Ural-Altaische Jahrbucher 39: 248-60.
Cochrane, Eric. 1981. Historians and Historiography in the ltalian Renaissance. Chicago: University of Chicago Press.
Conze, Edward. 1957. “Marginal Notes to the Abhisamayalamkara.”Sino-Indian Studies 5/3-4: 21-35.
Cuevas, Bryan J. 2003. The Hidden History of The Tibetan Book of the Dead. Oxford: Oxford University Press.
Cuppers, Christoph. 1997. “A Ban on Animal Slaughter at Buddhist Shrines in Nepal.” In Karmay and Sagant 1997, pp. 677-87.
Dargyay, Eva K. 1991. “Sangha and State in Imperial Tibet.” In Tibetan History and Language: Studies Dedicated to Uray Ge’za on his Seventieth Birthday, edited by Ernst Steinkellner, pp. 111-27. Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde Heft 26. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhisti- sche Studien Universitat Wien.
Davidson, Ronald M. 1981. “The Litany of Namesof Manjusri :Text and Translation of the Manjusrinamasarhgiti.” In Tantric and Taoist Studies in Honour of R. A. Stein, edited by Michel Strickmann. Melanges chinois et bouddhiques 20:1-69.
—. 1985. “Buddhist Systems of Transformation: Asraya-parivrtti /paravrtti Among the Yogacara.” Ph.D. diss., University of California, Berkeley.
—. 1990. “An Introduction to the Standards of Scriptural Authenticity in Indian Buddhism.” In Chinese Buddhist Apocrypha, edited by Robert E. Buswell, pp. 291-325. Honolulu: University of Hawai’i Press.
—. 1991. “Reflections on the Mahesvara Subjugation Myth: Indie Materials, Sa-skya-pa Apologetics, and the Birth of Wemkz.“ JIABS 14/2:197-235.
—. 1992. “Preliminary Studies on Hevajra’s Abhisamaya and the Lam- bras Tshogs-bshad.” In Tibetan Buddhism: Reason and Revelation, edited by Steven D. Goodman and Ronald M. Davidson, pp. 107-32,176-84. Albany: State University of New York Press.
—. 1995. “Atisa’s A Lamp for the Path to Awakening.” In Buddhism: In Practice, edited by Donald Lopez, pp. 290-301. New Readings Series. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
—. 1999. “Masquerading as Pramana: Esoteric Buddhism and Epistemological Nomenclature.” In Dharmakirti’s Thought and Its Impact on Indian and Tibetan Plilosophy – Proceedings of the Third International Conference on Dharmakirti and Pramana, edited by Katsura Shoryu, pp. 25-35. Vienna: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
—. 2002a. “Gsar-ma Apocrypha: Gray Texts, Oral Traditions, and the Creation of Orthodoxy.” In The Many Canons of Tibetan Buddhism, edited by Helmut Eimer and David Germano, pp. 203-24. Leiden: Brill.
—. 2002b. “Hidden Realms and Pure Abodes: Central Asian Buddhism as Frontier Religion in the Literature of India, Nepal and Tibet.” Pacific World: Journal of the Institute of Buddhist Studies, 3rd ser., 4: 153-81.
—. 2002c. Indian Esoteric Buddhism: A Social History of the Tantric Movement. New York: Columbia University Press.
—. 2002d. “Reframing Sahaja: Genre, Representation, Ritual and Lineage.” /IP 30: 45-83.
—. 2003. “The Kingly Cosmogonic Narrative and Tibetan Histories: Indian Origins, Tibetan Space, and the bKa ‘chems ka khol ma Synthesis.” In Roberto Vitali, ed., Lungta: Cosmogony and the Origins 16:64 – 83.
—. forthcoming a. “Imperial Agency in the Gsar-ma Treasure Texts During the Tibetan Renaissance: The Rgyalpo bla gter and Related Literature.” In Studies in Tibetan Buddhist Literature and Praxis, edited by Ronald M. Davidson and Christian Wedemeyer. Leiden: Brill.
—. forthcoming b. “Vajras at Thirty Paces: Authority, Lineage, and Religious Conflict in gSar-‘gyur Central Tibet.” In Proceedings of the Eighth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Elliot Sperling. Bloomington: Indiana University Press.
Davidson, Ronald M., and Christian K. Wedemeyer, eds., forthcoming. Studies in Tibetan Buddhist Literature and Praxis. Leiden: Brill.
Dawson, Lome L. 2001. “The Cultural Significance of New Religious Movements: The Case of Soka Gakkai.” Sociology of Religion 62, no. 2: 337-64.
Dayal, Har. 1932. The Bodhisattva Doctrine in Sanskrit Buddhist Literature. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 1970.
Decleer, Hubert. 1992. “The Melodious Drumsound All-Pervading – Sacred Biography of Rwa Lotsawa: About Early Lotsawa rnam thar and chos ‘byung.” In Tibetan Studies: Proceedings of the yth Seminar of the International Association for Tibetan Studies: Narita 1989, edited by Ihara Shoren and Zuiho Yamaguchi, vol. 1, pp. 13-28. Narita: Naritasan shinshoji.
—. 1994-95. “Bajracharya Transmission in Xlth Century Chobar.” Buddhist Himalaya 6: 9 – 20.
—. 1996. “Master Atisa in Nepal: The Tham Bahll and Five Stupas’ Foundations According to the ‘Brom ston Itinerary.” Journal of the Nepal Research Centre 10: 27-54. Demieville, Paul. 1952. Le Concile de Lhasa. Vol. 7. Bibliotheque de l’institut des hautes etudes chinoises. Paris: Presses Universitaires de France.
—. 1973. Choix d’etudes bouddhiques (/929-/970). Leiden: Brill.
Denjongpa, Anna Balikci. 2002. “Kangchendzonga: Secular and Buddhist Perceptions of the Mountain Deity of Sikkim Among the Lhopos.” Bulletin of Tibetology 38, no. 2: 5-37.
Diemberger, Hildegard, and Guntram Hazod. 1997. ‘Animal Sacrifices and Mountain Deities in Southern Tibet.” In Karmay and Sagant 1997, pp. 261-79.
—. 1999. “Machig Zhama’s Recovery: Traces of Ancient History and Myth in the South Tibetan Landscape of Khata and Phadrug.” In Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture – A Collection of Essays, edited by Toni Huber, pp. 34-51. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.
Dietz, Siglinde. 1984. Die Buddhistische Briefliteratur Indiens – Nach dem tibeti- schen Tanjur herausgegeben, ubersetzt und erlautert. Asiatische Forschungen Band 84. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Dotson, Brandon. Forthcoming. “At the Behest of the Mountain.” In Proceedings of the Xth Seminar of IATS, edited by Charles Ramble. Leiden: Brill.
Dubois, Abbe J. A. 1897. Hindu Manners, Customs and Ceremonies. Translated by Henry K. Beauchamp. Oxford: Clarendon Press.
Dunnel, Ruth. 1992. “The Hsia Origins of the Yuan Institution of Imperial Preceptor.” Asia Major ser. 3, vol. 5: 85-111.
—. 1994. “The Hsi Hsia.” In The Cambridge History of China. Vol. 6, Alien Regimes and Border States, 907-1368, edited by Herbert Franke and Denis Twitchett, pp. 154-214. Cambridge: Cambridge University Press.
—. 1996. The Great State of White and High: Buddhism and State Formation in Eleventh-Century Xia. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Eckel, Malcolm David, ed. and trans. 1987. Jnanagarhha\ Commentary on the Distinction Between the Two Truths. Albany: State University of New York Press.
Edou, Jerome. 1996. Machig Labdron and the Foundations of Chod. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.
Ehrhard, Franz-Karl. 1997. “Recently Discovered Manuscripts of the Rnying Ma Rgyud ‘Bum from Nepal.” In Tibetan Studies: Proceedings of the yth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995, edited by Helmut Krasser et al., vol. 1, pp. 253-77. Osterreichische Akademie der Wissen- schaften Philosophisch-Historische Klasse Denkschriften, 256 Band. Vienna: Osterreichischen Akademie Der Wissenschaften.
—. 2002. “The Transmission of the Thig-le Bcu-drug and the Bka’ Gdams Glegs Bam.“ In The Many Canons of Tibetan Buddhism, edited by Helmut Eimer and David Germano, pp. 29-56. Leiden: Brill.
Eimer, Helmut, ed. and trans. 1978. Bodhipathapradipa: Ein Lehrgedicht de Atisa (Dipamkarasrijnana) in der Tibetischen Uberlieferung. Asiatische Forschungen 59. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
—. 1979. Rnam Thar Rgyas Pa: Materialien zu einer Biographie des Atisa (Dipamkarasrtjnana). Asiatische Forschungen, Band 67. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
—. 1997. “A Source for the First Narthang Kanjur: Two Early Sa skya pa Catalogues of the Tantras.” In Transmission of the Tibetan Canon, edited by Helmut Eimer. Vienna: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
Eimer, Helmut, and David Germano, eds. 2002. The Many Canons of Tibetan Buddhism. Leiden: Brill.
Ekvall, Robert B. 1968. Fields on the Hoof: Nexus of Tibetan Nomadic Pastoralism. Reprint, Prospect Heights, 111.: Waveland Press, 1983.
Epstein, Lawrence, and Richard F. Sherburne, eds. 1990. Reflections on Tibetan Culture – Essays in Memory of Turrell V. Wylie. Studies in Asian Thought and Religion, vol. 12. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press.
Everding, Karl-Heinz. 2000. Das Kdnigreich Mangyul Gung thang. 2 vols. Bonn: VGH Wissenschaftsverlag GmbH.
Ferrari, Alfonsa. 1958. Mk’yen Brtse’s Guide to the Holy Places of Central Tibet. Edited and completed by Luciano Petech. SOR 16. Rome: ISMEO.
Finke, Roger, and Rodney Stark. 2001. “The New Holy Clubs: Testing Church- to-Sect Proposition.” Sociology of Religion 62/2: 175-89.
Francke, A. H. 1914-26. Antiquities of Indian Tibet. Archaeological Survey of India, Monograph Series, vols. 38, 50. Calcutta: Superintendent Government Printing.
Franke, H. 1978. From Tribal Chieftain to Universal Emperor and God: The Legitimation of the Yuan Dynasty. Munich: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
—. 1981. “Tibetans in Yuan China.” In China Under Mongol Rule, edited by J. D. Langlois, pp. 296-328. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Gellner, David N. 1992. Monk, Householder, and Tantric Priest. Cambridge: Cambridge University Press.
Germano, David. 2002. “The Seven Descents and the Early History of Rnying ma Transmissions.” In The Many Canons of Tibetan Buddhism, edited by Helmut Eimer and David Germano, pp. 225-63. Leiden: Brill.
Gethin, R. M. L. 1992. The Buddhist Path to Awakening. A Study of the Bodhi- Pakkhiya Dhammd. Leiden: Brill.
Gimello, Robert M., and Peter N. Gregory, eds. 1983. Studies in Ch’an and Hua-yen. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Goepper, Roger. 1996. Alchi: Ladakh’s Hidden Buddhist Sanctuary – The Sumtsek. London: Serindia Publications.
Gomez, Luis 0.1983. “The Direct and the Gradual Approaches of Zen Master Mahayana: Fragments of the Teachings of Mo-ho-yen.” In Studies in Ch’an and Hua-yen, edited by Robert M. Gimello and Peter N. Gregory, pp. 69167. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Gould, Stephen Jay. 2002. The Structure of Evolutionary Theory. Cambridge, Mass.: Belknap Press.
Green, Thomas M. 1982. The Light in Troy: Imitation and Discovery in Renaissance Poetry. New Haven, Conn.: Yale University Press.
—. 1988. “Petrarch and the Humanist Hermeneutic.” In Petrarch, edited by Harold Bloom, pp. 103-23. New York: Chelsea House.
Grupper, Samuel Martin. 1980. “The Manchu Imperial Cult of the Early Ch’ing Dynasty: Texts and Studies on the Tantric Sanctuary of Mahakala at Mukden.” Ph.D. diss., Indiana University.
Guenther, Herbert V. 1959. Jewel Ornament of Liberation. London: Rider.
—. 1963. The Life and Teaching of Naropa. Oxford: Clarendon Press.
Gupta, Chitrarekha. 1996. The Kayasthas: A Study in the Formation and Early History of a Caste. Calcutta: K. P. Bagchi.
Gyalbo, Tsering, et al. 2000. Civilization at the Foot of Mount Sham-po: The Royal House of IHa Bug-pa-can and the History of g.Ya’-bzang. Vienna: Osterreichi- schen Akademie der Wissenschaften.
Gyatso, Geshe Kelsang. 1982. Clear Light of Bliss: Mahamudra in Vajrayana Buddhism. London: Wisdom Publications.
Gyatso, Janet. 1985. “The Development of the Gcod Tradition.” In Soundings in Tibetan Civilization, edited by Barbara Nimri Aziz and Matthew Kapstein, pp. 320-41. New Delhi: Manohar.
—. 1987. “Down with the Demoness: Reflections on the Feminine Ground in
Tibet.”7712: 33-53.
—. 1994. “Guru Chos-dbang’s Gter Byung Chen Mo: An Early Survey of the Treasure Tradition and Its Strategies in Discussing Bon Treasure.” In Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Per Kvaerne, vol. 1, pp. 275-87. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture.
—. 1996. “Drawn from the Tibetan Treasury: The gTer ma Literature.” In Tibetan Literature: Studies in Genre, edited by Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson, pp. 147-69. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.
—. 1998. Apparitions of the Self: The Secret Autobiographies of a Tibetan Visionary. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Haarh, Erik. 1969. The Yar-Lun Dynasty: A Study with Particular Regard to the Contribution by Myths and Legends to the History of Ancient Tibet and the Origin and Nature of Its Kings. Copenhagen: G. E. C. Gads Forlag.
Hackin, Joseph. 1924. Formulaire sanscrit-tibetain du Xe siecle. Mission Pelliot en Asie Centrale, Serie Petit in Octavo, vol. 2. Paris: Librarie orientaliste Paul Geuthner.
Hattori, Masaaki. 1968. Digndga, on Perception. Harvard Oriental Series, vol. 47. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Hazod, Guntram. 2000a. “The Nine Royal Heirlooms.” In Civilization at the Foot of Mount Sham-po: The Royal House of lHa Bug-pa-can and the History of g.Ya-bzang, edited by Tsering Gyalbo et al., pp. 192-97. Vienna: Oster- reichischen Akademie der Wissenschaften.
—. 2000b. “The Yum-brtan Lineage.” In Civilization at the Foot of Mount Sham-po: The Royal House of lHa Bug-pa-can and the History of g.Ya’-bzang, edited by Tsering Gyalbo et al., pp. 177-91. Vienna: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
Heissig, Walther. 1980. The Religions of Mongolia. Translated by Geoffrey Samuel. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Herrmann-Pfandt, Adelheid. 1992. Dakinis: Zur Stellung und Symbolik des Weiblichen im Tantrischen Buddhismus. Indica et Tibetica 20. Bonn: Indica et Tibetica Verlag.
—. 2002. “The Lhan Kar Ma as a Source for the History of Tantric Buddhism.” In The Many Canons of Tibetan Buddhism, edited by Helmut Eimer and David Germano, pp. 129-49. Leiden: Brill.
Huber, Toni. 1990. “Where Exacdy Are Caritra, Devikota and Himavat? A Sacred Geography Controversy and the Development of Tantric Buddhist Pilgrimage Sites in Tibet.”Kailash: A Journal of Himalayan Studies 16, nos. 3-4: 121-64.
—, ed. 1999. Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture – A Collection of Essays. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.
Huntington, C.W., trans. 1989. The Emptiness of Emptiness: An Introduction to Early Indian Madhyamika. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Ikari, Yasuke, ed. 1994. A Study of the Nilamata: Aspects of Hinduism in Ancient Kashmir. Kyoto: Institute for Research in Humanities, Kyoto University.
Irvine, Martin. 1994. The Making of Textual Culture: ‘Grammatical and Literary Theory, 350 -1000. Cambridge: Cambridge University Press.
Isaacson, Harunaga. 2001. “Ratnakarasanti’s Hevajrasahajasadyoga.“ In Le Parole e i marmi: Studi in onore di Raniero Gnoli nel suo 70° compleanno, edited by Raffaele Torella. SOR 92, vol. 1, pp. 457-81. Rome: Istituto italiano per L’Africa e L’Oriente.
Iwasaki, Tsutomu. 1993. “The Tibetan Tribes of Ho-hsi and Buddhism During the Northern Sung Period.”Acta asiatica 64:17-37.
Jackson, David P. 1983. “Commentaries on the Writings of Sa-skya Pandita: A Bibliographical Sketch.”TJ 8, no. 3: 3-23.
—. 1985. “Madhyamaka Studies Among the Early Sa-skya-pas.”TJ 10, no. 2: 20-34.
—. 1986. “Sa-skya Pandita’s Letter to the Tibetans: A Late and Dubious Addition to His Collected Works.” JTS 6:17-23.
—. 1987. The Entrance Gate for the Wise (Section III). Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde Heft 17,1-2. 2 vols. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien Universitat Wien.
—. 1990. “Sa-skya Pandita the ‘Polemicist’: Ancient Debates and Modern Interpretations.” MRS 13:17-116.
—. 1993a. Foreword to “rNgog Lo-tsa-ba’s Commentary on the Abhisamayalamkara.“ Lo tsa ba chen poi bsdus don, pp. 1-31.
—. 1993b. Foreword to “rNgog Lo-tsa-ba’s Commentary on the Ratnagotravibhaga.” Theg chen rgyud bla’i don bsdus pa, pp. 1-49.
—. 1994a. “An Early Biography of rNgog Lo-tsa-ba Blo-ldan-shes-rab.” In Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Per Kvaerne, vol 1, pp. 372-92. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture.
—. 1994b. Enlightenment by a Single Means. Vienna: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
—. 1996. “The bsTan rim (‘Stages of the Doctrine’) and Similar Graded Expositions of the Bodhisattva’s Path.” In Tibetan Literature: Studies in Genre, edited by Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson, pp. 229-43. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.
Jackson, Roger R. 1996. “Poetry’ in Tibet: Glu, mGur, sNyan ngag and ‘Songs of Experience.” In Tibetan Literature: Studies in Genre, edited by Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson, eds., 368-96. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.
Jagchid, Sechin. 1970. “Why the Mongolian Khans Adopted Tibetan Buddhism as Their Faith.” In Proceedings of the Third East Asian Altaistic Conference, edited by Ch’en Chieh-hsien and Sechin Jagchid, pp. 108-28. Taibei.
—. 1980. “Chinese Buddhism and Taoism During the Mongolian Rule of China.”Mongolian Studies 6: 61-98.
Jagchid, Sechin, and Paul Hyer. 1979. Mongolia‘s Culture and Society. Boulder, Colo.: Westview Press.
de Jong, J. W. 1972. “Notes a propos des colophons du Kanjur.”Zentralasiatische Studien 6: 505-59.
Kajiyama, Yuichi. 1968/69. “Bhavaviveka, Sthiramati and Dharmapala.”Wiener Zeitschriftfur die Kunde Slid- und Ost-Asiens 12-13: 193-203.
Kaneko, Eiichi. 1982. Ko-tantora zenshu kaidai mokuroku. Tokyo: Kokusho kankokai.
Kapstein, Matthew T. 1980. “The Shangs-pa Bka’-brgyud: An Unknown Tradition of Tibetan Buddhism.” In Tibetan Studies in Honour of Hugh Richardson, edited by Michael Aris and Aung San Suu Kyi, pp. 138-44. Warminster: Philips and Aris.
—. 1992. “The Illusion of Spiritual Progress: Remarks on Indo-Tibetan Buddhist Soteriology.” In Paths to Liberation: The Marga and Its Transformations in Buddhist Thought, edited by Robert E. Buswell and Robert M. Gimello, pp. 193-224. Honolulu: University of Hawai’i Press.
—. 2000. The Tibetan Assimilation of Buddhism: Conversion, Contestation, and Memory. Oxford: Oxford University Press.
Karmay, Samten Gyaltsen. 1972. The Treasury of Good Sayings: A Tibetan History of Bon. London Oriental Series, vol. 26. Oxford: Oxford University Press.
—. 1988. The Great Perfection: A Philosophical and Meditative Teaching of Tibetan Buddhism. Leiden: Brill.
—. 1991. “L’homme et le boeuf: le rituel de glud (ran9on).”JA 279: 327-81. Translated in Karmay 1998, pp. 339-79.
—. 1998. The Arrow and the Spindle: Studies in History, Myths, Rituals and Beliefs in Tibet. Kathmandu: Mandala Book Point.
Karmay, Samten Gyaltsen, and Philippe Sagant, eds. 1997. Les habitants du toit du monde. Nanterre, France: Societe d’ethnologie.
Karmay, Samten Gyaltsen, and Yasuhiko Nagano, eds. 2000. New Horizons in Bon Studies. Osaka: National Museum of Ethnology.
Kielhorn, F. 1886. “The Sasbahu Temple Inscription of Mahipala, ofVikrama- Samvat 1150.”IA 15: 33-46.
Klimburg-Salter, Deborah E. 1987. “Reformation and Renaissance: A Study of Indo-Tibetan Monasteries in the Eleventh Century.” In Orientalia Iosephi Tucci Memoriae Dicta, edited by Edenda Curaverunt et al., vol. 2, pp. 683-702, plates I-VII. Rome: ISMEO.
—. 1997. Tabo: A Lamp for the Kingdom. New York: Thames & Hudson.
Kollmar-Paulerte, Karenina. 1993. Der Schmuck der Befreiung. Die Geschichte der Z.hi hyed- undgCod-Schule des tibetischen Buddhismus. Wiesbaden: Harrassowitz.
—. 1998. “Ma gcig lab sgron ma – The Life of a Tibetan Woman Mystic Between Adaptation and Rebellion.”TJ 23/2:11-32.
Kolver, Bernhard, and Hemraj Sakya. 1985. Documents from the Rudravarna- Mahavihara, Patan. Vol. 1, Sales and Mortgages. Sankt Augustin: VGH Wis- senschaftsverlag.
Kossak, Steven M., and Singer, Jane Casey. 1998. Sacred Visions: Early Paintings from Central Tibet. New York: Metropolitan Museum of Art.
Kramer, Ralf. 1997. “rNgog Blo-ldan-shes-rab (1059-1109): The Life and Works of the Great Translator.” Master’s thesis, University of Hamburg.
Krasser, Helmut, et al., eds. 1997. Tibetan Studies: Proceedings of the yth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995. 2 vols. Osterreichi- sche Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Denk- schriften, 256 Band. Vienna: Osterreichischen Akademie Der Wissenschaften.
van der Kuijp, Leonard W. J. 1978. “Phya-pa Chos-kyi seng-ge’s Impact on Tibetan Epistemological Theory.” JIP 5: 355-69.
—. 1983. Contributions to the Development of Tibetan Buddhist Epistemology. Alt- und Neu-Indische Studien 26. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.
—. 1985. “A Text-Historical Note on Hevajratantra II:v:i-2.”JIABS 8: 83-89.
—. 1987. “The Monastery of Gsang-phu ne’u-thog and Its Abbatial Succession from ca. 1073 to 1250.”Berliner indologische Studien 3:103 – 27.
—. 1993. “Jayananda: A Twelfth Century Guoshi from Kashmir Among the Tangut.”CAJ37:188-97.
—. 1994. “Apropos of Some Recently Recovered Texts Belonging to the Lam ‘bras Teachings of the Sa skya pa and Ko brag pa.”JIABS 17:175-201.
—. 1996. “Tibetan Historiography.” In Tibetan Literature: Studies in Genre, edited by Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson, pp. 39-56. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.
Kumar, Nita. 1988. Artisans of Banaras: Popular Culture and ldentity, 1880 – 1986. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Kvserne, Per. 1971. “A Chronological Table of the Bon po: The Bstan Reis of Ni Ma Bstan ‘Jin. “Acta orientalia 33: 205-48.
—. 1975. “On the Concept of Sahaja in Indian Buddhist Tantric Literature.”
Tememos ix: 88-135.
—, ed. 1994. Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies. 2 vols. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture.
Kychanov, E. J. 1978. “Tibetans and Tibetan Culture in the Tangut State Hsi Hsia (982-1227).” In Proceedings of the Csoma de Koros Memorial Symposium, edited by Louis Ligeti, pp. 205-11. Budapest: Akademiai Kiado.
Lahiri, Latika, trans. 1986. Chinese Monks in India. Reprint, Delhi: Motilal Banarsidass, 1995.
Lalou, Marcelle. 1938. “Le Culte des Naga et la therapeutique.” JA 230:1-19.
—. 1949. “Les Chemins du mort dans les croyances de haute Asie.”Revue de Thistoire des religions 135: 42-48.
—. 1952. “Rituel Bon-po des funerailles royales.” JA 240: 339-61.
—. 1953. “Les Textes bouddhiques au temps du Roi Khri-sron-lde-bcan.” JA 241, no. 3: 313-53.
Lang, Karen Christina. 1990. “Spa-tshab Nyi-ma-grags and the Introduction of Prasangika Madhyamaka into Tibet.” In Reflections on Tibetan Culture – Essays in Memory of Turrell V. Wylie, edited by Lawrence Epstein and Richard F. Sherburne. Studies in Asian Thought and Religion, vol. 12, pp. 127-41. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press.
Leonard, Karen Isaksen. 1978. Social History of an Indian Caste: The Kayasths of Hyaerabad. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Lessing, Ferdinand D., and Alex Wayman. 1968. Mkhas Grub Rje’i Fundamentals of the Buddhist Tantras. Indo-Iranian Monographs, vol. 8. The Hague: Mouton.
Levi, Sylvain. 1907. Mahayana-Sutralamkara: Expose de la doctrine du grand vehicule. Paris: Libraire honore champion.
Levinson, Jules B. 1996. “The Metaphors of Liberation: Tibetan Treatises on Grounds and Paths.” In Tibetan Literature: Studies in Genre, edited by Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson, pp. 261-74. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.
Lewis, Todd T. 1993. “Newar-Tibetan Trade and the Domestication of Simhala-sarthabahu Avadana.” History of Religions 33:135-60.
Lewis, Todd T., and Lozang Jamspal. 1988. “Newars and Tibetans in the Kathmandu Valley: Three New Translations from Tibetan Sources.” Journal of Asian and African Studies 36: 187-2×1.
Lhagyal, Dondrup. 2000. “Bonpo Family Lineages in Central Tibet.” In New Horizons in Bon Studies, edited by Samten Gyaltsen Karmay and Yasuhiko Nagano, pp. 429-508. Osaka: National Museum of Ethnology.
Lienhard, Siegfried. 1993. “Avalokitesvara in the Wick of the Night-Lamp.”7i736: 93-104.
Ligeti, Louis, ed. 1978. Proceedings of the Csoma de Koros Memorial Symposium. Bibliotheca orientalis hungarica, vol. 23. Budapest: Akademiai Kiado.
—. 1984. Tibetan and Buddhist Studies, Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Koros. 2 vols. Bibliotheca orientalis hungarica, vol. 29, no. 2. Budapest: Akademiai Kiado.
Lin, Meicun. 1990. “A New Kharosthl Wooden Tablet from China.” Bulletin of the School of Oriental and African Studies 53: 283-91.
Lindtner, Christian. 1982. Nagarjuniana: Studies in the Writings and Philosophy of Nagarjuna. Indiske Studier 4. Copenhagen: Akademisk Forlag.
Lo Bue, Erberto. 1994. “A Case of Mistaken ldentity: Ma-gcig Labs-sgron and Ma-gcig Zha-ma.” In Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Per Kvaerne, vol. 1, pp. 482-90. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture.
—. 1997. “The Role of Newar Scholars in Transmitting Buddhist Heritage to Tibet (c. 750-c. 1200).” In Karmay and Sagant 1997, pp. 629-58.
Locke, John K. 1985. Buddhist Monasteries of Nepal: A Survey of the Bahas and Bahts of the Kathmandu Valley. Kathmandu: Sahayogi Press.
Macdonald, Ariane, ed. 1971a. Etudes tibetaines dediees a la memoire de Marcelle Lalou. Paris: Adrien Maisonneuve.
—. 1971b. “Une lecture des Pelliot Tibetain 1286,1287,1038,1047, et 1290.” In Etudes tibetaines dediees a la memoire de Marcelle Lalou, edited by Ariane Macdonald, pp. 190-391. Paris: Adrien Maisonneuve.
Mala, Guilaine, and Ryutoku Kimura. 1988. Un traite tibetain de Dhyana chinois. Tokyo: Maison Franco-Japonaise.
Malla, Kamal P. 1985. Review of Mediaeval History of Nepal c. 750-1482. Contributions to Nepalese Studies 12, no. 2:121-35.
Martin, Dan. 1982. “The Early Education of Milarepa.”/7’S 2: 53-76.
—. 1992. “A Twelfth-Century Tibetan Classic of Mahamudra, The Path of Ultimate Profundity: The Great Seal Instructions of Zhang.” JIABS 15: 243-319.
—. 1996a. “Lay Religious Movements in nth- and 12th-Century Tibet: A Survey of Sources.” Kailash 18, nos. 3-4: 23-56.
—. 1996b. “On the Cultural Ecology of Sky Burial on the Himalayan Plateau.” East and West 46: 353-70.
—. 1996c. “The Star King and the Four Children of Pehar: Popular Religious Movements of the 11th- to 12th-Century Tibet.” Acta orientalia academiae scientiarum hungarica 49, nos. 1-2: 171-95.
—. 1997. Tibetan Histories: A Bibliography ofTibetan-Language Historical Works. London: Serindia Publications.
—. 2001a. “Meditation Is Action Taken: On Zhang Rinpoche, a Meditation-Based Activist in Twelfth-Century Tibet.” Lungta (Dharamsala) 14: 45-56.
—. 2001b. Unearthing Bon Treasures: Life and Contested Legacy of a Tibetan Scripture Revealer. Leiden: Brill.
Martines, Lauro. 1988. Power and Imagination: City-States in Renaissance ltaly. Rev. ed. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Mather, Richard B. 1959. Biography of Lu Kuang. Chinese Dynastic Histories Translations, no. 7. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Mathcs, Klaus-Dieter. forthcoming. “Blending the Sutras with the Tantras: The Influence of Maitripa and His Circle on the Formation of Sutra Maha-mudra in the Kagyu Schools.” In Studies in Tibetan Buddhist Literature and Praxis, edited by Ronald M. Davidson and Christian Wedemeyer. Leiden: Brill.
Mayer, Robert. 1994. “Scriptural Revelation in India and Tibet.” In Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Per Kvasrne, vol. 1, pp. 533-44. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture.
—. 1996. A Scripture of the Ancient Tantra Collection: The Phur-pa bcu-gnyis.
Oxford: Kiscadale Publications.
—. 1997a. “The Sa-skya Pandita, the White Panacea, and Clerical Buddhism’s Current Credibility Crisis.”TJ (Dharamsala) 22, no. 3: 79-105.
—. 1997b. “Were the gSar-ma Polemicists Justified in Rejecting Some rNying-ma-pa Tantras?” In Tibetan Studies: Proceedings of the 7th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995, edited by Helmut Krasser et al., vol. 2, pp. 619-32. Osterreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Denkschriften, 256 Band. Vienna: Osterre- ichischen Akademie Der Wissenschaften.
—. 1998. “The Figure of Mahesvara/Rudra in the rNin-ma-pa Tantric Tradition JIABS 21: 271-310.
McRae, John. 1986. The Northern School and the Formation of Early Ch’an Buddhism. Honolulu: University of Hawai’i Press.
Meinert, Carmen. 2002. “Chinese Chan and Tibetan Rdzogs Chen: Preliminary Remarks on Two Tibetan Dunhuang Manuscripts.” In Tibet, Past and Present, edited by Henk Blezer, vol. 2, pp. 289-307. Leiden: Brill.
—. 2003.”Structural Analysis of the bSam gtan mig sgron. A Comparison of
the Fourfold Correct Practice in the Aryavikolpapravesanamadharani and the Contents of the Four Main Chapters of the bSam gtan mig sgron.”JIABS 26: I75-95.
—. forthcoming. “The Legend of Cig car ba Criticism in Tibet: A List of Six Cig car ba Titles in the Chos ‘byung me togsnyingpo of Nyang Nyi ma ‘od zer (12th century).” In Studies in Tibetan Buddhist Literature and Praxis, edited by Ronald M. Davidson and Christian Wedemeyer. Leiden: Brill.
Meyvaert, Paul. 1980. “An Unknown letter of Hulagu, Il-Khan of Persia, to King Louis IX of France.”Viator 11: 245-59.
Nagano, Yasuhiko. 1979. “An Analysis of Tibetan Colour Terminology.”Tibetano-Burman Studies 1: 1 – 83.
—. 2000. “Sacrifice and lha pa in the glu rol Festival of Reb-skong.” In Neiv Horizons in Bon Studies, edited by Sam ten Gyaltsen Karmay and Yasuhiko Nagano, pp. 567-649. Osaka: National Museum of Ethnology.
Nalanda Translation Committee, trans. 1982. The Life ofMarpa the Translator. Boston: Shambhala.
Namai, Chisho Mamoru. 1997. On bodhicittabhavana in the Esoteric Buddhist Tradition.” In Tibetan Studies: Proceedings of the jth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 199s, edited by Helmut Krasser et al., vol. 2, pp. 657-68. Osterreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Denkschriften, 256 Band. Vienna: Osterre- ichischen Akademie Der Wissenschaften.
Nath, Vijay. 2001. Puranas and Acculturation: A Historioco-Anthropological Perspective. New Delhi: Munshiram Monoharlal Publishers.
de Nebesky-Wojkowitz, Rene. 1956. Oracles and Demons of Tibet – The Cult and Iconography of the Tibetan Protective Deities. s’Gravenhage: Mouton. Reprinted with introduction by Per Kvasrne. Graz: Altademische Druk-u.Verlagsanstalt, 1975-
Newman, John. 1985. “A Brief History of the Kalacakra.” In The Wheel of Time, edited by Geshe Lhundup Sopa, pp. 51-90. Madison, Wise.: Deer Park Books.
—. 1998. “Islam in the Kalacakra Tantra.”/Z455 21, no. 2: 311-71.
Nihom, Max. 1992. “The Goddess with the Severed Head: A Recension of Sadhanamala 232, 234, and 238 Attributed to the Siddhacarya Virupa.” In Ritual State and History in South Asia: Essays in Honour of J.C. Heesterman, edited by A. W. van den Hoek et al., pp. 222-43. Leiden: Brill.
—. 1995. “On Attracting Women and Tantric Initiation: Tilottama and Hevajratantra II, v. 38-47 and I, vii. 8-9. Bulletin of the School of Oriental and African Studies 58, no. 3: 521-31.
Norbu, Namkhai, and Kennard Lipman. 1986. Primordial Experience: An Introduction to rDxogs-chen Meditation. Boston: Shambhala.
Oberniller, E. 1931. History of Buddhism (Chos-hbyung) by Bu-ston. Materialien zur Kunde des Buddhismus 18 Heft. 2 vols. Heidelberg: O. Harrassowitz.
Orofino, Giacomella. 1997. “Apropos of Some Foreign Elements in the Kalacakratantra.” In Tibetan Studies: Proceedings of the yth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995, edited by Helmut Krasser et al., vol. 2, pp. 717-24. Osterreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Denkschriften, 256 Band. Vienna: Osterreichischen Akademie Der Wissenschaften.
—. 2001. “Notes on the Early Phases of Indo-Tibetan Buddhism.” In Le Parole e i marmi: Studi in onore di Raniero Gnoli nel suo 70° compleanno, edited by Raffaele Torella. SOR 92, vol. 2, pp. 541-64. Rome: Istituto italiano per L’Africa e L’Oriente.
Owens, Bruce McCoy. 1993. “Blood and Bodhisattvas: Sacrifice Among the Newar Buddhists of Nepal.” In Proceedings of the International Seminar on the Anthropology of Tibet and the Himalaya, edited by Charles Ramble and Martin Brauen, pp. 249-60. Zurich: Ethnological Museum of the University of Zurich.
Pagel, Ulrich. 1995. The Bodhisattvapitaka. Tring: Institute of Buddhist Studies.
Paludan, Ann. 1991. The Chinese Spirit Road: The Classical Tradition of Stone Tomb Statuary. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Pelliot, Paul. 1961. Histoire ancienne du Tibet. Paris: Maisonneuve.
Petech, Luciano. 1983. “Tibetan Relations with Sung China and with the Mongols.” In China Among Equals: The Middle Kingdom and Its Neighbors, ioth-i4th Centuries, edited by Morris Rossabi, pp. 173-203. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
—. 1984. Mediaeval History of Nepal (c. 750-1482). SOR 54. Rome: ISMEO.
—. 1990. Central Tibet and the Mongols. Rome: ISMEO.
—. 1994. “The Disintegration of the Tibetan Kingdom.” In Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Per Kvaerne, vol. 2, pp. 649-59. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture.
—. 1997. “Western Tibet: Historical Introduction.” In Tabo: A Lamp for the Kingdom, Deborah E. Klimburg-Salter, pp. 229-55. New York: Thames & Hudson.
Pommaret, Francoise. 1999. “The Mon-pa Revisited: In Search of Mon.” In Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture – A Collection of Essays, edited by Toni Huber, pp. 52-73. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.
Prasada, Rama. 1912. Patanjali’s Yoga Sutras, with the Commentary of Vyasa and the Gloss of Vachaspati Misra. Reprint, New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1978.
Rabil, Albert, ed. 1988. Renaissance Humanism: Foundations, Forms, and Legacy. 3 vols. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Rajaguru, Satyanarayan. 1955-76. Inscriptions of Orissa. 5 vols. Bhubaneswar: Orissa State Muesum.
Ramble, Charles. 1997. “Se: Preliminary Notes on the Distribution of an Ethnonym in Tibet and Nepal.” In Karmay and Sagant 1997, PP- 485-513.
Ratchnevsky, Paul. 1991. Genghis Khan: His Life and Legacy. Translated and edited by Thomas Nivison Haining. Oxford: Blackwell.
Regmi, D. R. 1983. Inscriptions of Ancient Nepal. 3 vols. New Delhi: Abhinav Publications.
rGya-mtsho, bSod-nams. 1981. “Go-ram bSod-nams sen-ge’s Commentary on the Fen pa bti bral.” In Wind Horse – Proceedings of the North American Ti- betological Society, edited by Ronald M. Davidson, pp. 23-39. Berkeley, Calif.: Asian Humanities Press.
Richardson, Hugh. 1957. “A Tibetan Inscription from Rgyal Lha-khan; and a Note on Tibetan Chronology from A.D. 841 to A.D. 1042JRAS, 57-78.
— . 1985. A Corpus of Early Tibetan Inscriptions. London: Royal Asiatic Society.
— . 1995. “The Tibetan Inscription Attributed to Ye-shes-‘od: A Note.” JRAS, 3rd ser., vol. 5: 403-4.
— . 1998. High Peaks, Pure Earth: Collected Writings on Tibetan History and Culture. London: Serindia Publications.
Robinson, James B. 1979- Buddha’s Lions: The Lives of the Eighty-Four Siddhas. Berkeley, Calif.: Dharma Publishing.
Robinson, Richard H. 1967. Early Madhyamika In India and China. Madison: University of Wisconsin Press.
Rocher, Ludo. 1986. A History of Indian Literature. Vol. 2, fasc. 3, The Purdnas. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.
Roerich, George N., trans. 1949. The Blue Annals. 2 vols. Calcutta: Royal Asiatic Society of Bengal.
Rona-Tas, A. 1978. “On a Term of Taxation in the Old Tibetan Royal Annals.” In Proceedings of the Csoma de Koros Memorial Symposium, edited by Louis Ligeti, pp. 357-63. Budapest: Akademiai Kiado.
Rossabi, Morris? 1988. Khubilai Khan: His Life and Times. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Rosser, Colin. 1978. “Social Mobility in the Newar Caste System.” In Caste and Kin in Nepal, India and Ceylon, edited by Christoph von Fiirer-Haimendorf, pp. 68-139. New Delhi: Sterling Publishers.
de Rossi-Filibeck, E. 1983. “The Transmission Lineage of the Gcod According to the 2nd Dalai-Lama.” In Contributions on Tibetan Language, History and Culture, edited by Ernst Steinkellner and Helmut Tauscher, vol. 2, pp. 47-57. Proceedings of the Csoma de Koros Symposium, Velm-Vienna, September 13-19,1981. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien Universitat Wien.
Ruegg, David Seyfort. 1966. The Life of Bu Ston Rinpo Che. SOR 34. Rome: ISMEO.
—. 1971. “Le Dharmadhdtusthava de Nagarjuna.” In Etudes tibetaines dediees a la memoire de Marcelle Lalou, edited by Ariane Macdonald, pp. 448-71. Paris: Adrien Maisonneuve.
—. 1973. Le Traite du Tathagatagarbha de Bu Ston Rin Chen Grub. Publications de l’Ecole francaise d’extreme-orient, vol. 88. Paris: Ecole francaise d’extreme-orient.
—. 1981. “Deux problemes d’exegese et de pratique tantriques.” In Tantric and Taoist Studies in Honour of R. A. Stein, edited by Michel Strickmann. Melanges chinois et bouddhiques 20: 212 – 26.
—. 1989. Buddha-nature, Mind and the Problem of Gradualism in a Comparative Perspective: On the Transmission and Reception of Buddhism in India and Tibet. London: School of Oriental and African Studies.
—. 1995. Ordre spirituel et ordre temporel dans la pensee bouddhique de Vinde et du Tibet. Publications de 1’Institute de civilisation indienne, fasc. 64. Paris: College de France.
—. 1997. “The Preceptor-Donor (yon mchod) Relation in Thirteenth Century Tibetan Society and Polity, Its Inner Asian Precursors and Indian Models.” In Tibetan Studies: Proceedings of the qth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995, edited by Helmut Krasser et al., vol. 2, pp. 857 – 72. Osterreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-His- torische Klasse Denkschriften, 256 Band. Vienna: Osterreichischen Akademie Der Wissenschaften.
—. 2000. Three Studies in the History of Indian and Tibetan Madhyamaka Philosophy. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische unde Buddhistische Studien, Universitat Wien.
Russell, R. V. 1916. The Tribes and Castes of Central Provinces of India. Assisted by Rai Bahadur Hira Lai. Reprint, Oosterhout: Anthropological Publications, 1969. 4 vols.
Sachau, Edward C. 1910. Alberuni’s India – An Account of the Religion, Philosophy, Literature, Geography, Chronology, Astronomy, Customs, Laws and Astrology of India About A.D. 1030. 2 vols. London: Kegan Pual, Trench, Trubner.
Sakurai, Munenobu. 1996. Indo mikkyogirei kenkyu. Kyoto: Hozogan.
Salomon, Richard. 1990. “New Evidence for a Gandhari Origin of the Arapacana Syllabary.” JAOS no: 255-73.
—. 1999. Ancient Buddhist Scrolls from Gandhara: The British Library Kharosthi Fragments. Seattle: University of Washington Press.
Samten, Jampa. 199a. A Catalogue of the Phug-brag Manuscript Kanjur. Dharamsala: Library of Tibetan Works & Archives.
Schaeffer, Kurtis R. 2002. “The Attainment of Immortality: From Nathas in India to Buddhists in Tibet.”JIP 30: 515 – 33.
van Schaik, Sam. 2004. “The Early Days of the Great Perfection.” JIABS 27:165-206.
Scherrer-Schaub, Christina A. 2002. “Enacting Words. A Diplomatic Analysis of Imperial Decrees (bkas bead) and Their Application in the sGra sbyor bam po gnispa Tradition.”JIABS 25: 263-340.
Schoening, Jeffrey D. 1990. “The Religious Structures at Sa-skya. “In Refections on Tibetan Culture – Essays in Memory of Turrell V. Wylie, edited by Lawrence Epstein and Richard F. Sherburne. Studies in Asian Thought and Religion, vol. 12, pp. 11-47. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press.
Schopen, Gregory. 1985. “The Bodhigarbhalankaralaksa and Vimalosnisa Dharanis in Indian Inscriptions.”Wiener Zeitschrift fur die Kunde Sudasiens 29: 119-49.
—. 1992. “On Avoiding Ghosts and Social Censure: Monastic Funerals in the Mulasarvastivada-Vinaya.” JIP 20: 1-39.
—. 1994a. “Doing Business for the Lord: Lending on Interest and Written Loan Contracts in the Mulasarvastivada-vinaya.“ JAOS 114:527 – 54.
—. 1994b. “Ritual Rights and Bones of Contention: More on Monastic Funerals and Relics in the Mulasarvastivada-vinaya.”JIP 22: 31-80.
—. 1995. “Monastic Law Meets the Real World: A Monk’s Continuing Right to Inherit Family Property in Classical India.” History of Religions 35: 101-23.
Schram, Louis M. J. 1961. The Mongours of the Kansu-Tibetan Frontier. Part 3, Records of the Mongour Clans, Transactions of the American Philosophical Society, n.s. 51, no. 3.
Sharma, R. C. 1989. “New Inscriptions from Mathura.” In Mathura – The Cultural Heritage, edited by Doris M. Srinivasan, pp. 308-15. New Delhi: American Institute of Indian Studies.
Sharma, Ram Sharan. 1965. Indian Feudalism – c. 300-1200. Reprint, Calcutta: University of Calcutta, 1987.
—. 2001. Early Medieval Indian Society: A Study in Feudalisation. Hyaerabad: Orient Longman.
Shastri, Lobsang. 1994. “The Marriage Customs of Ru-thog (Mnga’-ris).” In Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Per Kvasrne, vol. 2, pp. 755-77. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture.
—. 1997. “The Fire Dragon Chos ‘Khor (1076 A.D.).” In Tibetan Studies: Proceedings of the jth Seminar of the International Association for Tibetan Studies, Graz 1995, edited by Helmut Krasser et al., vol. 2, pp. 873-82. Osterreichische Akademie der Wissenschaften Philosophisch-Historische Klasse Denk- schriften, 256 Band. Vienna: Osterreichischen Akademie Der Wissenschaften.
Siklos, Bulcsu. 1996. The Vajrabhairava Tantras: Tibetan and Mongolian Versions, English Translation and Annotations. Buddhica Britannica Series Continua 7. Tring: Institute of Buddhist Studies.
Slusser, Mary Shepherd. 1982. Nepal Mandala – A Cultural Study of the Kathmandu Valley. 2 vols. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
Smith, E. Gene. 2001. Among Tibetan Texts: History and Literature of the Himalayan Plateau. Boston: Wisdom Publications.
Snellgrove, David L. 1967. The Nine Ways of Bon: Exerpts from gZi-brjid Edited and Translated. London Oriental Series, vol. 18. Oxford: Oxford University Press.
—. 1987. Indo-Tibetan Buddhism: Indian Buddhists & Their Tibetan Successors. 2 vols. Boston: Shambhala.
Snellgrove, David L., and Tadeusz Skorupski. 1977-80. The Cultural Heritage of Ladakh. 2 vols. New Delhi: Vikas.
Sobisch, Jan-Ulrich. 2002. Three-Vow Theories in Tibetan Buddhism: A Comparative Study of Major Traditions from the Twelfth Through Nineteenth Centuries. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.
Somers, Robert M. 1979. “The End of the T’ang.” In The Cambridge History of China. Vol. 3, Sui and T’ang China, 589-906, edited by Denis Twitchett, part 1, pp. 682-789. Cambridge: Cambridge University Press.
Sorensen, Per, trans. 1994. Tibetan Buddhist Historiography: The Mirror Illuminating the Royal Genealogies: An Annotated Translation of the XIVth Century Tibetan Chronicle: rGyal-rabsgsal-ba’i me-long. Asiatische Forschungen series, band 128. Wiesbaden: Harrassowitz.
Sperling, Elliot. 1987. “Lama to the King of Hsia.” JTS 7: 31-50.
—. 1991. “Some Remarks on sGa A-gnyan dam-pa and the Origins of the Hor-pa Lineage of the dKar-mdzes Region.” In Tibetan History and Language: Studies Dedicated to Uray Geza on his Seventieth Birthday, edited by Ernst Steinkellner, pp. 455-65. Wiener Studien zur Tibetologie un Buddhismuskunde Heft 26. Vienna: Universitat Wien.
—. 1994. “Rtsa-mi Lo-tsa-ba Sangs-rgyas grags-pa and the Tangut Background to Early Mongol-Tibetan Relations. In Tibetan Studies: Proceedings of the 6th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Per Kvaerne, vol. 2, pp. 803-24. Oslo: Institute for Comparative Research in Human Culture.
Spitz, Lewis W. 1987. The Renaissance and Reformation Movements. Vol. 1, The Renaissance. Rev. ed. St. Louis: Concordia.
Stark, Rodney, and William Sims Bainbridge. 1985. The Future of Religion: Secularization, Revival, and Cult Formation. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Stearns, Cyrus. 1996. “The Life and Tibetan Legacy of the Indian Mahapandita Vibhuticandra.”JIABS 19: 127-71.
—. 1997. “A Quest for ‘The Path and Result.'” In Religions of Tibet – In Practice, edited by Donald S. Lopez, pp. 188-99. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
—. 1999. The Buddha from Dolpo: A Study of the Life and Thought of the Tibetan Master Dolpopa Sherab Gyaltsen. Albany: State University of New York Press.
—. 2001. Luminous Lives: The Story of the Early Masters of the Lam ‘Bras Tradition in Tibet. Boston: Wisdom Publications.
Stein, Burton. 1991. “The Segmentary State: Interim Reflections.”Purusartha 13: 217-37.
Stein, Rolf A. 1951. “Mi-nag et Si-hia, geographic historique et legendes ances- trales.”BEFEO 44: 223-65.
—. 1959. Recherches sur Tepopee et le barde au Tibet. Bibliotheque de l’lnstitute des hautes etudes chinoises, vol. 13. Paris: Presses universitaires de France.
—. 1961. Les Tribus anciennes des marches sino-tibetaines. Bibliotheque de l’lnstitut des hautes etudes chinoises, vol. 15. Paris: Presses universitaires de France.
—. 1962. “Une source ancienne por l’histoire de l’epopee tibetaine, le Rians Po-ti bse-ru.“ JA 250: 77-106.
—1966. “Nouveaux Documents tibetains sur le Mi-Nag/Si-hia.” Melanges de sinologie offerts a Monsieur Paul Demieville, pp. 281 – 89. Bibliotheque de l’lnstitut des hautes etudes chinoises, vol. 20. Paris: Presses universitaires de France.
—. 1978. “A Propos des documents anciens relatifs au Phur-Bu (Kila).” In Proceedings of the Csoma de Koros Memorial Symposium, edited by Louis Ligeti, pp. 427-44. Budapest: Akademiai Kiado.
—. 1984. “Tibetica antiqua II: L’Usage de metaphores pour des distinctions
honorifiques a l’epoque des rois tibetains.”BEFEO 73: 257-72.
—. 1985. “Tibetica antiqua III: A Propos du mot gcug-lag et de la religion indigene.”BEFEO 74: 83-133.
—. 1986. “Tibetica antiqua IV: La Tradition relative au debut du bouddhism au Tibet.”BEFEO 75:169-96.
—. 1995. “La Soumission de Rudra et autres contes tantriques.” JA 283:121-60.
Steinkellner, Ernst. 1973. Dharmakirti’s Pramanaviniscayah, 2. Kapitel: Svarthd- numanam. 2 vols. Vienna: Osterreichische Akademi der Wissenschaften.
—. 1978. “Remarks on Tantristic Hermeneutics.” In Proceedings of the Csoma de Koros Memorial Symposium, edited by Louis Ligeti, pp. 445-58. Budapest: Akademiai Kiado.
—. 1991. Tibetan History and Language: Studies Dedicated to Uray Geza on His Seventieth Birthday. Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde Heft 26. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien Universitat Wien.
Steinkellner, Ernst, and Helmut Tauscher, eds. 1983. Contributions on Tibetan Language, History and Culture. Proceedings of the Csoma de Koros Symposium, Velm-Vienna, September 13-19,1981. 2 vols. Vienna: Arbeitskreis fur Tibetische und Buddhistische Studien Universitat Wien.
Stock, Brian. 1990. Listening for the Text. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Sutherland, Gail Hinich. 1991. Disguises of the Demon: The Development of the Yaksa in Hinduism and Buddhism. Albany: State University of New York Press.
Sweet, Michael J. 1996. “Mental Purification (Bio sbyong): A Native Tibetan Genre of Religious Literature.” In Tibetan Literature: Studies in Genre, edited by Jose Ignacio Cabezon and Roger R. Jackson, pp. 244-60. Ithaca, N.Y.: Snow Lion.
Szerb, Janos. 1980. “Glosses on the Oeuvre of Bla-ma ‘phags-pa. I on the Activity of Sa-skya Pandita. “In Tibetan Studies in Honour of Hugh Richardson, edited by Michael Aris and Aung San Suu Kyi, pp. 290-300. Warminster: Aris and Phillips.
—. 1985. “Glosses on the Oeuvre of Bla-ma ‘Phags-pa: III. The ‘Patron-
Patronized’ Relationship.” In Soundings in Tibetan Civilization, edited by Barbara Nimri Aziz and Matthew Kapstein, pp. 165-73. New Delhi: Manohar.
—. 1990. Bu ston’s History of Buddhism in Tibet, Critically Edited with a Comprehensive Index. Bcitrage zur Kultur- und Geistesgeschichte Asiens, no. 5. Vienna: Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
Tachikawa, Musashi. 1975. “The Tantric Doctrine of the Sa skya pa According to the Selgyi me loti. “Acta asiatica 29: 95 – 106.
Takasaki, Jikido. 1966. A Study on the Ratnagotravibhaga. SOR 33. Rome: ISMEO.
Tatz, Mark. 1986. Asanga’s Chapter on Ethics with the Commentary of Tsong-Kha-pa, The Basic Path to Awakening, the Complete Bodhisattva. Studies in Asian Thought and Religion, vol. 4. Lewiston, N.Y.: Edwin Mellen Press.
—. 1987. “The Life of the Siddha-Philosopher Maitrlgupta.” JAOS 107:695-711.
Templeman, David. 1999. ” Internal and External Geography in Spiritual Biography.” In Sacred Spaces and Powerful Places in Tibetan Culture – A Collection of Essays, edited by Toni Huber, pp. 187-97. Dharamsala: Library of Tibetan Works and Archives.
Thakur, Laxman S. 1994. “A Tibetan Inscription by lHa Bla-ma Ye-shes-‘od from dKor (sPu) rediscovered.” JRAS 3rd. ser., vol. 4: 369-75.
Thapar, Romila. 2004. Somanatha: The Many Voices of a History. New Delhi: Viking Penguin.
Thargyal, Rinzin. 1988. “The Applicability of the Concept of Feudalism to Traditional Tibetan Society.” In Tibetan Studies: Proceedings of the 4th Seminar of the International Association for Tibetan Studies, edited by Helga Uebach and Jampa L. Panglung, pp. 391-95. Munich: Bayerische Akademie der Wissenschaften.
Thomas, F. W. 1903. “Deux collections sanscrites et tibetaines de sadhanas.”Le Museon n.s. 4: 1-42.
—. 1935 – 55. Tibetan Literary Texts and Documents Concerning Chinese Turkestan.
Oriental Translation Fund, n.s. vols. 32, 37, 40. London: Luzac.
—. 1957. Ancient Folk-Literaturefrom North-Eastern Tibet. Berlin: Akademie Verlag.
Thondup, Tulku. 1986. Hidden Teachings of Tibet: An Explanation of the Terma Tradition of the Nyingma School of Buddhism. London: Wisdom Publications.
Torella, Raffaele, ed. 2001. Le Parole e i marmi: Studi in onore di Raniero Gnoli nel suo jo compleanno. SOR 92.2 vols. Rome: Istituto italiano per L’Africa e L’Oriente.
Tsering, Pema. 1978. “Rnin Ma Pa Lamas am Yiian-Kaiserhof.” In Proceedings of the Csoma de Koros Memorial Symposium, edited by Louis Ligeti, pp. 511-40. Budapest: Akademiai Kiado.
Tucci, Giuseppe. 1930a. “Animadversiones Indicae.”Journal of the Asiatic Society of Bengal 26:125-60.
—. 1930b. TheNyayamukhaofDignaga. Materialien zur Kunde des Buddhismus, vol. 15. Heidelberg: O. Harrassowitz.
—. 1947. “The Validity of Tibetan Historical Tradition.”Reprint, Opera minora. Rome: Rome University, 1971.
—. 1949. Tibetan Painted Scrolls. 3 vols. Rome: La Libreria dello stato. Reprint, Bangkok: SDI Publications, 1999.
—. 1950.The Tombs of the Tibetan Kings. SOR 1. Rome: ISMEO.
—. 1956a. Preliminary Report on Two Scientific Expeditions in Nepal. SOR 10. Rome: ISMEO.
—. 1956b. To Lhasa and Beyond. Rome: Istituto poligrafico dello stato.
—. 1958. Minor Buddhist Texts. SOR 9. 2 vols. Rome: ISMEO.
—. 1980. The Religions of Tibet. Translated from the German and ltalian by Geoffrey Samuel. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Uebach, Helga, ed. and trans. 1987. Nel-pa Pandita’s Chronik Me-Tog Phren-ba: Handschrift der Library of Tibetan works and Archives, Tibetischer Text in Faksimile, Transkription und Ubersetzung. Studia Tibetica Band I. Munich: Bayerische Akademie der Wissenschaften.
—. 1990. “On Dharma-Colleges and Their Teachers in the Ninth Century Tibetan Empire. “In Indo-Sino-Tibetica: Studi in onore di Luciano Petech, edited by Paolo Daffina, pp. 393-417. Studi Orientali, vol. 9. Rome: Universita di Roma.
Ueyama, Daishun. 1983. “The Study of Tibetan Ch’an Manuscripts Recovered from Tun-huang: A Review of the Field and Its Prospects.” In Early Ch’an in China and Tibet, edited by Whalen Lai and Lewis R. Lancaster, pp. 32749. Berkeley, Calif.: Asian Humanities Press.
Ui, Hakuju, et al., eds. 1934. A Complete Catalogue of the Tibetan Buddhist Canons (BKah-hgyur and Bstan-hgyur). Sendai: Tohoku Imperial University.
Uray, Geza. 1982. “Notes on the Thousand-Districts of the Tibetan Empire in the First Half of the Ninth Century.”Acta orientalia academiae scientiarum hungaricae 36, nos. 1-3: 545-48.
de la Vallee Poussin, Louis, trans. 1971. L‘Abhidharmakosa de Vasubandhu. 2nd. ed. Melanges chinois et bouddhiques 16. 6 parts.
van der Veer, Peter. 1988. Gods on Earth: The Management of Religious Experience and identity in a North Indian Pilgrimage Centre. London: Athlone Press.
Verhagen, Pieter C. 1994. A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet. Vol. 1, Transmission of the Canonical Literature. Leiden: Brill.
—. 1995. “Studies in Tibetan Indigenous Gammar (2): Tibetan Phonology and Phonetics in the Byis-pa-bde-blog-tu-jug-pa by Bsod-nams-rtse-mo (1142-1182).”Asiatische studien 49, no. 4: 943-68.
—. 2001. A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet, Vol. 2, Assimilation into Indigenous Scholarship. Leiden: Brill.
Vitali, Roberto. 1990. Early Temples of Central Tibet. London: Serindia Publications.
—. 1996. The Kingdoms of Gu-.ge Pu.hrang. Dharamsala: Tho.ling gtsug.lag.khang lo.gcig.stong ‘khor.ba’i rjes.dran.mdzad sgo’i go.sgrig tshogs.chung.
—. 2001. “Sa skya and the mNga’ ris skor gsum legacy: the case of Rin chen bzang po’s flying mask.”Lungta 14: 5-44.
—. 2002. “The History of the Lineages of Gnas Rnying Summarised as Its ‘Ten Greatnesses.'” In Tibet, Past and Present, edited by Henk Blezer, vol. 1, pp. 81-107. Leiden: Brill.
—. forthcoming. “The Transmission of bsnyunggnas in India, the Kathmandu Valley and Tibet (10th-12th Centuries).” In Studies in Tibetan Buddhist Literature and Praxis, edited by Ronald M. Davidson and Christian Wedemeyer. Leiden: Brill.
Vogel, Jean Phillippe. 1926. Indian Serpent Lore: or the Nagas of Hindu Legend and Art. London: A. Probsthain.
Vostrikov, A. I. 1970. Tibetan Historical Literature. Translated from the Russian by Harish Chandra Gupta. Soviet Indology Series, no. 4. Calcutta: Indian Studies Past & Present.
Wang, Gungwu. 1963. The Structure of Power in North China During the Five Dynasties. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
Wayman, Alex. 1977. Yoga of the Guhyasamajatantra: The Arcane Lore of Forty Verses. Delhi: Motilal Banarsidass.
Wedemeyer, Christian K. forthcoming. “Tantalizing Traces of the Labors of the Lotsawas: Alternative Translations of Sanskrit Sources in the Writings of Rje Tsong Kha pa.” In Studies in Tibetan Buddhist Literature and Praxis, edited by Ronald M. Davidson and Christian K. Wedemeyer. Leiden: Brill.
Weinstein, Stanley. 1987. Buddhism Under the T’ang. Cambridge: Cambridge University Press.
Willson, Martin. 1986. In Praise of Tara: Songs to the Savioress. Boston: Wisdom Publications.
Witzel, Michael. 1994. “Kashmiri Manuscripts and Pronunciation.” In A Study of the Nilamata: Aspects of Hinduism in Ancient Kashmir, edited by Yasuke Ikari, pp. 1-53. Kyoto: Institute for Research in Humanities, Kyoto University.
Wright, Arthur F. 1990. Studies in Chinese Buddhism. New Haven, Conn.: Yale University Press.
Wylie, Turrell V. 1977. “The First Mongol Conquest of Tibet Reinterpreted.”Harvard Journal of Asian Studies 1:103-33.
—. 1982. “Dating the Death of Naropa.” In Indological and Buddhist Studies – Volume in Honour of Professor J. W. de Jong on His Sixtieth Birthday, edited by L. A. Hercus et al., pp. 687-92. Bibliotheca Indo-Buddhica, no. 27. Delhi: Sri Satguru Publications.
Yamaguchi, Zuiho. 1984. “Methods of Chronological Calculation in Tibetan Historical Sources.” In Tibetan and Buddhist Studies, Commemorating the 200th Anniversary of the Birth of Alexander Csoma de Koros, edited by Louis Ligeti, vol. 2, pp. 405-24. Bibliotheca orientalis hungarica, vol. 29, no. 2. Budapest: Akademiai Kiado.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В каком-то смысле такое осуждение местного творчества было вполне объяснимо. Ведь помимо этого в Тибет непрерывным потоком текли новые идеи и разработки из соседней Индии, что создавало для тибетцев такую же проблему, с какой столкнулись китайцы и прочие народы в предыдущие века. Нет сомнений в том, что Калачакра, являвшаяся последней из великих эзотерических традиций, возникших в Индии, стала серьезным интеллектуальным вызовом порядку, установившемуся под воздействием прасангики и других религиозных систем конца одиннадцатого – начала двенадцатого столетий15. На самом деле Калачакра появилась в Тибете несколько раньше. Считается, что Гьиджо Дове Осер установил начало тибетского календаря на 1027 г. н.э., основываясь на своих расчетах и первых переводах текстов, связанных с Калачакрой, хотя большинство из этих вычислений он, вероятно, сделал уже во второй половине одиннадцатого столетия. Ученику Гьиджо Ньо-лоцаве, тому самому переводчику, который, по общему мнению, сопровождал Марпу в Индию, приписывают перевод всего стандартного комментария «Вималапрабха», что по меркам тех времен можно считать монументальным достижением (если только это правда). Тот же источник указывает, что эта работа была вновь переведена Дро-лоцавой Шерапдраком, причем, возможно, с использованием более раннего перевода в качестве основы или частичного руководства16. В любом случае именно работа Дро-лоцавы, выполненная им совместно с пандитом Соманатхой, является общепризнанным переводом как основной тантры, так и ее комментариев, и, судя по всему, она была завершена в конце одиннадцатого или начале двенадцатого столетия.
Это был также период расцвета индийской и тибетской учености, ориентированной на Калачакру. В Индии данное направление возглавляли такие ученые, как Абхаякарагупта (ок. 1100 г.), Соманатха и Вагишвара, также известно об этой деятельности в Непале и Кашмире. Одновременно с ними свою работу по изучению данной системы вели и некоторые великие тибетские ученые. Племянник Рало Дордже-драка Ра-ло Чорап совместно с непальцем Саманташри и другими учеными трудился над переводом «Секапракрии» – канонического текста посвящения Калачакры. Кроме того Ра-ло Чорап был влиятельным и популярным проповедником Калачакры. Также способствовали распространению Калачакры на Тибете Ньен-чунг Дхарма-драк, Гало Жону-пел (1110–1198) и некоторые другие ученые конца одиннадцатого – начала двенадцатого столетий. Более того, тибетцы были не единственными, кто проявлял интерес к Калачакре, поскольку важную роль в распространении Калачакры как на Тибете, так и в Тангутском государстве сыграл Цами-лоцава – один из самых первых тангутских ученых, работавший в начале двенадцатого столетия.
Почему на рубеже двенадцатого столетия эта тантрическая система вызвала такой большой интерес, посеяв в сердцах индийцев, тибетцев, тангутов и других людей одержимость ее мистическим мировоззрением? Для тибетцев ответ на данный вопрос был вроде бы прост, но вместе с тем многогранен. Калачакра представила космологию, которая впервые подтвердила, что изначальное место нахождения истинной Дхармы располагается за пределами Индии, в скрытой от чужих глаз северной стране Шамбале. Хотя в этом вопросе до сих пор остается множество неясностей, одна из возможных интерпретаций загадочных указаний в самой «Калачакра-тантре» (которая напрямую не согласуется с космологией ее весьма влиятельного комментария «Вималапрабхи») заключается в том, что Шамбала может располагаться по соседству с государством Пуранг17. Мало того, что эта парадигма напрямую соотносилась с местными идеями «скрытых мистических долин» (sbas yul) и традицией терма, данная мифология также подкрепляла относительно новую тибетскую идею, согласно которой Дхарма может найти прибежище и укрыться от врагов именно в Тибете. Кроме того, согласно «Калачакра-тантре» и связанным с ней материалам, еретический террор ислама и индуизма будет прекращен пришедшим с севера новым повелителем Дхармы. Такие утверждения вызывали у тибетцев двенадцатого столетия ассоциации с имперским прошлым, а также порождали надежду на изгнание злонамеренных врагов своей религии и возвышение на этом месте сильной буддистской теократии.
Помимо необычной космологии Дхармы, «Калачакра-тантра» являет собой очень сложное произведение, в котором представлены совершенно новые области знания. Тяга к новой информации, очень характерная для этого периода, стала основной причиной проникновения в Тибет разнообразных медицинских, астрологических, эмбриологических, гносеологических и прочих знаний, которые в том числе содержатся и в этом сложнейшем священном писании и сопутствующей ему литературе. Наконец, и я считаю это столь же важным, как и все предыдущие причины, данная тантра представляет собой такое видение реальности, в котором все эти элементы интегрированы друг в друга. В отличие от разрозненных заметок, описаний узкоспециализированных ритуалов и представлений самобытных медитаций, заполняющих множество коротких глав других тантр, «Калачакра-тантра» написана очень изящно и явно одним автором, обладавшим глубокими познаниями и глобальным видением. Каждая из пяти глав полностью взаимосвязана со всеми остальными, поэтому полное понимание сущности этого текста возможно только после его кропотливого изучения. Здесь невозможно частичное прочтение, т.к. нет искусственного разделения на изложение теоретических аспектов и описание отдельных практик. Данное писание повествует о реальном объединении надмирного видения с практическим осуществлением земной власти, причем делает это особо не заботясь о тонкостях философского синтаксиса и религиозного стиля. Оно поражает своим всеохватным подходом, и когда в конце одиннадцатого – начале двенадцатого столетий тибетцы созрели для понимания его идей, они с огромной радостью ухватились за этот текст.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
Некоторые идут в Ваджрасану (Бодхгаю), но там полно еретиков; они не обладают какими-либо достижениями. На пути много ужасных разбойников, когда они перережут тебе горло, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерть от ножа.
Другие идут к ледяному полю Кайласы, но на леднике Кайласы много кочевников. Кочевники совершают всяческие плохие деяния. Будучи убит ледником своих собственных ошибочных взглядов, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерь от ножа.
Другие отправляются в Цари Цагонг, где полно местных лало-монпа. Но там не встречается даже само понятие «язык Дхармы». Будучи убит своими собственными демонами, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерть от ножа.
Подобных мест очень много, так что не стоит носиться по всем этим «местам достижений». Вместо этого займись своим совершенствованием в уединенном затворе с благоприятными условиями, с поднятыми [знамёнами] двух медитативных процессов.
Тогда, где бы ты ни был, ты будешь находиться на Акаништхе вместе с избранным тобой божеством. Что бы ты ни ел или ни пил, это будет нектар. Не искать некоего внешнего «место достижений» – таков обет сокровенных тайных заклинаний. Так что не подхватывайте эту паломническую песню, а оставайтесь на месте и вспахивайте поле!
Да, эта моя обитель, славная Сакья, подобна месту, расположенному на небесах Акаништхи.
Дракпа Гьелцен «Песня постижения, восхваляющая это место»1
|
В конце двенадцатого и начале тринадцатого столетий положение Центрального Тибета в религиозной жизни Азии стало практически таким же, каким оно ранее было у Индии и, в определенной степени, у Китая. Именно в эти времена тангутские императоры начали покровительствовать учителям кагьюпы и даровать им титулы «государственного наставника» (guo shi) и «императорского наставника» (di shi), т.е. точно такие же, как те, что были присвоены сакьяпинскому владыке Пакпе в тринадцатом столетии. Тангутские монахи все чаще стали поодиночке посещать У-Цанг с целью обучения, в особенности после прибытия сюда множества индийцев, спасавшихся бегством от беспорядков, охвативших территорию Западной и Северной Индии. Порой эти индийцы проявляли интерес к тибетским учениям, и известно несколько случаев, когда индийцы и сингальцы пытались обучаться в Тибете. Все эти события кажутся довольно обособленными друг от друга, но в совокупности они ознаменовали глубокие перемены в судьбах как самого Тибета, так и Индии. Не вызывает сомнений, что тибетцы по-прежнему считали Индию священной землей, и многие по-прежнему отправлялись на поиски истинной Дхармы в страну Будды. С другой стороны ученым индийским монахам в Тибете оказывался хороший прием и обеспечивалось покровительство, поскольку они приносили с собой новейшие и наиболее эзотерические откровения. Но к 1200 году Центральный Тибет уже с успехом представлял себя тем местом, где в полной мере присутствует просветленная деятельность будд, где можно встретить воплощения знаменитых индийских монахов и где укоренились строгие стандарты медитации и учености индийских монастырей. Будучи недавно страной, отчаянно нуждавшейся в буддийских миссионерах, Тибет теперь сам посылал своих монахов к имперским дворам и иностранным монархам.
Парадокс данной ситуации заключается в том, что все это происходило в те времена, когда сами тибетцы, казалось, были плохо подготовлены к тому, чтобы стать центром распространения Дхармы. Хотя их институты уже начали обретать долговечность и стабильность, а их ученые успешно занимались формулированием своего собственного понимания Дхармы, всякий раз, когда в религиозной сфере возникала напряженность, тибетское общество по-прежнему охватывали беспокойство и волнение. В то время как тангуты и все остальные воспринимали Тибет, как территорию, объединенную единой религией, сами тибетцы испытывали очевидные трудности даже с простым поддержанием внутреннего мира, вследствие чего во второй половине двенадцатого столетия и разразился религиозный конфликт между различными линиями и школами. Одна из самых важных причин этого явления заключалась в том, что религиозные авторитеты продолжали придерживаться норм тибетской и индийской феодальных систем, оправдывая с их помощью свое идиосинкразическое поведение и устремления к личному возвеличиванию, которые они преподносили как деятельность просветленной личности. На самом деле создается впечатление, что в двенадцатом столетии тибетцы практически не обращали внимания на три абсолютно очевидные вещи. Во-первых, они не вполне осознавали свои выдающиеся достижения за два предыдущих века интенсивной буддийской литературной и монашеской деятельности. Во-вторых, они не стремились аутентифицировать независимые тибетские сочинения в качестве эквивалента текстам индийских наставников. В-третьих, они не понимали, что процесс создания религиозных институтов отодвинул на второй план вопросы политической интеграции, значительно затрудняя достижение национального единство усилиями тех, кто обладал реальной властью. Возрастание роли буддистских монастырей и их интеграция в крайне раздробленный политический ландшафт Индии теперь повторялась и на Тибете, порождая сегментацию его социально-политического поля, подобную индийской политической раздробленности, имевшей место пятью веками ранее. Вследствие всего этого, внутренняя жизнь Тибета тех времен определялась сложным хитросплетением взаимоотношений между прямыми наследниками имперской династии, местными аристократами с общетибетскими клановыми связями и набирающими силу монашескими учреждениями, которые уже разговаривали с феодалами как с равными (на самом деле так оно и было).
К концу двенадцатого столетия тибетцы уже перевели подавляющее большинство того, что они в итоге включили в свой канон. Наличие переводчиков и лиц, так или иначе связанных с переводчиками, уже не было обязательным условием тибетской религиозной жизни, а публичные персоны, занимавшиеся переводами, уже не пользовались таким авторитетом, как это было ранее. К середине двенадцатого столетия тибетцы осознали, что буддизм в Индии находится в угрожающем положении, и что преимущества обучения там уже не столь очевидны, поскольку Индия становилась для них все более и более опасной. К 1200 году великая текстовая лихорадка закончилась, и, что выглядело вполне закономерным, тибетцы уселись за переваривание содержания этой огромной массы интеллектуального, ритуального и духовного материала. Институционализация как основополагающих буддийских систем, так и их эзотерических ответвлений была почти завершена, и тибетцы теперь занимались формированием своих собственных буддистских школ, создаваемых опять же по своим собственным моделям, при этом великие монастыри Центрального Тибета все так же продолжали свое развитие и расширение зон влияния. Если в период с середины одиннадцатого по начало двенадцатого веков буддистские эзотерические лидеры довольно часто были женатыми мирянами, а не принявшими обет безбрачия монахами, то к середине двенадцатого столетия основу местных тибетских школ все чаще составляли именно монахи, и даже светские наставники нередко соблюдали целибат2.
 |
|
Илл. 20. Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен. Два патриарха сакьяпы. Тибет, начало-середина пятнадцатого столетия. Музей изящных искусств, Бостон. Дар Джона Гоэлета, 67–831. Фотография © 2004, Музей изящных искусств, Бостон.
|
Однако, несмотря на всю эту деятельность, тибетцев не покидало ощущение некой незавершенности, поскольку в действительности политическое объединение к 1175 году выглядело столь же отдаленным, как и в 1075, 975 или даже 875 году. Спустя более трех столетий после крушения империи создавалось впечатление, что в основе вполне очевидного самоуничижения тибетцев перед лицом индийской культуры, буддийской духовности и политической хватки других народов: тангутов, китайцев и киданей, лежит ностальгия по ее целеустремленности и целостности3. Тибетцы создавали свои духовные учреждения по образу и подобию индийских монастырских структур, а упоминания Китая были довольно распространены в тибетской литературе двенадцатого столетия, поэтому тибетцы имели достаточное представление о великолепии уже приходившей в упадок к тому времени династии Сун и о политической энергии тангутов, процветавших в бассейне Тарима (здесь ошибка: тангутское государство Си Ся располагалось севернее Ганьсуйского коридора – прим. shus). Соответственно, они понимали, что так и не приблизились к зарождению единой национальной идентичности, и поэтому в двенадцатом столетии появилось множество текстов, посвященных имперской династии. К ним относятся кодификация общепризнанных версий «Завета клана Ба» (sBa bzhed), описывающего строительство великого монастыря Самье, доработанная мифология сооружения великого храма Джокханг в Лхасе (bKa’ ‘chems kha khol ma), многие из «текстов-сокровищ», посвященных агиографиям религиозных правителей, а также работы, относящиеся к начальной стадии укрепления культа Падмасамбхавы, который объединил буддийскую идентичность с имперской наследственной линией4.
В этой главе рассматривается религиозная нестабильность, которая несла в себе реальную угрозу миру и спокойствию Центрального Тибета, и в конечном счете привела к милитаризации одной из подшкол кагьюпы. Затем мы исследуем связь кагьюпы с тангутскими князьями и сопутствующее этому превращение кагьюпы в международную буддистскую структуру. В данной главе большое внимание уделяется сакье, в частности ее наследию и карьере двух ее знаменитых лам-мирян: Сонама Цемо и Дракпы Гьелцены (Илл. 20). Поскольку именно эти два религиозных авторитета заложили духовную, интеллектуальную и институциональную основу будущего процветания сакьи под властью монголов, большую часть главы занимает рассмотрение их научной и литературной деятельности с особым упором на их вклад в становление базовой тантрической системы ламдре. Глава оканчивается смертью Дракпы Гьелцена, поскольку успешная деятельность Сакья Пандиты и Чогьела Пакпы с одной стороны опиралась на достижения их предшественников, а с другой знаменовала собой начало совершенно нового периода тибетской религиозной, социальной и политической истории.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Устойчивость власти в Индии во многом основывалась на ее способности постоянно развивать и поддерживать как сложную ритуальную жизнь, так и глубокую философскую систему. Однако, в Центральном Тибета эти две траектории общественного развития пребывали в постоянном напряжении в течение всего периода его возрождения. В известном смысле тантрический буддизм является ритуалам, не имеющим ничего общего с заурядным интеллектуальным позерством, поскольку, как мы видели, самые популярные сиддхи действительно были учеными монахами, отказавшимися от своего возвышенного положения ради жизни странствующего святого, никому и ничем не обязанного. Эти агиографические нарративы подкрепляют идеологический ландшафт, со всей очевидностью смоделированный на основе жизнедеятельности реальных личностей, внесших реальный вклад в развитие буддийской мысли (хотя, похоже, что сиддхи все-таки действительно были позерами). Однако, их способность поражать всеобщее воображение – от деревенских бардов до придворных льстецов – говорит нам том, что они смогли придать буддизму публичную легитимность, до этого отчасти скрытую от посторонних глаз в степенном монашеском мире.
Широта интересов индийской тантрической системы позволила тибетцам приобщиться к интеллектуальным продуктам индийской цивилизации: медицине, математике, грамматике, астрологии, философии, ритуалам и религиозной творческой фантазии, при этом от них никто не требовал усмирять свой довольно-таки грубый нрав. Из многих форм буддизма только тантры олицетворяли собой фундаментальную идентичность религиозной и политической сфер, и только тантры давали тибетцам карт-бланш на возможность и далее следовать своему традиционному увлечению ритуалами. Только тантрическая система признавала за местными богами их собственные права, а мандалы тантр оказались достаточно обширными, чтобы интегрировать в духовный ландшафт любого мелкого духа или местного демона. Самым большим источником неприятностей для всей тантрической системы была склонность ее последователей к антиномианическому поведению, основанному на отрицании основополагающих этических принципов. Это было проблемой, с которой тибетцы последовательно боролись в течение следующей тысячи лет, также как это делали индийцы за столетия до них.
Все вышесказанное в большей степени касается жителей Центрального Тибета эпохи возрождения, нежели буддистов других регионов, таких как, например, их китайские и японские собратья, поскольку именно йогины страны снегов поддались очарованию йогических систем, описанных в махайога- и йогини-тантрах. В специальных секретных наставлениях (upadesa) к этим тантрам описывались достаточно откровенные психосексуальные практики, подкреплявшиеся рассказами о диких сиддхах, обитавших в джунглях или на задворках благовоспитанного общества и боровшихся с небуддистами за религиозное превосходство. В этих священных текстах и агиографических повествованиях и члены аристократических кланов, и простые тибетцы нашли подтверждение естественности человеческого существования, сексуальности и чувственной вовлеченности, а так же самобытности своих мест и функциональности объединения в кланы. Пропагандируемые тантрами ценности, не способствовавшие социальной стабильности в Индии, именно в этих целях были использованы в У-Цанге, который, как кажется, пережил рост могущества имперской династии только для того, чтобы в середине девятого столетия наблюдать за ее крахом. На самом деле, тибетское возрождение – это история о том, как великие центрально-тибетские кланы использовали тантрические и йогические тексты в рамках помощи своему обществу, только начавшему приходить в себя после катастрофического коллапса. Но именно этот процесс распада в конечном счете привел к последующему возрождению Тибета.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
- Slightly summarized from mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 390.5-11.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi i bcud, p. 459; mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 390-91; rNam thar rgyas pa yongs grags, p. 113.
- Wang 1963, p. 5.
- Dunnel 1994, pp. 168-72.
- Backus 1981, pp. 159-64.
- Bod kyi rgyal rahs, p. 296.3.3; compare Deb ther dmar po gsar ma, pp. 132-33. Note that Tucci 1947, p. 458, neglects to translate this section and glosses it with “Follows a short insertion on the spread of Bon and Buddhism, “despite the importance of the passage.
- For a discussion of these, see Uebach 1990.
- Hagiographical literature is replete with citations of the interaction of Tibetan translators and merchants; see, for example, the hagiography of Rwa-lo, Rwa lo tsd ba’i rnam thar, esp. pp. 20, 36-37. For the modern importance of this phenomenon, see Lewis 1993.
- See Aris 1979, pp. 3-33; see also Janet Gyatso’s 1987 discussion of the implications of this system.
- mKhas Pt; lde’u chos ‘byung, pp. 390-92; mKhas pa’i dga ston, pp. 466-68; Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, pp. 449-50; lDe’u chos ‘byung, pp. 154-55; sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, pp. 120-24. The significance of the ethnonym or place-name Hor here is elusive; perhaps it is to render the identity of a Turkic people, for the Deb ther dmar po, p. 41, places this area in proximity to the Q rlok kingdom.
- This material is from sNgon gyi gtam me tog phreng ha, Uebach 1987, p. 122.
- sBa bzhed zhabs rtags ma, p. 83.3-5; sNgon gyi gtam me tog phreng ha, Uebach 1987, p. 120; Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 441.6-8; Bu ston chos ‘byung, p. 192.n-12.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi ‘i bcud, p.446.5-11; compare mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 391.18-93.rn, for the body of individuals trained under the direction of these monks.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi ‘i bcud, p. 446.4, mentions a rMe-gral or rMe tradition, beyond the mKhas-gral (one variant for mkhan-brgyud) and bTsun-gral accepted by others, but this lineage is not otherwise identified.
- The mkhan rgyud (texts’ orthography) is sometimes referred to as the mkhas rgyud; for the two lineages, see sBa bzhed zhabs rtags ma, p. 85.15; sNgon gyi gtam me tog phreng ha, Uebach 1987, p. 128; mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 392.1-10.
- sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 128; sBa bzhed zhabs rtags ma, p. 87.
- The best discussions are Dunnel 1994; Petech 1983; Stein 1959, pp. 230-40; Iwasaki 1993; compare Schram’s 1961 historical study of the complexity of this area.
- Iwasaki 1993, p. 18.
- Petech 1983, p. 175.
- Dunnel 1994, p. 173.
- Iwasaki 1993, p. 24.
- These kings seem to show up suddenly in the fourteenth century: rGyal rahs gsal ba’i me long, p. 200; Yar lungjo bo’i chos ‘byung, p. 73; Deb ther dmar po gsar ma, Tucci 1971, pp. 166-70.
- Petech 1983, p. 177.
- Iwasaki 1993, p. 22.
- Iwasaki 1993, p. 19.
- Iwasaki 1993, p. 25.
- Bod rje Iha btsan po i gdung rahs tshig nyung don gsal, pp. 77- 81. Nor-brang O -rgyan’s chronology is unacceptable, as he places these figures much too early and then explains away the time between the building of the temples and the early translators. See Bod sil bu’i byung ha brjod pa shel dkar phreng ba, pp. 291- 93.
- Richardson 1957, pp. 58-63, appears to be the first to identify this correctly.
- Sources for these names include sBa bzhed zhabs rtags ma, p. 87.4-5; sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 128; mKhas pa’i dga’ ston, vol. r, p. 467.7-8; Chas la ‘jug pa’i sgo, SKB Il.343.4.3; Chas ‘byung me tog snyirtg po sbrang rtsi”i bcud, p. 450.5-7 (which includes dGongs-pa-gsal); Bu ston chos ‘byung, Szerb r990, p. 60.15-16. Some include Thul-ha Ye-shes rgyal-mtshan (Chos la ‘jug pa’i sgo, p. 343.4.3), but I believe this a corruption of ‘Dul-ha Ye-shes rgyal-mtshan.
- lD e’u chos ‘byung, p. 156: de ltar bskos kyang mkhan po’i gsungs la ma nyan te | rang re ci dga’ byas |- This list, similarly but not exactly described, also occurs in the Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi ‘i bcud, p. 450, but has a slightly different import.
- sBa bzhed zhabs rtags ma, p. 87, describes the process, and mKhas p-a’i dga’ ston, vol. 1, p. 473, discusses the hats as a hallmark of their association.
- rGya bod yig tshang chen mo, pp. 458-59; for another version in the Bu ston chos ‘byung, Szerb r990, pp. 61.8-62.5.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 449.
- mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 394; Bod rje lha btsan po’i gdung rahs tshig nyung don gsal, pp. 78-81; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 481.19-21; Deb ther sngon po, vol. 1, p. 86.1r14 (Blue Annals, vol. 1, p. 62); rGya bod yig tshang chen mo, p. 459.17; for a discussion of this issue, see Vitali 1990, p. 62, n. 1.
- Chas ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, pp. 451-52, and sBa bzhed zhabs rtags ma, pp. 87-88; the Nyang-ral text has consistently misread lo-tshong as lo tsa ba.
- This area is described in the sBa bzhed, pp. 45-46, and this must correspond to the ‘khor-sa chen mo of the texts. This section in the sBa bzhed seems to be the source for all later descriptions, including that in the eighty-sixth chapter of the Padma bka’ thang, p. 510.
- This room has irregular spellings: rnga-khang in sBa bzhed, p. 44, and Chas ‘byung me tog snying po sbrang rtst’i bcud, p. 451; it is spelled mnga’- khang in sBa bzhed zhabs rtags ma, p. 87; and snga-khang in the recent printed edition of the Padma bka’ thang, p. 510.
- My surmise on the interpretation of the text. Skam bu indicates something completely dried, which is the appearance of rotten wood. We erroneously call this “dry rot,” even though the conditions are the ones described here: exposure to intermittent moisture without protection.
- I believe that phyir rdzab zhal byas of Nyang-ral and phyir zha la la of the sBa bzhed zhabs rtags ma derived from some colloquial usage like phyir zhal rdzongs, “Let’s get [these keys] out of here!” but the sources are unclear, so I translate Nyang-ral.
- From the sBa bzh ed zhabsrtags ma, p. 88.6: g.yu’ ru’i lam rgyag bya ‘di gzung gsungs nas bzhes |
- Note that the sBa bzhed zhabs rtags ma, p. 88.10, indicates that kLu – mes’s attempt to repair the dbU-rtse temple was rebuffed by sBa and Rag, achieving success after only the intervention of Khri-lde mgon-btsan .
- sBa bzhed zhabs rtags ma, p. 88.10.
- Vitali 1990, pp. 37-39 (but compare p. 63, n. 29), and van der Kuijp 1987, p. rn9, in contrast to Tucci 1949, vol. 1, p. 84, have understood these as “divisional areas” or “districts,” which is close to the recent use of the term; see Diemberger and Hazod 1999, pp. 42-45. Yet at this early stage a strong place identity is misleading. Tsho, is cognate with tshogs, ‘tshogs pa, tshogs-pa, sogs, and other forms, indicating groups of people, and tsho was and is commonly the pluralizer for some nouns and pronouns. Before the “ten men of dbUs-gTsang” even arrived in central Tibet, they were described as a common group (byin po tsho yar ‘ongs) for they all were ordained at the same time; see mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 473.3. The term sde[-pa] is preferred by some authors, such as Nel-pa (sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, pp. 132-36), while others use tsho. It appears that there was some difference in regional usage as well, for gTsang groups appear to be described as tsho more frequently. Crags-pa rgyal-mtshan ‘s record indicates that tsho, sde-pa, and [b]rgyud were terms of varying association; see rGya bod kyi sde pa’i gyes mdo, pp. 297.1.3 ff.
- The sources for the activity of the monks establishing the groups in dbUsgTsang are principally mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 392-96; Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, pp. 452-54; lD e’u chos ‘byung, pp. 155-59; sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, pp. 130-36; rGya bod kyi sde pa’i gyes mdo; Bu ston chos ‘byung, Szerb 1990, pp. 59-81; and rGya bod yig tshang chen mo, pp. 459-68, which seems to furnish much of the data taken by dPa’-bo in the mKhas pa ‘i dga ston, pp. 473-81. For schematics of the temples, see Tucci 1949, vol. 1, chart between pp. 84-85; and Uebach 1987, pp. 37-43.
- This temple is also spelled rGyal-‘gong, lD e’u chos ‘byung, p. 157; rGya bod yig tshang chen mo, p. 462.1.
- lD e’u chos ‘byung, p. 158.
- sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 132.
- These eight are emphasized in the sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 132, but the others remain obscure.
- mKhas pa’i dga’ ston, p. 478: glang tsho stod smad tu gyes.
- For the founding of Zha-lu and the disparate evidence on the date of its founding, see Vitali 1990, pp. 89-122; Tucci 1949, vol. 2, pp. 656-62.
- For a discussion of the process at gNas-rnying, see Vitali 2002.
- rGya bod yig tshang chen mo, pp. 464-65; mKhas pa’i dga’ ston, p. 479.
- mKhas pa’i dga’ ston, p. 474, lD e’u chos ‘byung, p. 157; rGya bod yig tshang chen mo, p. 460; sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 132; Cha s ‘byung me tog snying po sbrang rtsi ‘i bcud, pp. 452-53.
- Deb ther sngon po, vol. 1, p. rn3.13; mKhas pai dga’ ston, vol. 1, p. 474.
- sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 136, and Chas ‘byung me tog snying po sbrang rtsi i bcud, p. 452, refers to these four disciples as his “[four] sons” (bu bzhi), rather than four pillars. Compare Deb ther sngon po, vol. 1, p. 86.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi i bcud, p. 452; sN gon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 136, dos not place this activity at Yer-pa but at g.Yu sgro lha khang dmar and acts as if the temple existed before the activity of kLu-mes or Sum-pa, for they simply came there but did not construct it. There seems to be much difference of opinion on the nature and origin of this temple(s): mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 474, lists this as one of rNgog Byang-chub ‘byung-gnas s temples; the Deb ther sngon po, vol. 1, p. rn3, acts as if it is two temples built by Sumpa; Blue Annals, vol. 1, p. 75. The attribution to Sum-pa probably follows the line in the rGya bod yig tshang chen mo, p. 460, which does so.
- Tucci 1956b, p. rn7.
- The modern sGrub pa’i gnas mchog yer pa i dkar chag dad pa’i sa bon, written in 1938, is found in the gNas yigphyogs bsgrig collection, pp. 3-49; the preceding reference is from p. IO.I. This text contains much material from the ancient Brag yer pa’i dkar chag, as may be seen from its continuity with the quotations in mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 456-58; for example, the line referred to here is found on p. 457.6.
- mKhas pa”i dga’ ston, vol. 1, p. 474.8-14, lists his death date as rn6o (lcags byi) at the age of eighty-five (that is, eighty-four in European reckoning), but the chronology is problematic. rGya bod yig tshang chen mo, p. 460, spells the earlier temple as Ra-tshag. rGyal lha-khang is the subject of Richardson 1957.
- Vitali 2002, pp. rno-rn2; Richardson 1957.
- mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 474; compare Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi’i bcud, p. 452.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 453.11.
- mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 397.
- rNam thar yongs grags, pp. 157.4, 176.7-rn.
- Tables 3 through 7 in sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, pp. 39- 43, provide a convenient schematization of the relationships and construction.
- Vitali 1990, pp. 1-35, has unfortunately done exactly that with the conflation of Ka-chu and Ke-ru temples; see Richardson 1998, pp. 212-13, 317.
- rNam thar yongs grags, pp. 164.3, 169.13-14.
- The term khral is understood as sham thabs khral in the rNam thar yongs grags, pp. 156.15, 187.21-88-5. Vitali 1990, p. 38, interprets the taxation as applying to divisions of area, but taxation in early Tibet by household or commercial transaction rather than on land, which was owned by the gentry; Rona-Tas 1978; Thomas 1935-55, vol. 2, p. 327. Thus, the khral tsho was a dutiable monastic group.
- rNam thar yongs grags, p. 156.15-16.
- rGya bod kyi sde pa ‘i gyes mdo, SKB IV.297.2.3-4; the text seems somewhat garbled.
- Bu ston chos ‘byung, Szerb 1990, pp. 72.12, 76.rn-77.4; this material reproduced in rGya bod yig tshang chen mo, pp. 464.12, 466.6-9.
- One of Lo-btsun’s disciples, Kyi Ye-shes dbang-po, was said to have four revenue communities in his stod tsho; rGya bod kyi sde pa’i gyes mdo, SKB IV.297 .3 . 2.
- sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 126.
- Deb ther sngon po,vol. 1, p. rn4.12-13, Blue Annals, vol. 1, p. 76; reproduced in mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 476.16.
- Deb ther sngon po, vol. 1, pp. 122-124 provides a summary of the figures involved; Blue Annals, vol. 1, pp. 93-94; Ferrari 1958, p. 52; Kab thog si tu’i dbus gtsang gnas yig, p. 202.
- Gra-pa mNgon-shes’s hagiography is found principally in the Deb ther sngon po, vol. 1, pp. 124-32; Blue Annals, vol. 1, pp. 94-101; see also mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 475.16-76.16. Vitali 1990, p. 39, reproduces much of this material; see also Ferrari 1958, pp. 54-55.
- For one list of his disciples and their monasteries, see sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, pp. 138-41, and table 3.
- Deb ther sngon po, vol. 1, pp. 104.12, 122.3-5, 127-1-2; Blue Annals, vol. 1, pp. 76, 93, 96-97. An early-twentieth-century description of Grwa-thang can be found in Kab thog situ i dbus gtsang gnas yig, pp. 123-25.
- Deb ther sngon po, vol. 1, p. 126.17-18; Blue Annals, vol. 1, p. 96.
- sPyan-g.yas lha-khang; see Ferrari 1958, p. 53.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 478.7, connects him to the new translation work of Zangs-dkar lo-tsa- ba and his nephew; the same work p. 501.9, connects him to revelations from the Ayrapalo temple.
- mKhas pa lde’u chos ‘byung, p. 394; lD e’u chos ‘byung, pp. 157-58.
- bKa’ ‘chems ka khol ma, p. 280.
- Martin 2001b, pp. 93-104.
- The Pe-har cult is taken as indicative of this inclusiveness; see Vitali 1996, pp. 216-18; Karmay 1991; Martin 1996c, pp. 184-91.
- Vajrafekhara; To. 480, fol. 199b4-5, becomes the locus classicus of the trisariwara (Tibetan: sdom gsum). The Ordinance of Lha-bla-ma, Karmay 1998, pp. 3-16, appeals to three vows. For a systematic study of the later sdom-gsum literature, see Sobish 2002.
- A widely distributed example of this favoring of the Gu-ge kingdom is Snellgrove 1987, vol. 2, pp. 470-509.
- For a broad survey, see Snellgrove and Skorupski 1977-80, both vols. A more specialized discussion of chronology and sources is Vitali 1996, and Klimburg-Salter 1997 provides an excellent investigation of a Tabo temple founded in the late tenth century.
- The Rin chen bzang po’i rnam thar shel ‘phreng published and translated in Snellgrove and Skorupski 1977-80, vol. 2, pp. 85-111, places his departure at 975. For the mortality total, see also the rNam thar yangs grags, p. 114.
- For specific temples, see Vitali 1996, pp. 249- 87, 303-10.
- Unless specified, all the material on Atisa and Nag-tsho is drawn from the rNam thar yangs grags; this episode is found on pp. 117- 25.
- For some of these issues, see Ruegg 1981; for Prajnagupta’s influence on ‘Brog-mi and ‘Khon dKon-mchog rgyal-po, see chapters 5 and 7. The rNam thar yangs grags, p. 192.12, anachronistic ally has rGya-gar nag-chung (= Pha-dam-pa sangs-rgyas) sending a disciple to make offerings to Atisa.
- rNam thar yangs grags, p. 117-r r-12.
- ln the rNam thar yongs grags, for on p.118.4-5, Nag-tsho is depicted as having studied Abhidharma with rGya brTson-seng on his first trip to India.
- Fragments of Nag-tsho’s record of his itinerary are contained in the rNal ‘byor byang chub seng ge’ i dris Ian, SKB III.277.4.4-78.r.6; I have used some of this material in Davidson 2002c, pp. 316-17, and consider this record in more detail later in this book.
- See Decleer 1996, Bajracharya 1979, Locke 1985, pp. 404-13, Petech 1984, pp. 42-43, Stearns 1996, pp. 137-38.
- For a short review of the Vinaya lineages, see Kal:i-thog Tshe-dbang nor-bu ‘s Bod rje lha btsan po’i gdung rabs tshig nyung don gsal, pp. 82-85; compare mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1., pp. 481-83; Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi”i bcud, p. 446.
- rNam thar yongs grags, pp. 178-79.
- rNam thar yongs grags, pp. 164.3, 169.13-14; the former was at sNan-mda’, whereas the latter temple was in Yar-lung at Bya-sar-chags.
- Stark and Bainbridge 1985, pp. 27-28.
- rNam thar yongs grags, pp. 159, 163, 174, 186.
- rNam thar yongs grags, pp. 156, 187-88.
- rNam thar yongs grags, pp. 156, 187-88.
- rNam thar yongs grags, p. 169, 15-20.
- Chos ‘byung me tog snyingpo sbrang rtsi’ i bcud, pp. 455.18-56.1.
- rNam thar yongs grags, pp. 158, 166, 179.
- rNam thar yongs grags, pp. 169.17-70.3.
- Rwa sgreng dgon pa’i dkar chag, pp. 76-84, discusses the founding of this section of Rwa-sgreng. According to this description, although this main temple and stupa section was constructed after some smaller, mostly residential, buildings, it was the first large construction that turned it into a real monastery.
- rNam thar yongs grags, p. 221.9-20.
- rGya bod k.yi sde pa’i gy es mdo, SKB IV.297.2.2; this material is treated differently in van der Kuijp 1987, pp. 108-10.
- rNam thar yongs grags, p. 212.21-13.3, compared with the preceding statement.
- From Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’i bcud, p. 449, but the list of the royal supporters and their descent from Yum-brtan becomes increasingly less clear; lDe’u chos ‘byung, p. 154; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 433-34; Deb ther dmar po gsar ma, pp. 170-71.
- Chos la j’ug pa’i sgo, SKB Il.344.2.3, emphasizes the West Tibetan contributions.
- Colophon to the Sri-Guhyasamajasadhana-siddhasambhava-nidhi, fol. 69b6; Petech 1997, pp. 237, 253, n. 51.
- Petech 1997, p. 253, n. 51, provides a few incorrect references; the following are attributed to Tsa-la-na Ye-shes rgyal-mtshan: To. 451, 1214, 1320, 1846, 1850, 1853, 1859, 1866, 1870, 1872-78. Of these, it appears that the brDa nges par gzung ba may have been composed by the royal monk himself.
- The chronology is from Hazod 2000b, p. 182.
- dPal gsang ba ‘dus pa’i dam pa’i chos byung ba’i tshul legs par bshad pa gsang ‘dus chos kun gsal pa’i nyin byed, p. 185; compare Deb ther sngon po, vol. 1, p. 451; Blue Annals, vol. 1, p. 372; Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi’ i bcud, p. 477.7-18.
- Deb ther sngon po, vol. 1, pp. 213-14; Blue Annals, vol. 1, pp. 168-69; most of the works identified by ‘Gos-lo gZhon-nu-dpal as containing the word rdzogschen were translated by Tsa-la-na Ye-shes rgyal-mtshan.
- Hazod 2000b, p. 176.
- Chos ‘byung me tog snying po sbrang rtsi ‘i bcud, pp. 460-72, considers the West Tibetan connection a supplement to the great activity already taking place. sNgon gyi gtam me tog phreng ba, Uebach 1987, p. 153, mentions it only in passing; mKhas pa lde’u chos ‘byung, pp. 397 provides only a bit more; Bu ston chos ‘byung, Szerb 1990, pp. 86- 89, treats Western Tibet and the bKa’-gdams-pa in passing as well; greater respective attention is given in sBa bzhed zhabs rtags ma, pp. 89.12-91.9. In Chos la ‘jug pa’i sgo, SKB II.343.4.6-44.2.6, the review of the events does not even mention Atisa or the bKa’-gdams-pa. The twelfth-century bKa ‘chems ka khol ma, pp. 2-5, 276,319, is the earliest text to be strongly concerned with Arisa, in this case the apocryphal connection between Atisa and Srong-btsan sgam-po. From the time of the 1363 Deb ther dmar po, pp. 61-81, we see the bKa’gdams-pa receiving their own chapter and approaching parity with the Eastern Vinaya monks; this direction was followed in the 1434 rGya bod yig tshang chen mo, pp. 472-81.
- We see this in both the 1529 sectarian history of Pan-chen bSod-nams grags-pa, bKa’ gdam s gsar rnying gi chos ‘byung, pp. 4.4- 45.5, and in the more mainstream Deb gter sngon po, vol. 1, pp. 297-425; Blue Annals, vol. 1, pp. 241-350.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Несмотря на то, что обсуждавшиеся выше материалы были главной опорой в устремлениях Дрокми утвердиться в качестве духовного авторитета в долине Мангкхар, было бы ошибочным считать эти тексты наиболее значимой частью работ Дрокми и его пандитов. Данные переводы и передаваемые вместе с ними традиции, безусловно, были одними из самых авторитетных. Однако, своей репутации интеллектуального лидера и выдающегося ученого Дрокми во многом обязан и множеству других высококачественных переводов. Учитывая огромный объем того, что было написано и переведено Дрокми, я не вижу особого смысла повторять малоинформативный перечень названий его работ, как это нередко делалось в прошлом при обсуждении творчества тибетских переводчиков. Вместо этого я разделю данное собрание переводов на отдельные части, согласно их значимости, и попытаюсь таким образом охватить все творческое наследие Дрокми. При этом мы не должны забывать и об определенных неточностях в каталогизации, т.к. в действительности современные канонические каталоги отражают достаточно поздние попытки идентификации тибетских переводов и поэтому не являются ни исчерпывающими, ни полностью безошибочными. Здесь наиболее наглядным примером является «Коренной текст *маргапхалы», который включен в Канон без указания авторства Дрокми. Однако, мы не располагаем свидетельствами того, что эта общепризнанная работа могла принадлежать перу какого-либо другого переводчика, даже если Гьиджо Дове Осер повторно записал этот текст. Не вызывает сомнений и тот факт, что версия «Ачинтьядваякрамопадеши», включенная в корпус сакьяпы (мы это уже обсуждали ранее), является альтернативным переводом известного источника. Однако, она отсутствует в каноне Тенгьюра, хотя ее аутентичность безупречна, а ее перевод, вне всяких сомнений, был выполнен самим Дрокми. Таким образом, мы оконтурили ядро его переводческого наследия, однако, можно предположить, что к нему должны примыкать какие-то утраченные или сменившие авторство части. Сам Дрокми прекрасно осознавал проблему присвоения авторства его работ другими переводчиками и горько жаловался на плагиат в колофоне своего завершающего перевода «Сампута-тилаки»:
«Впоследствии (после первоначального перевода его и Гаядхары) некоторые тибетские «переводчики» убрали имена других переводчиков из собственных переводов этих ученых и добавили свои собственные имена вместо имен первоначальных переводчиков, изменив текст в нескольких незначительных местах. Чтобы опровергнуть этих и других невежд (воспринявших их как самостоятельные работы), я собрал и сопоставил четыре (версии) индийского тантрического текста и окончательно сформировал данный перевод»162.
В ряде маргиналий к этому переводу 1198 года, приписываемых Сакья Пандите, в качестве плагиатора указывается Го-лоцава Кхукпа Лхеце, а также другие неназванные лица163. Го-лоцава был следующим тибетцем, работавшим с Гаядхарой над переводом эзотерических произведений, поэтому содержание этих маргиналий позволяет предположить, что Гаядхара мог использовать свою предыдущую работу с Дрокми для продвижения своего нового покровителя.
Помимо уже упомянутых текстов девяти циклов практики, работы Дрокми включают в себя переводы тридцати семи тантр, а также двадцати двух эзотерических работ другого вида, таких как тантрические комментарии и наставления по посвящениям и медитации164. О личных интересах Дрокми, а также о том, какой из жанров пользовался наибольшей популярностью в тот период, говорит тот факт, что все (кроме одной) эти пятьдесят девять работ являются переводами либо йогини-танр, либо связанных с ними материалов. Исключение составляет только «Арья-тараман-давидхи-садхана» *Сахаджавилашы, чья практика по своему содержанию и эстетике в большей степени соответствует махайоге165. Стандартные категории эзотерических писаний вряд ли будут полезны при классификации наследия Дрокми, поскольку его работы в подавляющем большинстве принадлежат к одному и тому же тантрическому направлению. Однако, для своей выборки мы вправе использовать ключевые признаки, выходящие за рамки типового подхода. Во-первых, все переводы Дрокми делятся на те, что были выполнены им совместно с Гаядхарой (тридцать девять), в сотрудничестве с другими индийскими учеными (девятнадцать) и в одиночку (один: To. 1705). Во-вторых, все работы также можно разделить по объему: на короткие (десять или менее листов) и длинные тексты. Эта очень удобная эвристика, однако, в ряде случаев она может вызвать некоторые вопросы. Тем не менее, в большинстве коротких работ на самом деле меньше семи листов, а в большинстве длинных – более двадцати. При проведении такого анализа особенно бросается в глаза тот факт, что Дрокми перевел множество коротких тантр, и большинство из них совместно Гаядхарой.
Несомненно, что piece de resistance Дрокми являлся его совместный перевод основополагающих писаний системы Хеваджры: самой «Хеваджра-тантры», «Сампуты», «Сампута-тилаки» и «Ваджрапанджары»166. В совокупности эти работы стали источником большинство мандал, используемых сакьяпой, и кроме того приобрели заметное влияние в кагьюпе и других школах тибетского буддизма. Если не принимать во внимание тексты, относящиеся к системе Самвары, то из всего, чем располагала Индия одиннадцатого столетия, именно они являются самым значимым собранием материалов по йогини-тантре. Данные писания были дополнены практиками Чакрасамвары, Гухьясамаджи и Ваджракумары (Ваджракилы), и все они вместе вплоть до настоящего времени составляет основу эзотерического ритуала и медитационных практик сакьяпы. Очевидно, что помимо этих писаний Дрокми не переводил какие-либо другие пространные тантры, так что все его длинные переводы были выполнены им в сотрудничестве с Гаядхарой.
Столь же интересны и короткие тантры, переведенные им либо совместно с Гаядхарой (двадцать пять), либо с другими индийцами (восемь). Эти небольшие работы не совсем обычны как своею направленностью, так и тем, что несут в себе информацию о реалиях индийского буддизма конца десятого и начала одиннадцатого столетий. Большинство этих текстов фокусируются на той или иной конкретной тематике, хотя некоторые из них затрагивают вопросы, касающиеся расширенного спектра индийского эзотеризма. Так в «Шри-махакхатантрараджа» (К. 387) обсуждаются четыре Мары, каждый из которых далее разделяется еще на четырех, так что всего в данной работе перечисляется шестнадцать Мар. «Шри-махасамая-тантра» (To. 390) довольно серьезно переопределяет сущность эзотерических обетов (samaya), ссылаясь на особую идеологию внутренних тайных церемоний, а также на внешние обряды. «Шри-джвалагнигухьятантрараджа» (To. 400) представляет собой довольно интересное обсуждение посмертных переживаний, с которыми предстоит столкнуться медитатору, а также посмертных обрядов, совершаемых для этих людей. А «Шри-джнянасаятантрараджа» (To. 404) дает толкование в эзотерическом контексте пяти стандартных форм мистического знания.
Для некоторых работ соотношение наименования и содержания выглядело настолько значимым, что порой они представляют собой простое обсуждение терминов, используемых в их названии. К примеру, весь текст «Шри-Ваджрабхайравидаранатантрараджи» (To. 409) посвящен обсуждению значения терминов, содержащихся в ее названии: ваджра, бхайрава, видарана, тантра и раджа. Подобным образом, в «Шри-дакинисамвара-тантре» (To. 406) рассматриваются только вопросы, относящиеся к природе дакини и проблемам, связанным с принятием и нарушением тантрических обетов (самвара). Другие работы также начинаются с обсуждения терминов названий, но затем меняют дискурс и переходят к другим тематикам. К примеру, «Шри-шмашаналанкаратантрараджа» (To. 402) начинается с терминологического анализа названия: что такое погребальные площадки, их украшения и тантры, а также кто такой повелитель. Однако, далее практически весь текст посвящен обсуждению восьми великих погребальных площадок внешней мандалы, вызываемой в процессе зарождения. Есть и такие названия, которые могут вводить в заблуждение. Например, «Шри-агнималатантрараджа» (To. 407) выглядит так, как будто бы в этом тексте обсуждаются четки из огня или нечто подобное. На самом деле данная работа является обширным толкованием природы Херуки (внешнего, внутреннего, тайного) с заключительным дополнением, посвященным Ваджраварахи.
Возможно, что наиболее интересными в этой группе кратких писаний являются работы, касающиеся более широкого круга доктринальных вопросов. «Шри-чакрасамварагухьячинтьятантрараджа» (To. 385) посвящена непостижимой (ачинтья) природе всех сущностей феноменальной реальности, в особенности ума, ментальных явлений, мистического знания и тел Будды. В «Шри-сурьячакратантрарадже» (To. 397) обсуждается важность принятия или, точнее, неотвержения эзотерических практик, в особенности практики процесса завершения. Подобным образом «Шри-джнянараджа-тантра» (To. 398) детально описывает связь загрязнения, в частности заблуждения (bhranti), с практикой неотвержения при следовании эзотерическим путем. При внимательном рассмотрении содержания «Анавилатантраджи» (To. 414) становится очевидным, что она включает в себя очень похожую на доху деконструкцию традиционных буддийских категорий с акцентом на основные положения медитации, которая объединена с едкой критикой неправильного использования эзотерической терминологии некоторыми неуказанными в тексте йогинами. С литературной точки зрения наиболее интересным из этих коротких произведений является «Шри-ратнаджвалатантрараджа» (To. 396). Этот текст целиком посвящен теоретическому обсуждению трех разновидностей высшей йога-тантры: отождествляемых со средствами (upaya-tantra), отождествляемых с прозрением (prajna-tantra) и отождествляемых с недвойственностью (advaya-tantra). Принимая во внимание все известные нам факты, создается впечатление, что в одиннадцатом столетии вопрос включения в существующую категоризацию понятия «недвойственные тантры» находился еще в самом зачаточном состоянии. А свой окончательный вид он приобрел только после того, как эзотерический импульс был перенаправлен от творчества к защите уже созданных доктрин. Большинство более поздних религиозных авторитетов, признававших эту категорию, относили к этому классу священных писаний только тантры систем Хеваджры и Калачакры. Однако, в работе Дракпы Гьелцена, посвященной «Олапати» (шестой из «Восьми вспомогательных практик») утверждается, что некоторыми учеными Самвара также классифицировалась как недвойственная тантра.
В отличие от эзотерических работ, считающихся «словом Будды», сотрудничество Дрокми с индийскими учеными по переводу двадцати двух других текстов было распределено более равномерно: десять работ было создано совместно с Гаядхарой, а остальные двенадцать – с другими пандитами. При этом самые значимые из них были переведены совместно с Праджнендраручи, который, по общему мнению, еще до своего прибытия в Тибет, возможно, уже сотрудничал с Дрокми во время его пребывания в Индии. Среди этих работ самым влиятельным считается перевод комментария Дурджаячандры к «Хеваджра-тантре» (Каумудипанжика, To. 1185), который задал направление большей части последующих исследований сакьяпы, касающихся этого священного писания. «Ратнаджваласадхана» Праджнендраручи, которая была переведена Дрокми совместно с автором в Мугулунге (как утверждает более поздняя традиция), также оказала большое влияние на объяснение взаимосвязи между обрядом посвящения, медитативной практикой и выполнением вспомогательных ритуалов, связанных с подношениями фигурок из муки и масла (bali: gtor ma) и тому подобного. Позднее совместно с Праджнендраручи были переведены еще два медитативных текста (sadhana), но они уже не имели такого влияния. Следует также отметить медитативное наставление индийского пандита Дурджаячандры под названием «Шадангасадхана» (To. 1239), которое впоследствии приобрело особую значимость благодаря вниманию к нему Дракпы Гьелцена. Эта работа была переведена Дрокми совместно с Ратнашриджняной – одним из многих малоизвестных индийцев, наводнивших Тибет в середине одиннадцатого столетия167. Еще один из переводов, не связанных с Гаядхарой, был выполнен совместно Ратнашримитрой, а все остальные – при участии Ратнаваджры.
Помимо основных текстов тантр Гаядхара, как правило, участвовал в переводах коротких трактатов, темами которых были практики Хеваджры. Два из них (To. 1305/06) относятся к практикам супруги Хеваджры Найратмьи, а остальные описывают особенности нормативной медитации системы Хеваджры и являются работами Сарорухаваджры. Как уже указывалось ранее, описание Сарорухаваджрой стадии завершения в соответствии с идеями системы Хеваджры, сделанное им в своей «Шри-хеваджрапрадипасулопамававадаке» (To. 1220), признавалось сакьяпой самой правильной трактовкой нормативной йогической практики, базирующейся на системе Хеваджры. Кроме того, вполне вероятно, что некоторые переводы Гаядхары и Дрокми были выполнены ими анонимно. В этой связи особое внимание привлекают к себе три произведения (To. 1221-23), автором которых, как считается, является Сарорухаваджра. Они включены в тот же раздел канона, что и другие работы этой переводческой группы, и создается впечатление, что эти тексты тесно связаны с теми, в которых указано имя Дрокми.
Символ * указывает на гипотетическую реконструкцию.
|
BEFEO
CAJ
CIHTS
GOS
HJAS
ISMEO
IA
IIJ
JA
JIABS
JIP
JRAS
JTS
LL
Pe.
SKB
SOR
|
Bulletin de École frangaise d’Extreme Orient
Central Asiatic Journal
Central Institute of Higher Tibetan Studies
Gaekwad’s Oriental Series
Harvard Journal of Asiatic Studies
Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente
Indian Antiquary
Indo-Iranian Journal
Journal asiatique
Journal of the International Association of Buddhist Studies
Journal of Indian Philosophy
Journal of the Royal Asiatic Society
Journal of the Tibet Society
Lam ’bras slob bshad
Peking canon (+ numbers), ed. Suzuki, 1957
Sa skya bka ’bum, ed. Bsod Nams Rgya Mtsho, 1969
Serie orientale Roma
|
|
T.
|
Taisho shinshu daizokyo (+ number), ed. Takakusu and Watanabe, 1924-34
|
|
TJ
To.
|
Tibet Journal (Dharamsala)
sDe-dge canon (+ numbers), Ui et al., 1934
|
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
В целом существует два типа гуру: те, кто обладает способностью к интуитивному прозрению, и те, кто обладает способностью к постижению Дхармы.
Тот, кто обладает способностью к интуитивному прозрению, поскольку он различает универсальные и индивидуальные характеристики явлений, будет учить смыслу Дхармы без ошибок и не смешивая эти вещи.
Однако тот, кто обладает способностью к постижению Дхармы, в высшей степени и безошибочно осознал смысл Дхармы и лично испытал эти переживания в своей собственной сфере, т.е. ее понимание возникло естественным образом изнутри. Возникая таким образом, [это понимание] само по себе пронизывает и связывает, поэтому он способен вызывать данные переживания и у других.
Ответ Гампопы Дусуму Кхьенпе1
|
Духовное и интеллектуальное наследие буддистских движений одиннадцатого века подготовило почву для дальнейшего развития тибетского буддизма в двенадцатом столетии, в течение которого он окончательно превратился в местную тибетскую религию. Хотя в Тибет продолжали импортироваться новые эзотерические и экзотерические системы, и осуществлялись новые переводы, тибетцы двенадцатого столетия уже в достаточной степени осознавали себя подлинными буддистами, чтобы самостоятельно поддерживать и сопровождать любые инновации. Таким образом, этот век стал свидетелем обретения зрелости тибетской сармой, с ее новыми формулировками тибетских идей как в эпистемологии, так и в новом йогическом пути позднего эзотерического буддизма. Следуя тем же путем, что в одиннадцатом столетии прошли нетантрические традиции кадампа и Восточная виная, а также тантрические системы ньингмы, тантрические линии кагьюпы и сакьяпы в двенадцатом столетии эволюционировали из небольших локальных центров в обширные региональные школы с многочисленными религиозными институтами и отчетливо выраженным чувством собственной идентичности. К концу столетия поведение монашеских учреждений Восточной винаи стало довольно вызывающим и появилось ощущение, что успехи, которых они добиваются, порождают общую нестабильность, а их древняя буддистская модель монашеской преемственности, основанная исключительно на заслугах, совершенно не подходит для новой тибетской культуры. Вследствие этого, усилиями как мирян, так и монашеских линий со временем была разработана и стала продвигаться новая модель монашеской преемственности, в которой монахи передавали контроль над монастырями членам своих семей, в результате чего самые стабильные аристократические кланы стали опорными структурами буддистских институций.
В У и Цанге различные линии сармы со временем приобретали статус отдельных традиций данного движения. Однако, задолго до этого по большей части Центрального Тибета уже распространились линии передачи ньингмы. И хотя именно ньингма заложила основы данного процесса, принципы выделения традиций сармы заметно отличался от тех, что использовались ньингмой. Из всех традиций сармы главной движущей силой в У стали кадампа и кагьюпа, в то время как сакьяпа и менее стабильные линии нашли свое пристанище в Цанге. На протяжении большей части двенадцатого столетия в тибетской религиозности доминировали религиозные традиции У, при этом отдельные значимые фигуры Цанга выделялись своей несколько большей консервативностью. Поэтому неудивительно, что Сакья Пандита – великий неформальный глава неоконсерваторов тринадцатого столетия – представлял неоконсерватизм именно Цанга, а сами сакьяпинцы поддерживали эту ортодоксальность вплоть до двадцатого века. В двенадцатом столетии также наблюдался больший приток ярких молодых талантов из восточного Тибета (Кхама), вследствие чего впервые в тибетской истории кхампинские монахи и ученые-миряне смогли стать одними из самых значимых религиозных лидеров Центрального Тибета. Даже те, кто подобно первому Кармапе предпочел вернуться и остаться в Восточном Тибете, со временем все равно оказывались втянутыми в динамизм У. К середине столетия репутация центрально-тибетских монастырей настолько возросла, что сюда стало приезжать множество ученых из-за пределов Тибета, особенно тангутов, родственных тибетцам в лингвистическом и этническом отношении. Все они устремлялись в Тибет с целью получения знаний как от тибетцев, так и от все возрастающего числа индийцев, искавших в Тибете надежное убежище. Эти ученые являлись беженцами, спасавшимися от исламских вторжений и прибывшими сюда из ставших небезопасными монастырей Северной Индии, и именно они первыми начали говорить о неминуемой гибели, которая в конце концов постигнет всю Южную Азию.
Эта глава посвящена событиям первой половины двенадцатого столетия, когда системы сармы начали продвигать свои нововведения, которые в определенной степени были предвосхищены учеными ньингмы еще в предыдущие десятилетия. Однако, доктринальные разработки ньингмы – будь то идеи Великого совершенства, локализованная ученость или откровения терма – всегда оставались на заднем плане, являясь лишь соблазнительным напоминанием о возможности повсеместного утверждения местной духовности. Мы также рассмотрим развитие учености кадампы, в особенности новые материалы, привнесенные Па-цап-лоцавой, а также эпистемологические нововведения Чапы Чокьи Сенге. Кроме того, я привожу здесь доказательства широкого распространения в течение двенадцатого столетия комплексных практик Калачакры. Далее мы исследуем то, как усилиями Гампопы Кагьюпа превратилась в институцию, опирающуюся на монастырскую систему, а также толкование им доктрин Великой печати. Однако, большая часть главы посвящена жизни и обучению Сачена Кунги Ньингпо, считающегося первым из великих учителей сакьяпы и продолжателем линии монастыря Сакья. Сачен объединил два потока ламдре: тантрической практики и толкования, которые в свое время были умышленно разделены Дрокми. Помимо прочего, в данной главе утверждается, что для успешного функционирования монашеского учреждения У-Цанга двенадцатого столетия требовалось наличие у него серьезного интеллектуального компонента, сильной духовной практики, возвышенных харизматических личностей, а также реликвий прошлого – и все это в рамках ассоциации с каким-либо конкретным кланом.
Перед тем, как продолжить этот обзор, следует сделать небольшое замечание. Поскольку двенадцатое столетие было очень динамичным, в нем продолжало осуществляться многое из того, что имело место в одиннадцатом столетии. Однако, эта деятельность была менее заметной в сравнении с активностью харизматических личностей и новыми разработками современников. Конечно, по-прежнему продолжали выполняться новые переводы, однако, уже не столь часто, да и их появление теперь уже не производило того эффекта. Возникали новые духовные линии передачи с тайными руководствами, которые священные дакини по каким-то причинам не стали открывать предыдущим наставникам. В первую очередь это относится к практикам Шангпа-кагьюпы Кхьюнгпо Нелджора, новым йогическим учениям Типупы, представленным учеником Милы Репы Речунгпой, а так же ко многим другим новым созерцательным традициям, пришедшим из индийских центров2. Мастера терма продолжали открывать новые тексты, и конец столетия был ознаменован окончательной победой культа Падмасамбхавы К сожалению, мы затронем лишь некоторые из этих событий, оставив все прочие на рассмотрение другим историкам. Главная же особенность данного периода заключалась в том, что к началу двенадцатого столетия тибетцы наконец стали осознавать насколько почетно то место, которое они занимают среди всего этого богатства идей, ритуалов, медитаций и текстов. Также они прониклись пониманием того, что все эти новые материалы являются лишь вариациями на темы, появившиеся в конце десятого столетия, а вовсе не какими-то новыми идеями. Вследствие этого, они взялись за инвентаризацию своих активов и составление каталогов (чего не делали со времен падения династии), а так же начали активно представлять отдельных персон в качестве реинкарнаций знаменитых индийских наставников и стали рассматривать Тибет как поле просветленной деятельности будд и бодхисатв. Теперь Тибет выглядел в их глазах (и все чаще в глазах других азиатов) новой духовной территорией практически равной самой Индией. Возникновению таких представлений в значительной степени способствовали катастрофические события, произошедшие в Индии на рубеже тринадцатого столетия, вследствие которых Тибет стал общепризнанной заменой родины буддизма для иностранных монахов, жаждавших познать подлинную Дхарму.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В конце двенадцатого столетия в Тибете в очередной раз возникла проблемная ситуация, вызванная религиозными конфликтами, воскресившими в памяти тибетцев одиннадцатый век с его распрями между переводчиками и враждой между бенде и монахами Восточной винаи. В середине того столетия наибольшую агрессивность в захвате храмов кадампы и междоусобных конфликтах проявляли монашеские сообщества Восточной Винаи Дринг и Ба. Где-то на рубеже веков, возможно, в 1106 году, монахи фракции Луме и объединенной группы Ба-Раг инициировали бурный конфликт в Самье, в результате чего был сожжен коридор-обход главного храма (‘khor sa), а также (по отдельным сообщениям) разрушены вспомогательные храмы5. Данное противостояние, по всей видимости, разрешилось только после появления в Самье знаменитого (а скорее, «печально известного») Ра-лоцавы, который под страхом черной магии утихомирил всех участников этого конфликта. Пользуясь своим авторитетом, он организовал восстановление монастыря и, возможно, привел в нужное соответствие управление Самье, настояв на назначении менее конфликтной администрации.
Помимо этого инцидента и вплоть до возобновления столкновений в Лхасе религиозные деятели начала двенадцатого столетия казались гораздо менее склонными к насилию, чем их предшественники. Ощущение кризиса стало возникать в середине двенадцатого века, когда около 1157 года Кхам охватил великий голод, и это событие побудило еще большее количество молодых монахов Кхама отправиться в Центральный Тибете в надежде пройти там обучение6. Примерно в 1160 году монахи Восточной винаи вновь были вовлечены в борьбу за священные места, причем на этот раз за контроль над Джокхангом, и это происшествие выглядело гораздо более серьезным, чем инцидент в Самье полвека тому назад. В данном случае в столкновении участвовали четыре группы: члены сообществ Луме, Ба, Раг и Дринг, которые к тому времени уже стали самыми могущественными структурами Восточной винаи. Они собрались вместе в рамках какого-то обучения, но затем довольно быстро перешли к открытой войне, в результате чего и сам Джокханг, и некоторые из окружающих его зданий были сожжены, в том числе, вероятно, и резиденция, в которой жил и работал Атиша во время своего посещения Лхасы в прошлом столетии7.
Обстоятельства сожжения как Самье, так и Джокханга не совсем ясны, поскольку в летописях эти события обычно замалчиваются и лишь упоминается, что племянник Гампопы и преемник главы монастыря Дакла Кампо Дакпо Гомцул (1116?–1169) хорошо послужил как делу мира, так и своей школе кагьюпа. В то время он заканчивал строительство нового монастыря Цур-лхалунг, расположенного неподалеку от Лхасы в Толунге, и когда услышал новости о сражениях и пожаре в великом храме, то не захотел вмешиваться. Однако, к нему обратились за помощью светские власти Дзонг-цена (Рдзонг-бцана), и кроме того у него были видения многочисленных божеств, таких как Махакала и Ремати, которые также попросили его содействия. Гомцул потратил много усилий на то, чтобы сблизить позиции участников конфликта и достичь их согласия, но поначалу безрезультатно. Наконец, когда он уже готовился покинуть город, чтобы по просьбе своих монахов вернуться в родной монастырь, Гомцул увидел во сне Джово, который заявил, что, если Гомцул не разрешит это противостояние, то и никто не сможет этого сделать. Поэтому Гомцул остался и в конце концов сумел умиротворить враждующие стороны.
После установления мира он поручил реконструкцию Джокханга одному из самых ярких деятелей того периода Жангу Ю-драк-пе (1123–1193)8. Лама Жанг, как его называли в те времена, стал первым учеником Дакпо Гомцула и основателем последней из «четырех великих» ветвей кагьюпы, носящей название «целпа». Он родился в той ветви клана Нанам, которая получила право называться «жанг» (дядя по материнской линии), поскольку они выдавали своих дочерей за отпрысков императорской династии. При этом следует отметить, что титулом «жанг» также были наделены различные ветви и других кланов9. Он начал учебу довольно рано, и сообщалось, что уже к четырем годам он декламировал стихи, посвященные Великому совершенству. Нет сомнений, что Жанг еще в молодом возрасте начал изучать стандартные труды по буддийской философии (абхидхарму, мадхьямаку, отдельные труды по йогачаре, эпистемологию), но все же его первой любовью, несомненно, были тантрические системы. Кроме того, согласно некоторым источникам, в течение некоторого времени он занимался изучением черной магии, и в том числе обрядов, включавших жертвоприношения козлов. В 1148 году он окончательно принял монашеские обеты и продолжил изучение йогических систем и махамудры, включая ламдре традиции Жама, которое ему преподавал лама Мел Йерпава10. Считается, что у Жанга было несколько десятков учителей, шесть из которых имели особую значимость для его тантрических передач. Он успел встретиться с великим Гампопой до того, как этот всегда погруженный в созерцание наставник умер в 1153 году, и примерно в это же самое время он достиг окончательного пробуждения благодаря преемнику Гампопы Дакпо Гомцулу.
Уже являясь глубоким знатоком религиозных систем кагьюпы, лама Жанг начал процесс создания сообщества своих учеников, построив монастырь Ю-драк в 1160-х годах, соорудив великий центр Цела в 1175 году, а затем возведя прилегающее к Целе здание Гунг-танга в 1187 году11. Незадолго до своей смерти в 1169 году Дакпо Гомцул доверил Жангу восстановление и управление Джокхангом. Таким образом был запущен процесс отработки институционального администрирования, и именно в это время поведение ламы Жанга постепенно превратилось из несколько эксцентричного в жестокое и кровавое. Подобно Ра-лоцаве в предыдущем столетии, лама Жанг решил управлять своими растущими владениями с использованием блокпостов, ограничивавших движение по дорогам, горам и рекам. Возможно, что это было предпринято в том числе и для сбора пошлин, но определенно и для контроля доступа на подвластную ему территорию12. Он также приказывал своим монахам и нанятым головорезам отнимать у других строительные материалы и захватывать рабочих. Создание таких ограничений и агрессивная демонстрация мускулов не могли происходить без прямых столкновений и раздоров с местными феодалами, что, очевидно, и побудило ламу Жанга сформировать и вооружить ополчение в виде полувоенных формирований, причем некоторые из их них, по всей видимости, состояли из его учеников-монахов. Конечно, такие иррегулярные военизированные формирования уже создавались и ранее, но только лама Жанг использовал их для захвата феодальных владений в таких областях Центрального Тибета, как Лхокха, Дригунг и Олкха. Для того, чтобы лама Жанг прекратил военную деятельность и вернулся со своими войсками в монастырь, потребовалось личное вмешательство около 1189 года Кармапы Дусума Кхьенпы13. Согласно источникам, после его вмешательства лама Жанг прежде, чем отказаться от своего преступного поведения, схватил Кармапу за палец и исполнил небольшой танец, отмечая таким образом момент принятия данного решения.
Во всем этом, возможно, самым тревожным и очень показательным в части используемого метода были попытки ламы Жанга обосновать свою агрессию с помощью тантрического учения. Хотя использование религиозных догматов для оправдания устремлений к личной власти, получения выгоды и самовозвеличивания являлось обычным явлением в истории человечества, справедливости ради стоит отметить, что в буддизме такое было достаточно редким. Однако, лама Жанг и его ученики, похоже, решили, что не будут придерживаться стандартов поведения окружавшего их мира. Т.е. они приняли на вооружение оправдание своих поступков, впервые сформулированное в Индии сообществом сиддхов и использовавшееся в Тибете Ра-лоцавой и подобными ему деятелями. Это своекорыстное оправдание было основано на идее, что сиддха обладает высшим знанием, и поэтому он выше земных стандартов окружающего его мира. Хотя индийских правителей трудно назвать благонравными, тем не менее у индийцев, как правило, всегда хватило здравого смысла не допускать сиддхов к постам, связанным с политической и военной властью. Свое решение они вполне справедливо обосновывали тем, что у тех, кто ставит себя выше общественного контроля, не будет причин сопротивляться разлагающему влиянию власти. Однако, у тибетцев отсутствовала даже теория разделения религиозного и политического владычества, и поэтому они всегда находились во власти любого воинственного лидера, обладавшего на тот момент ресурсами и вооруженной силой, будь он религиозным деятелем или же светским правителем.
Мы можем оценить трудности, с которыми столкнулись тибетцы, когда увидим, каким образом в те времена обыгрывалась (иногда буквально) тема сиддхов в различных местах У-Цанга. При этом многие популярные религиозные движения (rdol chos) одиннадцатого и двенадцатого столетий никак не могли выбрать конкретную основу своего развития и постоянно дрейфовали между вдохновением, одержимостью, безумием и религиозной практикой. Мартин (Martin) в своей работе анализирует некоторые из этих движений, особо указывая на их популистские вызовы буддистским монастырским центрам14. И даже в самих буддистских учреждениях присутствовали подобные направления, основанные на идеалах сиддхов (как в случае с поведением ламы Жанга). Многие из этих буддистских институциональных движений продолжали свое существование в двенадцатом столетии в южных и центральных районах Тибета, где часто бывали ламы кагьюпы и ньингмы. Например, в фиктивной автобиографии Ньянг-рела Ньима-озера (1124–1192) описывается необычная встреча юноши с тибетским «безумным учителем» (smyon-pa), относящимся к той подкатегории верующих, которая придавали ауре вокруг личности сиддхов специфический тибетский оттенок15.
«В те времена, когда мне исполнилось двадцать лет (1144 г.), я услышал о славе драгоценного ламы Ньонпы Дондена, и во мне возникла особая вера в него. Даже просто входя в его покои, я естественным образом ощущал благословение, исходившее от него. Я попросил традицию Ма жиче и его наставления по более поздней передаче [жиче Джангсема Кунги]. Посреди собрания [собравшегося для этих учений] лама заявил:
“Сейчас передо мной много ученых знатоков Дхармы и практиков, признанных реализованными йогинами. Но твой приход подобен восходу солнца в небе, сияющему на благо всех живых существ”.
Затем он сбросил всю свою одежду, и, обнажившись, схватил меня за руку и начал дико прыгать и танцевать.
“Просыпайтесь, все собравшиеся здесь счастливчики! Предыдущим правителем этой пограничной страны в наши дни является молодой Ньянг с собранными на голове волосами (ral pa can). Предыдущий переводчик ныне переродился в качестве моего безумного Я. Это глубокая кармическая связь через множество жизней. Танцуй, юный Ньянг, с отброшенными назад волосами на голове! Ты переродился на благо всех живых существ, подобный восходу солнца”.
Сказав так, он станцевал свой безумный танец нагишом. Вследствие этого те мои друзья, что раньше относились ко мне с ревностью, теперь говорили, что их потоки бытия созрели, и все они исполнились веры».
По-видимому, это разнообразие поведения являлось исконно тибетским явлением, тематически находясь в континууме с самой необузданной деятельностью индийских сиддхов. Более того, указания на связь Ньонпы Дондена с линией передачи Падампы согласуется с другими источниками, в которых перечислено поразительное количество «безумных» (smyon pa), связанных с системами жиче и чо.
Как тогда, так и сейчас, для таких эксцентричных личностей не было ничего необычного в том, чтобы давать рационалистическое объяснение своему поведению, рассматривая его как естественное проявление деконструкции социальной искусственности перед лицом ошеломляющего опыта постижения абсолюта. Не вызывает сомнений, что для некоторых из них это было именно так. Однако, в равной степени верно и то, что эта защитная реакция не только могла иметь корыстные мотивы, но и способствовала слабо социализированным личностям в культивировании ими чувства обладания особым общественным статусом, а также вовлекала в линию передачи людей с серьезными психическими расстройствами. По этой причине, к середине столетия тантрические пиршества линии Падампы, должно быть, выглядели скорее как группа взаимопомощи амбулаторных пациентов с психическими отклонениями, чем как собрание пробужденных личностей. Хотя такие люди могли выглядеть как некий курьез, на самом деле они были опасной предтечей иного общественного порядка, и призрак легионов священнослужителей, танцующих обнаженными с оружием в руках, похоже, висел как дамоклов меч над лидерами большинства монашеских сообществ тех времен. Ведь создавалось впечатление, что даже простое прочтение агиографии Вирупы прямо потворствует поведению, которому следовали эти безумные тибетские йогины. А на сходство между ламой Жангом и Вирупой указывали некоторые поборники этого воинствующего медитатора16.
К сожалению, в Центральном Тибете не было институционализированного механизма, который бы мог заставить этих людей прекратить свою воинственную деятельность во имя Дхармы. К тому же, насколько я могу судить, у тибетцев даже не было доктринальной системы, на которую можно было бы опереться в случае такого кризиса, хотя на самом деле существовало много того, чем они могли бы воспользоваться. В нескольких разделах сутр махаяны, таких как двадцать первая глава общепризнанной «Аштасахасрика-праджняпарамиты», определяются возможные недостатки поведения бодхисатв17. В ней сам Будда описывает бодхисатв, которые сбиваются с пути, будучи обманутыми Марой и соблазненными собственной гордыней (abhimanapatita). Многие из характерных черт, упомянутых в этом и других текстах, можно было наблюдать и у тантрических учителей, которые возвышали себя над обычной моралью. Однако, проблема заключалась в том, что социальные ограничения в сочетании с вполне понятным опасением за свою личную безопасность, по всей видимости, мешали людям открыто критиковать этих представителей тантрических линий передачи. Кто же захочет противостоять великому ламе с аристократическим клановым происхождением, многочисленными влиятельными связями, великими монастырями, воинственными военизированными формированиями и обширным ритуальным наследием его учителей? Констатировать очевидное – что лама Чжан превратился в патологического тирана – значит высказать сомнение в адрес его коренного ламы, всей его линии передачи и даже самой формы буддизма, на которой зиждется его религиозная позиция. Кроме того, это ставит под сомнение исходные предпосылки процесса духовной легитимации, ниспровергает общепризнанные модели взаимосвязей между духовностью и поведением, а так же в целом противоречит идеологии тантр. Вследствие всего этого, даже спустя долгое время летописцы кагьюпы были склонны приукрашивать поведение ламы Жанга, просто вскользь упоминая некие «нарушения целпы».
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
Мы были рады услышать, что благородная личность Государь-бодхисатва пребывает в добром здравии и что его державная деятельность безмерна и безгранична. Мы, праведные получатели Ваших щедрот, также чувствуем себя хорошо. Вы взирали на всех со своей великой милосердной любовью и с размахом действовали с намерением принести пользу не только государству, но и учению Будды. Но особо хотелось бы отметить, что Вы включали в свой внутренний круг общения (букв. сердечную мандалу) даже таких заурядных людей, как мы. Поэтому Ваша речь всегда была подобна потоку нектара. Более того, поскольку мы обрели прекрасные вещи, оснащенные всем необходимым, которые стали нашим достоянием благодаря Вашему непреклонному намерению наделить нас ими, наше счастье, конечно же, стало безмерным.
Письмо Пакпы Хубилаю, ок. 1255-12591
|
Широко распространено представление, согласно которому Тибет еще недавно являлся традиционной теократией, возглавляемой священником-правителем, который председательствовал над обширным монашеским сообществом и обладал международным признанием в качестве символа истинной буддийской религии. Но что было в Тибете до того, как он стал именно таким? Может показаться удивительным, но прежде, чем достичь своей религиозной самобытности, Тибет преодолел катастрофический крах культуры и заново сформировал цивилизацию, институционализировавшую положение буддизма невиданными ранее способами. Чогьел Пакпа, часть подобострастного письма которого Хубилай-хану приведена выше, является наглядной иллюстрацией такого парадоксального явления тибетской жизни как буддистский монах на политическом посту. Тем не менее, этот персонаж является иконой тибетского исторического развития, символом цивилизации, которая осуществила успешный переход от полного хаоса к паназиатскому признанию своих буддистских достижений.
Пакпа (Pakpa) принадлежал к линии буддийской практики, которая ретроспективно прослеживается от монгольского двора династии Юань и через залы монастыря Сакья на юге Центрального Тибета к теряющимся в тумане истории индийским поселениям, где возник и получил свое развитие эзотерический (он же тантрический) буддизм. Институциональная база Пакпы, монастырь Сакья, основанный в 1073 г., стал источником нескольких эзотерических практик, среди которых самой известной является система «путь и плод» (*margaphala; тиб. lamdre). Однако, следует отметить, что своей славой знатока тайных тантрических систем Пакпа обязан самоотверженной деятельности нескольких поколений тибетцев и индийцев, начавшейся в конце десятого и начале одиннадцатого столетий. Около трехсот лет, примерно с 950 по 1250 годы, буддистские монахи и йогины прокладывали путь к окончательной победе эзотерической религии на большей части территории Азии. В течение этого периода они изучали и распространяли особые формы буддизма, выжившие на периферии индийской институциональной жизни, и в конечном счете смогли привлечь на свою сторону социальные группы, способные спонсировать религиозное возрождение. В процессе этого тибетцы добились феноменальных результатов, почти не имеющих аналогов в истории человечества: они составили и кодифицировали тибетский канон и отстроили свою собственную тибетскую институциональную религиозную жизнь.
Эта книга об эпохе возрождения Тибета: историческом периоде, наступившем вслед за временами могущества тибетской империи (ок. 650-850) и сменившими их мрачными годами тибетских социальных неурядиц (ок. 850-950). Но прежде всего, она об особой роли в этом процессе позднего индийского эзотерического буддизма как координатора культурной реинтеграции остатков тибетской цивилизации в обширную азиатскую вселенную. С десятого по двенадцатое столетия тибетцы использовали развитую литературу и практики позднего эзотерического буддизма в качестве культовых моделей и доктринальных ориентиров при восстановлении религиозных учреждений, создании монастырей и преобразовании политических реалий «четырех рогов» Центрального Тибета. Неоспоримый авторитет недавно переведенных священных писаний, содержащих самые секретные и самые эффективные (и, если хотите, самые сексуальные) из религиозных методов, позволил им выдвинуться на лидирующие позиции тибетского религиозного мира. Вследствие этого тибетские переводчики, специализировавшиеся на данной литературе, де-факто обрели статус аристократов, который некоторые из них никогда бы не смогли получить по рождению. Наиболее выдающиеся деятели этого периода превратились в феодальных правителей, претворяя таким образом в жизнь метафору, лежащую в основе ритуальной жизни эзотерической системы: превращение в освященного владыку духовного государства. Процесс, в конечном счете приведший к теократии далай-лам, начинался с этих персон десятого – двенадцатого столетий, которые в процессе осуществления ими властных полномочий и использования суверенных прав порой пренебрегали своим монашеским статусом и нарушали собственные обеты.
В период возрождения тибетской религиозной и культурной жизни в ее развитии можно выделить четыре основных направления. Во-первых, тибетцы собирали воедино свою фрагментированную культуру, используя текстовые и ритуальные инструменты, предоставляемые буддийскими религиозными системами, особенно поздним эзотерическим индийским тантрическим буддизмом, основанным на йоге. Это довольно любопытный факт, поскольку в Индии поздний тантрический буддизм был всего лишь локальной формой, а никак не объединителем паниндийской буддийской идентичности (как это в конечном счете произошло в Тибете). Во-вторых, во время своего культурного возрождения тибетцам пришлось решать проблему перевода огромного количества материала на пока что еще развивающийся литературный язык. Это удивительное достижение дало им новые знания и обеспечило доступ к идеологии индийской цивилизации, а в конечном счете заставило их текстуализировать свою культуру, что привело к появлению множества текстовых сообществ. В-третьих, жители Центрального Тибета продвигали свою новую буддийскую культуру настолько успешно и в таком тщательно продуманном масштабе, что к двенадцатому столетию им удалось вытеснить Индию с позиции привилегированного источника международной буддийской идеологии. В этом им также способствовало ухудшение ситуации с безопасностью монастырей Индии, которая страдала от исламских вторжений с одиннадцатого по тринадцатый века. Наконец, тибетские ламы, применив новые ритуальные и идеологические формы, создали устойчивый нарратив на тему религиозно-политического авторитета буддистского монашества, что позволило им со временем стать законными правителями Центрального Тибета, заменив собой старую имперскую линию наследования.
Во всем этом главной движущей силой были старые тибетские аристократические кланы, чьи выходцы составляли большую часть авторитетного буддистского духовенства. В то время (а также во все другие времена) тибетцы должны были разрешать свои индивидуальные или общественные проблемы в рамках социальной системы, опирающейся на клановую структуру (за исключением тех из них, кто не имел централизованной поддержки со стороны семей землевладельцев). Как это ни парадоксально звучит, но аристократические кланы Тибета, являвшиеся во времена империи главным источником проблем в части сохранения целостности государства и способствовавшие социальной нестабильности в ранний период раздробленности, в эпоху возрождения стали основными центрами стабильного институционального строительства. Это особенно верно в отношении исследуемой нами части Тибета: «четырех рогов» Центрального Тибета. Указанная территория охватывает провинции У (U) и Цанг (Tsang), поэтому употребляемое в этой книге слово «Тибет» в основном относится к данной области (см. карту 1). Это был регион, в котором великие кланы эпохи возрождения создавали свои владения, используя при этом религию для достижения множества порой противоречивых целей. В этой области возникли общепризнанные школы тибетского буддизма, которые впоследствии смогли создать свои институции, добиться успеха и обрести легитимность. Кроме того, это территория великих ритуальных и литературных свершений тибетской религии периода возрождения.
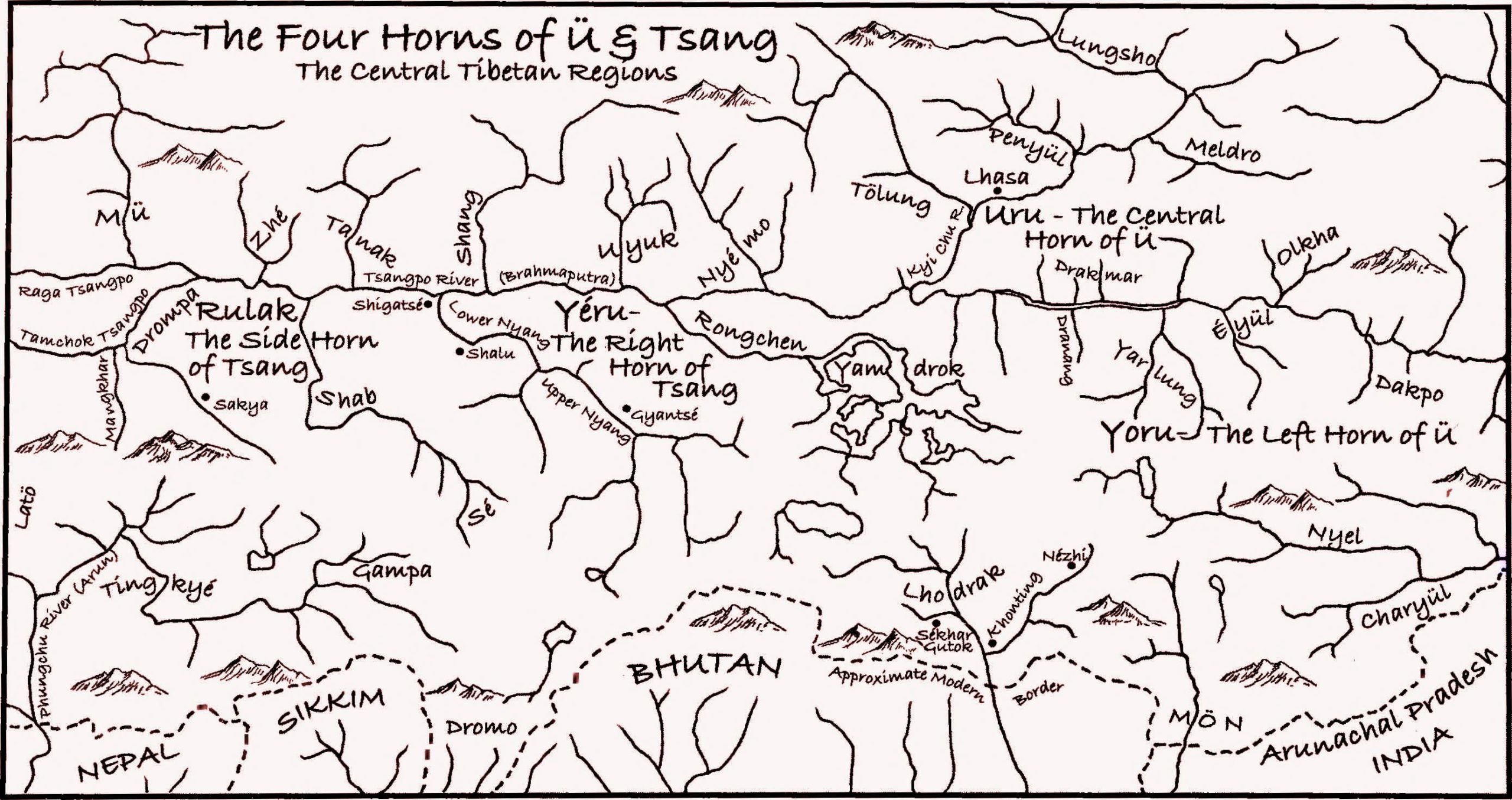 |
|
Карта 1. Четыре рога Тибета с основными регионами в области У-Цанг
|
Этот византийский процесс характеризуется сразу несколькими парадоксами, среди которых необходимо особо отметить тот, что относится к тантрическим источникам данного движения, поскольку они по большей части состояли из священных писаний, наставлений и ритуалов махайоги (mahayoga) и йогини-тантр (yogini-tantra). Начиная с периода возрождения, тибетцы выстраивали свою культуру вокруг ряда тесно связанных между собой текстов, относящихся к отдельным формам буддийской йоги. Поступая таким образом, они создавали пространство единого дискурса, которое нельзя было организовать лишь только на основе сохранившихся буддистских или коренных тибетских религиозных систем. Однако, этот новый набор религиозных ориентиров – с его идеологией личного посвящения, антиномианистского поведения и внутренней йогической медитации – создавал угрозу разрушения еще только зарождавшейся и поэтому весьма хрупкой цивилизации.
В конечном счете аристократические кланы (как оставшиеся от старой имперской династии, так и некоторые новые аристократические группы) взяли под свой контроль большую часть этого движения эпохи возрождения, хотя в целом буддизм в Тибете никогда не находился исключительно под властью аристократии. Восстановление контроля великих кланов положило начало разногласиям между данными кланами вкупе с отдельными личностями, представлявшими старую монархическую династическую религиозность, и теми, кто принял новые убеждения. В этом конфликте одним из посредников стали члены клана Кхон (Khon), основавшего монастырь Сакья, которые с одной стороны представляли наследие старой империи, а с другой активно поддерживали новое движение. Их способность олицетворять оба мира и при этом развивать собственные институциональные и ритуальные системы, позволила им добиться таких успехов, что со временем они стали привлекать к себе всеобщее внимание и смогли добиться покровительства монгольских внуков Чингис-хана.
Хотя постмодернистское общество в целом равнодушно воспринимает выдающиеся явления, невозможно не признать исключительность достижений тибетских монахов и ученых-книжников. Ведь тибетцы самостоятельно смогли перейти от мрачных веков распада Тибетской империи к периоду нового культурного и религиозного расцвета. Как правило, тибетская историческая литература описывает этот период, используя метафору возгорания огня из нескольких угольков, оставшихся после затухания предыдущего пламени. Образно говоря, тибетцам удалось осуществить культурное паломничество, двигаясь от времен внутренних беспорядков и клановых междоусобиц к периоду интеллектуального и духовного подъема. Усилия людей, посвятивших свою жизнь переносу эзотерической буддийской системы на плодородную почву тибетской религиозной жизни, внесли неоценимый вклад в то, что они сами, похоже, осознавали лишь частично. По ходу событий этим святым подвижникам и ученым-книжникам удалось сконфигурировать новую и стабильную религиозную жизнь тибетского народа, которая хотя и учитывала предыдущие усилия тибетских клерикалов и правителей, но при этом порождала новый вид буддистского измерения. А катализатором всего этого были ритуалы и йогическая литература, развитие которых происходило в Индии с восьмого по одиннадцатое столетия и которые впитали в себя суровые реалии и местные традиции сельских и племенных региональных центров Индии, в некотором роде аналогичных тибетским.
Одной из неприятных особенностей тибетской религиозной истории является практически полное отсутствие подлинных жизнеописаний нескольких десятков выдающихся интеллектуалов этого периода. В свете своих великих достижений они практически перестали восприниматься как живые люди и вместо этого были возведены в ранг священных образов тибетской религиозной жизни, хотя повествования об их реальной деятельности наверняка до сих пор пылятся где-то на книжных полках монастырей. Эти скрупулезные ученые-книжники, большинство из которых были буддистскими монахами, преодолели почти невообразимые трудности и превратили туманные доктрины и ритуалы эзотерического буддизма в живые институции своей страны. Помимо этого, они внедрили медитативные, ритуальные и концептуальные модели индийского эзотеризма во вновь начавшийся процесс возрождения тибетского языка, а также воскресили старые словари и терминологию, тем самым отвечая на вызовы переднего края буддистской жизни. Последующие прибавления в текстуальном наследии заставили тибетцев произвести внутреннюю переоценку, направленную на то, чтобы в дальнейшем источник легитимности и авторитета определялся только посредством ссылки на буддийские тексты
Многие из этих специалистов-текстологов были помимо прочего эгоцентричными личностями, с особыми представлениями о персональном величии, и демонстрировали агрессивную позицию в отношении окружающего их общества. Некоторые из них имели скромное происхождение и были сыновьями пастухов яков или кочевников, пасущих свой скот на самых высокогорных лугах мира. Другие представляли большие и малые кланы, чей авторитет опирался на системы мифов, семейные союзы и земельные ресурсы. Некоторые из переводчиков эзотерических текстов были очень амбициозными людьми и использовали свое лингвистическое и литературное образование в целях наделения себя аристократической властью над территориями, подпавшими под контроль их недавно отстроенных религиозных учреждений. Результатом всего этого стала дальнейшая фрагментация Тибета, в процессе которой зоны личного или совместного владычества трансформировались из политических владений в религиозные вотчины. Более того, те же самые системы ритуалов, йоги и медитации, которые так способствовали возрождению тибетской общественной жизни, также помогли воплотить в жизнь и индийский феодальный мир со всеми его эталонами и терминологией. Это была воображаемая вселенная, которая не могла допустить прямого политического объединения, даже несмотря на то, что она была вполне стабильна в пределах своего регионального самоутверждения.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
- Edited and translated into German in Dietz 1984, pp. 360-65. I differ from her translation on small points. I am well aware that the text as it stands cannot be entirely authentic; see Karmay 1998, p. 25.
- Chattopadhyaya 1994, pp. 183-222; Burton Stein 1991 is an update of the segmentary state model.
- On this phenomenon, see Nath 2001; compare Sharma 1965 and 2001, pp. 235-65.
- Dravyasamgraha, pp. 42-44, n5-16.
- On these classifications as inherited by Tibetans, see Orofino 2001.
- See Davidson 1991, for Ngor-chen’s two works examiningthe ritual systemsof texts classified as kriya and caryti-tantras: the Bya rgyud spyi i rnam par bshad pa legs par bshad pairgya mtsho (writtenin 1420) and the sPyod pa.’i rgyud spyi ‘i rnam par gzhags pa legs par bshad pa’i sgron me (written in 1405).
- These experiences are nicely outlined in Gyatso 1982.
- Guhyasamaja-tantra XII.58-65, XVIII.135-39, XVIII.171-77.
- For a good traditional Tibetan discussion of these schools and controversies about their literature, see A-mes zhabs, dPal gsang ha ‘dus pa’i dam pa’i chos byung ba’i tshul legs par bshad pa gsang ‘dus chos kun gsal p, a i nyin byed, esp, pp. 24.5-48.3, covering India and Indian literature.
- Manjuvajra is mentioned in Guhyasamaja-tantra XII.3, XIV.37, XVI.68, XVI.86; and Ak obhyavajra is mentioned in Guhyasamaja-tantra VI.prose intro., XI.26 and XVII.r; neither of these figures are necessarily primary in the tantra, however. ‘”
- I discuss the Buddhajnanapada legend in some detail in Indian Esoteric Buddhism, pp. 3r1-16; the lore of the tantric Nagarjuna has hardly been examined beyond Tucci 1930a.
- From Pancakrama Il.4-23. I have translated the forms of sunya as if sunyata, for that is effectively the way it is glossed, for example, Pancakrama Il.23ef: mahasunyapadasyaite paryayah kathita jinaih || For the importance of this material, see Wayman 1977, pp. 322-24, unfortunately obscured by Wayman’s impenetrable style; more approachable is Kvrerne 1977, “The Religious Background,” pp. 30-34, in the introduction to his Carydgitikosa edition.
- Introductory Remarks to Pancakrama, p. x, n. 12.
- See Davidson 1991; Stein 1995; Mayer 1998.
- For a discussion of the source of this list of sites, see Davidson 2002c, pp. 206-11.
- bKa’ ‘chems ka khol ma, pp. 131,138,156; the same text identifies Tibet as being like Sri Lanka in that it is Raksasapuri; pp. 46, 145, 202.
- For a short examination of these lineages, see Davidson 1992.
- For a discussion of these mandalas, see Davidson 2002c, pp. 294-303.
- This table is actually an amalgamation of two tables formulated by Snellgrove in his introduction to the Hevajra-tantra, pp. 34, 38. For a more detailed discussion of these issue of the origin of such ideas, see Davidson 2002d.
- Reported in Deb ther sngon po, vol. 1, p. 127.18- 19; Blue Annals, vol. 1, p. 97. The gDams ngag mdzod vol. 10, pp. 2- 6, preserves a text on sddhana translated by Gyi-jo that may be part of chapter 4 of the Kalacakra-tantra.
- dKar brgyud gser ‘phreng, pp. 59-135; compare with the Ras chung bsnyan brgyud tradition of Lha-btsun-pa Rin-chenrnam-rgyal, 1473- 1557,represented in Guenther r963, pp. 7-109, which has some convergence with my text. Other Naropa hagiographies that I have looked through to understand the difficult sections of the preceding text include the early hagiography attributed to sGam-popa in the sGam po pa gsung ‘bum, vol. r, pp. 4.6-16.3; Lho rang chos ‘byung, pp. 18-29; sTag lung chos ‘byung, pp. 77- 91; mKhas pa”i dga’ ston, vol. r, pp. 760- 771; ‘Brug pa’i chos ‘byung, pp. 186- 204; dPal Naro pa’i rnam par thar pa. The odd hagiography of Abhayadattasri is found in Robinson 1979, pp. 93-95 (translation), pp. 338-39 (ms. text, ff. 108-11) = *Caturasitisiddhapravrtti, fols. 25b4-26br. A comparative study of the Naropa hagiographies would be instructive.
- dKar brgyud gser ‘phreng, vv. 20-32 of the Naropa chapter; the verses are given on pp. 62.7- 64.4 and commented on pp. 85.2- r32 -4.
- The Lha-btsun-pa Rin-chen rnam-rgyal hagiography translated in Guenther 1963 is different from earlier works precisely because it emphasizes content in the hagiography. This strategy was also followed in the dPal Nd ro pa’i rnam par thar pa of dBang-phyug rgyal-mtshan.
- This is from sTag lung chos ‘byung, pp. 56-77; compare mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 739-54, which organizes these lineages by direction; Lho rong chos ‘byung, p. 16.
- There are several versions of the “six yogas,” but the bKa’-brgyud-pa tend to follow this one; it is from the Saddharmopadesa, To. 2330, and gDams ngag mdzod, vol. 5, pp. rn6-7.
- This was proposed by Ngor-chen Kun-dga ‘ bzang-po in his section of the Lam ‘bras byung tshul, p. 1 rn.2.3, by associating the Dharmapala of the legend with the Dharmapala of the Buddhabhumisittra transmission. For the dates 530 to 561 of the scholastic Dharmapala, see Kajiyama 1968/69, pp. 194-95.
- Lam ‘bras byung tshul, p. 1rn.2.4.
- Lam ‘bras byung tshul, p. 11r.3.5-6. The old royal chronology is defended by Sa-skya Pandita in his hagiography of Grags-pa rgyal-mtshan, bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, pp. 147.r.1 ff, based on apocryphal Khotanese sources, and he rejects the Indian chronology of Pandita Sakyasri, which the Indian master computed in 1210 identifying the Buddha’s nirvana in 543 b.c.e., a much more accurate date. See Yamaguchi 1984 and Davidson 2002a.
- This is a translation of the dPal ldan Bi ru pa la bstod pa, SKB I.r.r.1-2.2.4.
- An intentional contradiction is inserted to indicate that Virupa is beyond duality, part of standard Mahayana hermeneutics. The identification of contrapositives is seen elsewhere, for example, v. 3, where Virupa is considered the play of the immovable.
- kun tu rgyu ha – possibly an indication of Virupa’s Avadhuta status, although Avadhuta is normatively rendered kun tu ‘dar ba; compare Hevajra-tantra, Snellgrove 1959, vol. 2, p. 161.
- Ripening is done through the four consecrations, and liberation is performed through the practice of the generation and completion paths; see Grags-pa rgyal-mtshan ‘s rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i ljon shing, p. 17.r.3.
- ‘Gros bzhi thims; Lam-‘bras masters consistently define the final fruit by means of the dissolution of these four gradations or functions of the body; Sras don ma 437-3-440.3; sGa theng ma 481.3-485.3.
- The text continues with an articulation of a vision and teachings said to have been received by Sa-chen. Thus the great lord of yogins appeared with four other siddhas. Sa-chen visibly saw his face, and Virupa preached to him. Sa-chen’s panegyric was said to arise out of the force of this experience. For an evaluation of the report on this ostensible vision, see chapter 8.
- bLa ma rgya gar ba i lo rgyus, SKB III.170.3.2-5.
- The “four aural streams” (snyan brgyud bzhi: *catuhkarnatantra, see To. 2337 and 2338; snyan-brguyd is perhaps a rendering of either karmaparampara or karnatantra) are one of the important defining systems erected by the Lam-‘bras authors, the other major one being the “four epistemes” (tshad-ma bzhi ). Together they verify the unbroken and undiminished authenticity of the lineage from the Buddha to the lama of initiation; compare Sras don ma 197.5-201.3; sGa theng ma 296.2-299.2; Davidson 1999. For the appropriation of the tshad ma bzhi by bKa’brgyud-pa masters, see Martin 2001b, pp. 158-76.
- The use of “heat” as an image of meditative success is of long duration in India, whether m the Brahmanical sense of tapas or the specifically Buddhist usage of usman, which is the term used here in its Tibetan rendering, drod Within the Lam-‘bras, this use of heat is preeminently indicative of the experience generated on the worldly path, not the experience of the path of vision and above. Its presence is a prerequisite for further experience on the path. See Grags-pa rgyal-mtshan’s rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i ljon shing, pp. 47.2.5-50.2.1; Sras don ma, pp. 252.6-58.2. The capacity to turn the poisons of the personality (latent demons) into the qualities of liberation (forms of gnosis) is at the base of the Vajrayana theoretical structure and was definitively elaborated in the environment of the Sa-skya, especially Grags-pa rgyal-mtshan; see rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i ljon shing, pp. 63.2.2-69.1.4; compare ]ndnasiddhi l.37-64.
- Thapar 2004 has reexamined the history of Somanatha. I am preparing a monograph on Virupa and his Apabhramsa materials.
- bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. u6.6; mKhas grub khyung po rnal ‘byor gyi rnam thar, pp. 27-29.
- gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 7-1-2; see Nihom 1992 for an edition and discussion of the Chinnamastd sddhana attributed to Vinlpa.
- In the gLegs barn gyi dkar chags, p. 5.3-4, Grags-pa rgyal-mtshan identifies the lam ‘bring po of Lam ‘bras rtsa ba IV.B as the rtsa ba medpa’i lam, meaningthat the “textless path” would be one holding merely to the precepts; compare sGa theng ma, p. 487-4; Sras don ma, pp. 443.6-444.4. Conversely, in Sahajasiddhi, Pod ser, p. 395.5, a note indicates that it is the rtsa ba med pa i lam ‘bras and that the inclusion of the eight other practices was justified by a line in the gLegs bam gyi dkar chags, p. 6.4, that he could not mention all the little teachings associated with the Lam-‘bras. This was used to include various teachings like the eight subsidiary practices; see Lam ‘bras byung tshul, p. 125.1.2. The Lam ‘bras lam skor sags kyi gsan yig, p. 32.4.3-5, said to have been received from ‘Phags-pa, appears to collapse the Sahajasiddhi and the exegetical lineages from Dombi into a single line.
- As far as I am aware, the earliest recognition of this division is in the lineages foundin bSod-namsrtse-mo’s rGyudsde spyi’i rnam par gzhag pa, pp.36-4-2-37.1.3. bSod-nams rtse-mo, though, does not employ the nomenclature of “man ngag lugs” and “bshad lugs,” and it is not clear when this terminology came into use. Grags-pa rgyal-mtshan simply numbers them: first lineage and second lineage; rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i (jon shing, p. 69.1.5-6. I noted “birwa pa’i man ngag brgyud,” but not distinguished from a “bshad brgyud ,” in Grags-pa rgyal-mtshans rTsa ba’i !tung ba bcu bzhi pa’z ‘grel pa gsal byed ‘khrul spong, p. 235.3.2. The earliest use of terms close to “man ngag lugs” and “bshad lugs” thatIhave noted is in Ngor-chen’s Thos yig rgya mtsho, pp. 48.4.1-49.3.6, where we find mang ngag lugs kyi dkyil ‘khor du rgyu dus kyi dbang gi chu bo ma nub par bskur ba’i brgyud pa, but its contrast is with the bshad bka’ legs par thos pa’i brgyud pa, 49.1.6. This specific terminology is missing in ‘Phagspa’s Lam ‘bras lam skor sogs kyi gsan yig, p. 32.4.2-5, where we find lam ‘bras kyi brgyud pa and gzhung gi rgyud pa. The distinction between the two lineages was important enough that Ngorchen dedicated separate works to their lines of transmission: his Lam ‘bras byung tshul for the “method of instruction” and his Kye rdo rje’i byung tshul as a partial discussion of the “explanatory method.” See the bibliography for these works. For a more general discussion, see Davidson 1992, pp. 109-10.
- A version of this verse is used at the completion of the ceremony for bodhisattva precepts, Bodhicaryavatara IIl.25; the form here is from the Vajravali, Sakurai 1996, p. 475; another version is found in the Samvarodaya-tantra XVIII.34c-35b.
- For example, Sarvadurgatiparisodhana-tantra, p. 238.32; this use of vajra is specified in Sarvatathaga-tatattvasamgraha, Chandra, pp. 59-60, there done as part of the consecration.
- Vajraydnamulapatti(ikd-mdrgapradtpa, To. 2488, fols. 208b7-210; for a review of tantric rules, see Davidson 2002c, pp. 322-27-
- Sarvabuddhasamayoga-ganavidhi, To. 1672, fol. 196b4; see Davidson 2002c, pp. 318-22; and Snellgrove 1987, vol. r, pp. 160-70.
- van der Veer 1988, pp. 85-130; this situation may be contrasted with the Nath yogis studied by Bouillier 1997, pp. 142-57, 206-9.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
«Когда он сказал, что хочет искать Дхарму в южной стране Непал, его мать и отец спросили его: “Здесь, в Тибете, есть Дхарма, почему ты хочешь отправиться в Непал?”»
Житие Ра-лоцавы (р. 1016 г.)1
«Мы столкнулись с трудностями в тексте “Мадхьядеши”, и я выслушал объяснение индийского настоятеля Шри Суматикирти. Затем я, монах Дракпа Шерап, перевел этот текст. Но, поскольку разум святых подобен свету полной осенней луны, когда мои погрешности слишком бросаются в глаза, я молюсь, чтобы вы были терпеливы, как если бы я был вашим собственным сыном».
Колофон переводчиков к «Чатухкраме» Канхи, переведенной около 1090 г.2
«О, я мелкий тибетский клирик Дордже-драк, и с тех пор, как я завершил реализацию двух процессов [тантры], что бы ни случилось, хорошее или плохое, счастливое или печальное, я пребываю в этом виде уверенности – без раскаяния:
Я убил тринадцать ваджринов, самым важным был Дарма Доде.
Даже если за это я буду рожден в аду, я ни в чем не раскаиваюсь.
Я взял в супруги около пяти юных девиц во главе с Осер Бурне.
Несмотря на то, что я погряз в похоти, я ни в чем не раскаиваюсь».
Стихи, приписываемые Ра-лоцаве3
|
Многое из того, что мы знаем о буддизме в целом и буддистском эзотеризме в частности, появилось на свет благодаря невероятному трудолюбию китайских и тибетских переводчиков индийской литературы, которое они демонстрировали на протяжении нескольких столетий. Мы уже знаем, что у тибетцев буддистское наследие формально делится на две части: периода «раннего распространения» (snga dar) и периода «позднего распространения» (phyi dar) Дхармы. В другой трактовке это же разделение выглядит как периоды «ранних переводов» (snga gyur) и «новых переводов» (gsar gyur). Также иногда утверждается, что поздние переводчики всего лишь следовали путем, проторенным ранними первопроходцами, создавшими, помимо прочего, язык переводов, который теперь называется классическим тибетским4. Согласно этому мнению, новые ученые-переводчики были хорошо образованными трудягами, менее изобретательными, чем их предшественники, и иногда больше полагалась на систему дословного перевода, аналогичную механистическому стилю «verbum ad verbum», использовавшемуся такими схоластическими переводчиками греческого языка, как Вильем из Мёрбеке5. Также считалось, что в отличие от них ранние переводчики применяли более изощренный подход – что-то подобное принципам «духа текста» (ad sententiam transferre), использовавшимся для перевода с греческого языка на латынь, которые были предложены Мануилом Хрисолором, когда он прибыл во Флоренцию в 1397 году. Т.е. суть этой идеи заключается в том, что самые значимые прорывы в теории и практике тибетского перевода принадлежат ранним представителям этой профессии, а не их последователям.
Как и в большинстве устоявшихся представлений, в этих утверждениях есть своя доля истины. Безусловно, создание классического тибетского языка – это триумф переводческой группы, созданной и финансировавшейся имперским двором. Также нельзя не заметить бесспорно механистического стиля переводчиков четырнадцатого столетия, таких как, например, Бутон или Шонг Лотро Тенпа6. Тем не менее, такой подход порой подразумевает второстепенность исторической роли участников движения «новых переводов» и редко принимает во внимание проблемы, связанные с возрождением из мелких осколков былой культуры, которая без них никогда бы не стала тем, чем когда-то уже была. Более того, не всеми признается сам факт принципиального различия в социальном составе переводчиков этих двух периодов, равно как и в их мотивации, переводимой ими литературе, а так же в итоговых результатах.
Скорее всего, проявление неуважения к более поздним ученым является следствием непонимания того, что эти носители религиозной культуры периода с десятого по двенадцатый века смогли сделать то, чего не сделали их предшественники за предшествующие столетия: они создали высокую классическую религиозно-литературную культуру, сосредоточенную в монастырях, которые в течение всего тысячелетия успешно сопротивлялись напору центробежных политических сил тибетской цивилизации. Какими бы ни были недостатки этой культуры, но благодаря ее литературе, ритуалам и философии Тибет со временем стал центром притяжения для большей части евразийского континента. Неудивительно, что тибетцы считали (и до сих пор считают), что переводчики периода «позднего распространения» были наделены божественным вдохновением и обладали уникальной квалификацией. Иконографически совокупность их достоинств представлялась в виде мифической двуглавой кукушки – птицы, которая, как считалось, в совершенстве знает как исходный язык, так и язык перевода.
Однако, в человеческом обществе такие достижения невозможны без сопутствующего институционального строительства и стремления к удовлетворению личного интереса. Переводчики этого периода часто де-факто (а иногда и де-юре) были феодальными правителями, причем приобретали этот статус не обязательно по праву происхождения или положения в традиционной социальной иерархии, а благодаря своему вхождению в класс феодалов в качестве новых властителей Дхармы. Проводя много времени в Индии и вдохновляя тибетскую интеллектуальную и институциональную жизнь, они сами становились объектами религиозного почитания, поэтому мы можем с уверенностью утверждать, что период с начала одиннадцатого по начало двенадцатого столетий был временами религиозного господства переводчиков. Обладание властью, которая раньше была исключительной прерогативой аристократии, позволило им и наставникам Восточной винаи стать предвестниками начала процесса, посредством которого буддистские монашеские структуры в конце концов вытеснили имперскую наследственную линию, навсегда лишив ее власти в этой стране.
В этой главе представлены жизнеописания некоторых тантрических переводчиков периода «позднего распространения», при этом отдается предпочтение тем из них, кто посещал Южную Азию, поскольку отдельные переводчики, такие как Цалана Еше Гьелцен, похоже, никогда не покидали своего дома. Основной акцент в этих историях сделан на преодолении ими проблем с изучением индийских языков в Непале и Индии, на описаниях их остановок в Гималаях и на их новом социальном статусе после возвращения в Тибет. Нередко являясь выходцами из скромных семейств, тантрические переводчики (lotsawa) периода «новых переводов» (sarma) предстают перед нами как интеллектуалы, всецело посвятившие себя делу, которое часто бывало трудным, временами спорным, но, несмотря ни на что, вознаграждавшим их за старание. Объектами их исследований чаще всего были йогические и ритуальные системы махайоги и йогини-тантр, а также связанные с ними наставления (upadesa) и подобные им йогические тексты. Ценность их способностей была настолько очевидна, что в некоторых случаях новые работы создавались в процессе сотрудничества между индийским пандитом и тибетским переводчиком – явление, которое я называю «серыми» текстами. Кроме того, вклад переводчиков был настолько значим, что их наследие впоследствии было серьезно искажено некоторыми из их последователей, и в качестве примера такого явления далее приводится история Марпы. Многие переводчики, такие как Рало Дордже-драк, поддерживали отношения с религиозными деятелями вне зависимости от их школьной принадлежности, тогда как другие, такие как Го-лоцава Кхукпа Лхеце, являлись инициаторами неоконсервативных нападок на литературу более старых систем. Все были вовлечены в эту погоню за новыми знаниями, которые представлялись спасательным кругом тибетской цивилизации или же сиянием светильника во тьме «города призраков» (pretapuri) (так некоторые тибетцы воспринимали свою раздробленную на части религиозную культуру).
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Значительная часть переводов одиннадцатого столетия была выполнена Дрокми совместно с работавшими с ним индийскими наставниками (степень их участия будет рассмотрена ближе к концу данной главы). Среди всех работ Дрокми для последователей традиции сакьяпы самым важным, самым секретным и наиболее тщательно охраняемым считается перевод «Коренного текста *маргапхалы». Иногда этот текст фигурирует под альтернативными названиями, такими как, например, «*Ваджрапада» (этот вопрос мы обсудим несколько позже). Известно, что Дрокми договорился с Гаядхарой, что тот не будет передавать его никому другому. Однако, некоторые авторитетные ученые отмечают, что, похоже, существовала альтернативная версия «Коренного текста *маргапхалы» (Lam ‘bras rtsa ba). В пятнадцатом столетии Нгорчен Кунга Зангпо пришел к выводу, что во время третьего путешествия Гаядхары в Тибет им, совместно с Гьиджо Даве Осером, действительно был выполнен другой перевод этого текста91. Нгорчен, очевидно, имел доступ к этому альтернативному переводу, поскольку он упоминает собрание (yig cha) материалов, принадлежащих к его традиции, которое, по его же утверждению, когда-то было полным и имело широкое распространение, но к его времени уже полностью исчезло из обращения92.
 |
|
Илл. 10. Махасиддха Вирупа. Китай, династия Мин, период Юн-ло, 1403–1424 гг. Позолоченная бронза, высота 43,6 см ©. Художественный музей Кливленда, 2004 г. Дар Мэри Б. Ли, К. Бингэма Блоссома, Дадли С. Блоссома III, Лорели Б. Ковачик и Элизабет Б. Блоссом в память об Элизабет Б. Блоссом; 1972,96
|
Рассматриваемый здесь «Коренной текст *маргапхалы» является одним из самых своеобразных произведений на тибетском языке, с которыми мне когда-либо приходилось встречаться. Мы не располагаем свидетельствами существования его индийской версии, поскольку ни в одном из сохранившихся индийских писаний этот текст не упоминается. Во времена бурной религиозной полемики пятнадцатого столетия Нгорчен не смог привести ни одного подтверждения авторитетности этой работы в самой Индии, и, доказывая аутентичность данной традиции, он опирался исключительно на личность Вирупы. А для того, чтобы имя Вирупы фигурировало в определенных авторитетных источниках, ему даже пришлось переинтерпретировать некоторые стихи93. На самом деле вызывает сомнения даже тот факт, что автором этого произведения является Вирупа, и что его перевод был выполнен Дрокми и Гаядхарой, поскольку ни один из общепризнанных вариантов данного текста не содержит колофона, который бы указывал на авторство Вирупы, или хотя бы на то, что он переведен этой группой переводчиков. Вопросов становится еще больше, если принять во внимание с какой тщательностью Дрокми фиксировал свое авторство во всех остальных переводах. Более того, существует проблема, касающаяся текстовой передачи этого произведения. Суть ее в том, что сакьяпинцы утверждают, что в двенадцатом столетии Жанг Гонпава не передавал, а Сачен Кунга Ньингпо не получал ни одного физического документа, относящегося к ламдре – ни копии самого текста, ни каких-либо примечаний к нему. А одна из ветвей этой традиции сообщает, что «Коренной текст *маргапхалы» вообще не имел письменной формы до времен учителя Сачена Жанга Гонпавы94. Таким образом, общепризнанный «Коренной текст *маргапхалы» может являться письменной фиксацией произведения, заученного Жангом Гонпавой или Саченом, а не носителем непрерывной рукописной традиции. Хотя более вероятно, что рукописи, принадлежавшие различным ученикам Дрокми, все-таки обращались внутри самой традиции, ряд особенностей этого текста, в сочетании со скудостью сопутствующих ему документов, порождают значительную неопределенность в части изначальной передачи данной работы.
Сам текст представляет собой сборник описаний разнообразных подходов к реализации эзотерического буддийского пути и имеет очень мало общего с любыми другими произведениями, приписываемыми либо традиционному Вирупе (рис. 10), либо персоне с таким же или схожим именем. Дело в том, что помимо коротких автобиографических стихов, включенных в канон и содержащихся в общепризнанных агиографиях, в тибетском Тенгьюре присутствует еще с десяток текстов, у которых в качестве авторов указаны Вирупа, Шривирупа, Бирвапа или еще какая-нибудь подобная форма имени. Эти работы делятся на четыре основные категории: (1) практические руководства по созерцанию того или иного божества; (2) суровые ритуальные тексты, посвященные приготовлению пилюль или выполнению различных тантрических действий; (3) работы, описывающие манипуляции с внутренними потоками и психофизическую йогу; (4) мистические тексты постижения абсолютной реальности. В первой категории преобладают наставления, посвященные божествам и мандалам Рактаямари-Рактаямантаки, а также богине Чиннамунде95. Если раннее творчество исторического Вирупы включало в себя такого рода садханы, то, вероятно, в этой категории присутствуют и его работы, поскольку в одном из анонимных текстов, посвященных Рактаямари, восхваляется чудодейственное удержание солнца Вирупой как высшее проявление его сиддхи. К ним примыкают ритуальные тексты второй категории, включающие в себя инструкции по изготовлению пилюль «нектара» из весьма специфических веществ (от вызывающих отвращение до смертельно опасных), а такие практики были довольно распространены в системе Рактаямари-Рактаямантака97. «Рактаямантасадхана», в качестве автора которой указан Вирупа, особо призывает к использованию подобных методов, что в целом неудивительно, поскольку их применение достаточно часто предписывалось и в эзотерической литературой других направлений98. Кроме того, Вирупе приписывается и выполнение ритуалов с янтрой Ямантаки, связанных с манипулированием реальностью посредством определенных тантрических действий99. Может показаться, что йогические труды третьей категории являются более благодатной почвой для поиска сходства с содержанием «Коренного текста *маргапхалы», но это не так. Из двух доступных нам работ по йоге первая крайне рудиментарна, а вторая посвящена йоге «самопосвящения» (svadhisthana-krama), и в ней практически не используется специальная терминология текстов ламдре100.
И, наконец, речь пойдет о трех больших сборниках «песен реализации»: «Дохакоше», «Вируападачаураси» и «Суниспрапаначататтвопадеше»101. Эти захватывающие и поистине великолепные примеры песенных систем, использовавшихся поздними сиддхами Индии в период с девятого по двенадцатое столетия, являют собой философский и интеллектуальный контрапункт вычурному ритуализму и деревенской магии, характерным для многих произведений системы Ямари-Ямантака. Поэтому неудивительно, что Нгорчен обратился к последнему из этих текстов, пытаясь с помощью него ассоциировать Вирупу и ламдре с системой индийской сакральной географии102. Тем не менее, данные тексты ничуть не приближают нас к установлению авторства Вирупы как в отношении «Коренного текста *маргапхалы», так и любого из этих стихотворных сборников. Причем самое большее удивление вызывает тот факт, что ни в одном из текстов, приписываемых Вирупе, не используются ни формальные списки, ни специфическая терминология, ни даже общий план «Коренного текста *маргапхалы». Пожалуй, лучшим показателем такой обособленности является то, что тексты этих четырех категорий по большей части вполне понятны, порой даже легко читаются и практически не требуют каких-либо комментариев и разъяснений.
Совершенно по-другому воспринимается «Коренной текст *маргапхалы». И это вовсе не удивительно, поскольку секретное содержание этой работы оберегалось от посторонних как посредством немногословности и невразумительности ее прозы, так и надежной изоляцией от внешнего мира в священных покоях тибетских монастырей. Иногда ее терминология кажется уникальной и применимой только для данного текста. А отдельные попытки сопоставить ее содержание с темами, присутствующими в различных священных писаниях (в особенности в Хеваджра-тантре), смогли лишь только продемонстрировать всю глубину различий между ними и подтвердить отсутствие действительного аналога «Коренного текста *маргапхалы»103. Текст насыщен списками, представляющими собой перечни наименований категорий, сущность которых нигде не раскрывается (к примеру, четыре эпистемы (tshad ma bzhi) в I.C.), а их трактовка в комментариях Сачена порой приводит в замешательство, поскольку некоторые из списков все же соответствуют ряду известных категорий буддийской мысли. Многие категории текста настолько выходят за рамки норм эзотерического буддизма, что создается впечатление, будто бы они относятся к попытке следовать совершенно иному устройству буддийского пути. Многие разделы «Коренного текста *маргапхалы» невозможно интерпретировать без помощи комментариев Сачена, датируемых двенадцатым столетием, причем его прочтение порой не соответствует даже нормативной тибетской грамматике. Столь же любопытно, что интерпретация Саченом необычных категорий сама по себе является идиосинкразической, и некоторые примеры этого приводятся в примечаниях к переводу. Известный своей ученостью и глубокими доктринальными познаниями нынешний глава школы сакьяпа не раз отмечал в беседе со мной, что даже он считает постижение смысла «Коренного текста *маргапхалы» довольно непростой задачей.
Столь противоречивая картина порождает желание высказать ряд, казалось бы, здравых предположений. Во-первых, Дрокми мог намеренно перевести текст таким образом, чтобы его правильное толкование было невозможным без его устных наставлений. А в качестве разумного объяснения данного поступка можно предположить его желание сохранить полный контроль над данной работой. При этом, если судить по другим его переводам, – одними из лучших и наиболее совершенных в одиннадцатом столетии – в этом случае Дрокми должен был полностью пренебречь нормами переводческого стандарта, установлению которого он сам способствовал все это время. Во-вторых, возможно, что Сачен не имел корректного перевода этой работы, поскольку текст, полученный им по линии передачи, еще раньше где-то подвергся искажению. Однако этот вариант столь же маловероятен, как и первый. Ведь оба этих деятеля были глубоко погружены в изучение и интерпретацию совсем небольшой по объему работы, и мне трудно представить, что они не смогли выучить наизусть ее текст. Что касается Сачена, то большинство из десяти приписываемых ему длинных комментариев имеют одну и ту же структуру и в них дословно используется одна и та же фразеология. Судя по всему (хотя традиция это и отрицает), Сачен в определенные периоды свой деятельности имел возможность пользоваться письменными текстами предыдущих наставников104. Таким образом, вполне вероятно, что и Сачен, и его предшественники были старательными учеными, занимавшимися тщательным изучением работы, которую считали настоящим сочинением небесной богини Найратмьи.
Однако, третье предположение требует более пристального внимания. Похоже, что Гаядхара был именно тем типом индийского пандита, о которым уже в те времена писал Ронгзом, критикуя систему сармы. В частности он утверждал, что индийские пандиты заранее разузнают, чего хотят тибетцы, а затем по пути в Тибет сочиняют новые произведения. Вполне очевидно, что Гаядхару нельзя было назвать правдивым человеком, поскольку во время своего второго путешествия в Тибет он даже выдавал себя за Майтрипу. Т.е. Гаядхара был склонен представать в придуманном им обличии ради того, чтобы обеспечить себе уважение, доход и доступ ко дворам великих кланов У-Цанга. Короче говоря, Гаядхара, как и многие каястхи, одновременно был человеком и выдающейся учености, и сомнительных моральных качеств, и кроме того склонным к приспособленчеству ради достижения собственной выгоды. Принимая во внимания обширность тематики переведенных им материалов, не может быть сомнений в том, что Гаядхара являлся высокообразованным и опытным специалистом в такой специфической дисциплине, как эзотерические писания. Наконец, вспомним и о том, что Гаядхара пообещал Дрокми не передавать «Коренной текст *маргапхалы» никому другому кроме него. Однако, Гьиджо Даве Осер, похоже, также получил его, хотя и в более позднее время, что лишний раз подтверждает наши сомнения в моральных принципах Гаядхары.
Таким образом, в качестве одного из возможных вариантов развития событий мы можем рассмотреть следующий сценарий. Высокообразованный, но не отягощенный моральными принципами Гаядхара отправляется в Тибет, где встречается с Дрокми, который просит передать ему какой-нибудь ранее неизвестный в Тибете текст с сопутствующим учением. Благодаря огромной популярности великих сиддхов, все остальные «тайные наставления» к тому времени уже являлись достаточно распространенным материалом. И хотя Дрокми также имел многие из этих текстов, они не могли обеспечить ему монополии на какое-либо отдельное учение, о которой он так страстно мечтал. Оценив по достоинству эту ситуацию, Гаядхара вполне мог попросту написать требуемый ему текст. Но даже если дело обстояло именно так, я не думаю, что он мог сочинить такое произведение без привлечения сторонних материалов, поскольку текст ламдре очень неоднороден и маловероятно, что он был написан одним автором. Скорее всего, Гаядхара уже имел в своем распоряжении очень короткую и никому не известную работу, которая и составила большую часть или даже весь первый раздел (I) «Коренного текста», где описывается группа несвязанных между собой подходов к пониманию буддийского пути. Этот очень небольшой по объему базовый документ затем мог быть дополнен особыми наставлениями, ранее полученными самим Гаядхарой и абстрагированными им от известных ему эзотерических материалов или же попросту созданными им прямо на месте. Такой сценарий кажется вполне правдоподобным, если учесть весьма своеобразное название этой работы, присутствующее во всех ее редакциях: «Наставления по пути вкупе с его плодом вместе со специальными указаниями». Якобы санскритское название «Пратриматидха-упадеша», присутствующее в одном из ранних комментариев двенадцатого столетия, было придумано кем-то, не знавшим санскрита, и, по-видимому, является отголосками предрасположенности к созданию звучащих по-индийски названий в целях подтверждения претензий на индийскую аутентичность105. Таким образом, каким бы ни был его источник, в дополнение к наставлениям (gdams ngag) по фундаментальной структуре пути этот текст также должен был включать в себя и специальные указания (man ngag: upadesa).
Для сравнения с этой моделью, мы должны рассмотреть единственный сохранившийся текст, приписываемый непосредственно Гаядхаре, которой носит название «Джнянодайопадеша» (To. 1514)106. Данная работа разделена на три части: первая посвящена базовым мантрам системы Самвары, вторая описывает тайный язык, а третья включает в себя разрозненные темы и завершается анализом взаимосвязи между стадиями бодхисатвы/будды и обсуждением двадцати четырех мест паломничества системы Самвары. Все эти различные по своей сути темы не содержат даже малейшего отголоска ламдре, и если Гаядхара действительно был автором «Коренного текста *маргапхалы», то следовало бы ожидать некой взаимосвязи между специальным языком этого произведения и терминологией других его работ, как это отмечается в случае с Вирупой. Тем не менее, меня не покидает ощущение участия в создании «Коренного текста» или Гаядхары, или его непосредственного предшественника Авадхути, поскольку эта работа базируется на самых последних направлениях эзотерической мысли. В тексте ламдре порой отмечается созвучие с некоторыми поздними тантрами, и здесь в качестве примера можно привести провозглашение об особой значимости тридцати семи ветвей пробуждения из «Йогинисанчары», которое также присутствует в качестве метанарратива в разделах II и III «Коренного текста *маргапхалы»107.
В качестве альтернативы можно также рассмотреть предположение, согласно которому автором этой работы был сам Дрокми. В этом случае, он мог заплатить Гаядхаре золотом только лишь за его подтверждение аутентичности якобы индийского источника. Согласно этой версии, Дрокми был достаточно серьезно обеспокоен перспективами своих будущих доходов, и именно поэтому сфабриковал указанную работу, хотя ее поддержка Гаядхарой обошлась ему в огромную сумму. Я считаю такое предположение достаточно далеким от истины. Хотя нельзя сказать, что Дрокми был идеальным монахом, я могу подтвердить (достаточно подробно изучив его творческое наследие), что он был выдающимся ученым и добросовестным интеллектуалом, и в этом плане возможно даже превосходил Гаядхару. Мы не располагаем свидетельствами того, чтобы какие-то авторы оспаривали интеллектуальные способности Дрокми, хотя некоторые писатели порой высмеивали его неуемную потребность в деньгах. В то время как в одиннадцатом столетии было обычной практикой подвергать сомнению многие работы, созданные как тибетцами, так индийцами, это ни коим образом не затронуло труды Дрокми.
Кто бы ни был автором этой весьма любопытной работы, маловероятно, чтобы какая-либо из частей «Коренного текста *маргапхалы» однозначно принадлежала авторству одной из персон, известных под именем Вирупа. Попытки ассоциировать данную работу со знаменитым поэтом/пьяницей/йогином конца десятого столетия наталкиваются на сильный терминологический диссонанс со всеми остальными материалом, содержащими это имя. Если бы Гаядхара играл главную роль в создании данного текста, то тогда проблемные с точки зрения грамматики прочтения его отдельных частей Саченом можно бы было объяснить постоянными изменениями, вносимыми в данную работу, поскольку в этом случае первоначальный «перевод» подвергался бы постоянной переинтерпретации в течение тех многих лет, пока Дрокми и Гаядхара работали вместе. Альтернативное название данного произведения «*Ваджрапада» (или «*Мулаваджрапада» (rtsa ba rdo rje’i tshig rkang)) не засвидетельствовано ни в одной из его общепризнанных редакций и впервые упоминается только в комментариях Сачена108. По всей видимости, оно свидетельствует о попытках придать этому тексту еще большую легитимность, поскольку считалось, что сиддхи создавали или обретали такие полные глубокого смысла «алмазные слова» (vajrapada) или посредством достижения ими полного совершенства, или в качестве откровения, ниспосланного небесной богиней109. На самом деле, проблемы с «Коренным текстом *маргапхалы» являются лишь микрокосмом множества трудностей, с которыми приходится сталкиваться при изучении других работ, приписываемых позднеиндийским сиддхам. Отдельно хотелось бы отметить, что я использую несколько более нейтральное название «Коренной текст *маргапхалы» просто для удобства, хотя это также одно из его более поздних наименований.
1. The following abbreviations are used in the apparatus: (PS): Pod ser, 11.9.119.3; (PTT): Peking Tibetan Tripitaka, Pe. 3131 bsTan-‘gyur, rgyud ’grel, tsi, fols. I52a8~55b8; (DG): bDe-dge bsTan-‘gyur,To. 2284, rgyud, zhi, fols. 139a6-42by; (Co): Co-ne bsTan-‘gyur, rgyud, zhi, fols. 1393-433; (rGyud kun): rGyudsde kun btus, vol. 26.92-102; (DNg): gDams-ngag mdzod, 4.1.1-11.1.1; (Bo dong): Bo dong gsung ’bum (Encyclopaedia Tibetica), vol. 105.415-28. The numbers in brackets, for example, [n], are the PS page numbers. Occasional readings from the Sras don ma and the sGa theng ma also are provided. The tide of the text is extracted from the end of the work and is something of an issue. The preceding tide is that given at the end of the text (PS 19.3). Co (14331), DG (142b7), Po-dong (428.4), and PTT (vol. 69.134.3.8) has man ngag du bcaspa. DNg, rGyud kun have man ngag dang bcaspa. The titles given at the beginning of the various editions, however, reflect a much wider variation: To. 2284 in the catalog has perhaps the most commonly used title, Lam ’bras bu dang bcaspa i rtsa ba rdo rje ‘i tshig rkang, evident in the sDe-dge bstan ‘gyur dkar chag (699: lam ’bras bu dang bcas pa’i rtsa ba rdo rje’i tshig rkang dang | bdud rtsi grub pa’i rtsa ba zhes bya ba slob dpon chen po bi ru pas mdzad pa). DNg, rGyud kun have gSung ngag rinpo che lam ‘bras bu dang bcas pa igzhung rdo rje i tshig rkang, the LL edition in the PS does not offer any beginning title, similar to the canonical editions, while the gLegs bam kyi dkar-chags of the PS (2.2) uses the common abbreviation rTsa ba rdo rje i tshig rkang, *Mula-vajrapada.
2. DNg omits la.
3. Most of the titles for the section divisions contained in [brackets] are from the sGa theng ma, 159 ffi, or the other commentaries, and are provided for convenience; they are not in the original text. See chapter 8 for a discussion of the priority of the sGa theng ma.
4. PTT nyon mongs pa’i snang ba la ma dag ba’i snang ba la |; DG, Co nyon mongs pa’i snang ba la ma dag pa’i snang ba|.
5. DG, Co omit la.
6. PTT omits la.
7. PTT, DG, Co pa’i; PTT, DG, Co, DNg omit la.
8. PTT gyis.
9. Co tshad pas.
10. PTT, Co, DG, and DNg use the new orthography (la) sogs throughout. PS uses the archaic stsogs, which is retained.
11. PTT, DG, Co, DNg, Bo dong, rGyud kun sogs.
12. PTT, DG, Co bzhi yis and throughout.
13. PTT skyed rim la sogs.
14. DNg, rGyud kun kyis.
15. DNg, rGyud kun, Co chags.
16. DNg, rGyud kun omit sogs; DG ’dod yon sogs la yis.
17. DNg bsgom.
18. PTT bgag; DG, Co ’dag.
19. DNg ’du’i.
20. PTT, DG, Co, Bo dong dangs ma for dwangs ma throughout.
21. DNg rtsir.
22. PTT rnam Inga dang |.
23. DNg, rGyud kun omit la.
24. DNg bcu’i; rGyud kun bcus.
25. DNg bsgom; Bo dong sgoms.
26. Bo dong blta ba’i.
27. PTT las.
28. PTT rgyud.
29. PTT, DG, Co ma chad pas |.
30. PTT dbang.
31. PTT tshad ma’o |; DG, Co lo rgyus kyis tshad mao |.
32. PTT, DNg, DG, Co, rGyud kun kun gzhi.
33. DNg, rGyudkun lam thams chad yongs su rdzogs pa’o |.
34. sGa theng ma reads rtan pa, clearly a misprint.
35. DNg, rGyud kun dad pa brtan po |; Bo dong dad pa rtan po | = omit bsrung.
36. PTT dad pa brtan pos bsrung ba’i ’khor lo |; DG, Co dad pa brtan pos srung ba’i ’khor lo |.
37. Bo dong ’dud.
38. DNg, PTT, DG, Co, rGyud kun omit la.
39 .Bo dong blta grub.
40. DNg, PTT, rGyud kun bsgyur ba’o |; DG, Co rgyur ba’o |.
41. PTT nang gang bdud lam; DG nang gi bdud lam; Co nang gis dud lam.
42. PTT, Co brda shes pas; DG brda ma shes na ’od brda shes pas.
43. PTT, DG, Co bral bas bral ba’i.
44. DNg ’bras bus gzhi.
45. Co thobs nas; DG thabs nas.
46. PS gyi.
47. DNg rlabs.
48. DNg, rGyud kun so.
49. DNg, PTT, DG, Co, Bo dong sgom pa mi ’chor ba throughout.
50. DNg, rGyud kun omit ni.
51. PTT, DG, Co thod rgal gyi ye shes.
52. DNg dang po la rlung po; rGyud kun dang po la rlung so; PTT, Co dang po rgyun gyi rlung po; DG mas ’dus pa dang po | rgyun gyi rlung po; here, as elsewhere, PTT, t)G, Co give lag ca for lag cha.
53. PTT, DG [omit rtsa] sna tshogs ’dud la sogs | gzhi rtsa ba’i rlung la sogs |; Co [omit rtsa] sna tshogs ’dud la sogs bzhi rtsa ba’i rlung la sogs zin.
54. DNg ’gags.
55. PTT, DG, Co de tsa na thig le.
56. DNg ’gre |; DG ’dro.
57. DNg, Bo dong, rGyud kun omit nang du.
58. DNg, rGyud kun med pa.
59. PTT, DG, Co me Tsar ba lta bur snang |.
60. PTT chu rlung la dang.
61. PTT, DG, Co ’byung ba bzhi’i.
62. PTT’byung bzhi’i rlung mnyam rgyu dang lha mo sna tshogs dang dri ro | nam mkha’; DG, Co lha mo sna tshogs kyis gar mchod dang dri ro | hyung ba bzhi’i rlung mnyam rgyu dang lha mo sna tshogs nam mkha’.
63. DG, Co, rGyud kun lus.
64. DG, Co omit de.
65. DNg, rGyud kun phran.
66. PTT thig phan.
67. DNg nyams nga.
68. DNg mchil ma’i.
69. PTT nyams lta bu khams kun tu snang ngo |.
70. PTT, Bo dong A la; DNg, DG, Co, rGyud kun A las.
71. Bo dong pho brang du rlung sems mnyams par ’dus na.
72. PTT bzung ’dzin.
73. DNg yangs la.
74. PTT, Co rang ’byung.
75. rGyud kun rlung so for rlung po throughout; Bo dong dpyid kyi added before rlung po in a different hand, justified in Bo-dong’s commentary, Encyclopaedia Ti- betica vol 105.141.5.
76. Co, Bo dong gzugs.
77. DG, Co dri.
78. DNg long ba.
79. DNg, Bo dong, rGyud kun phyi.
80. rGyud kun logs.
81. PTT, DG mkha’ ’gro ma Inga; Bo dong mkha’ ‘gro Inga dang.
82. DG, Co la.
83. PTT, DG, Co omit shes pas.
84. PTT sol ba’i.
85. DNg las.
86. DNg, Bo dong, rGyud kun skye bas drod; DG, skye ba’i dod; Co skyed ba’i dod.
87. PTT, Co du gtang |; DNg, rGyud kun du bskyang |; Bo dong du gtad do |.
88. PTT’ongs bas.
89. DG ’cher ba’i.
90. DNg, Bo dong, rGyud kun yul gags pa na.
91. DG, Co, Bo dong bsnyams pas.
92. DG rlung pa lag cha dral bas rtsa bral|; Co dral bas rtsa bral |.
93. PTT, DNg, DG, Co, Bo dong, rGyud kun rjes las.
94. DG, Co byung ba’i.
95. DNg ijes; Bo dong dges.
96. DNg kundar; PTT kun dhar.
97. Bo dong sna rtser dkyil ’khor rgyu.
98. DNg rig pas; PTT, DG, Co rig pa; Bo dong rigs pa.
99. PTT, Co lus ngag yid gsum rdo rje’i; DG lus ngag yid gsum rdo rje.
100. DNg bca’; Bo dong dkyil dkrungs bca’.
101. DG, Co thig le.
102. DNg chom pa’o |; PTT, DG, Co, rGyud kun choms pa’o |.
103. PTT nang gis.
104. Bo dong sngar ma skyes pa’i.
105. PTT, Co omit par; DG bzod dka’.
106. PTT, DG, Co bzod pa’o |.
107. PTT’phros na.
108. PTT, DG, Co omit yongs su.
109. DNg nang nas; Bo dong chos kyi nang na.
110. PTT, Co omit dang.
111. DNg, DG, Co, PTT, rGyud kun A nas; Bo dong corrected to A nas.
112. PTT, DG, Co rang mtshan nyid do 11.
113. DNg, rGyud kun phyi nang gi rten.
114. PTT, DNg, DG, Co, rGyud kun thob par byed pa throughout.
115. PTT omit entire phrase: bskyed . . . nas |; DG spyod pa’i rim pa’i.
116. PTT, DG, Co dag par byed pa.
117. PTT, Co gtso bo.
118. Bo dong mthong na.
119. PTT, DG, Co mthong bas | rtog pa’i; PS rtogs pa’i.
120. PTT sgul zhing nyams.
121. DNg, Co ’chad |; Bo dong mar brgya ’gyed followed by small correction to mar brgya ’ched.
122. PTT du ma‘i rten mthong nas; DNg, rGyud kun khyad par mi’i rten mthong na; DG, Co mthong nas.
123. DNg, rGyud kun dga’ zhing.
124. DNg, rGyud kun dus su bstan pa’i; PTT dus na brtan pa’i; Bo dong dus su stan pa’i.
125. PTT, DG de tsa na for de tsam na throughout; DG, Co rtog |.
126. Bo dong mchi ma lhung.
127. DNg rdog bro Bo dong rgod bro.
128. Bo dong ska cig mas.
129. DNg, rGyud kun rdo rje’i rtse.
130. Bo dong rdo rje lan cig corrected to rdo rje’i lan ga cig.
131. PTT has.
132. DNg, rGyud kun lus sems bde bas myong zhing brgyal; Co myong shing brgyal.
133. rGyud kun gags.
134. PTT, DG, Co omit mthong lam.
135. DNg la.
136. DG, Co dbang bzhi | Bo dong dbang bzhi ni.
137. PTT, DNg, DG, Co sa gnyis pa nas.
138. DG, Co sprul pa’i sku’i.
139. DG bskul ba; Co bsgul ba.
140. PTT, DG, Co, rGyud kun gags.
141. PTT lte ba’i snying.
142. DG sgom lam sa drug go |.
143. PTT brlabs; rGyud kun brlab.
144. DNg gyi.
145. PTT, DG, Co ngag dag pa gsan ba’i.
146. PTT, NTh, Co dangs ma’i rlung Inga la; DG dangs ma’i rlang Inga la; Bo dong, rGyud kun, PS omitt Inga after rlung, yet this is included in Sr as don ma, 399.4, sGa theng ma, 447.2.
147. DG lta stang sa rnams.
148. Bo dong bha gha’i dkyil du.
149. PTTgis.
150. PTT phyi me.
151. DG, Co, DNg, Bo dong, rGyud kun a li ka li mthong nas.
152. DG yig ’bru ces pa; Co illegible, but insufficient room for ’bru zhes stsogs; Bo dong yid ’bru ces pa sogs.
153. PS, rGyud kun, DNg sa bdun yan chad ’khor bzhi’i brgya longs sku’i zhing khams dung phyur; Sras don ma, 403.2, sa bdun yan chad ’khor lo bzhi rgyal ba longs sku’i zhing khams dung phyur. sGa theng ma, 450.5, and other commentaries as printed.
154. DG, Co bsgul ba.
155. DNg, PTT, DG, Co, rGyud kun gags.
156. rGyud kun mgrin pa.
157. Co sa bcu’o 11.
158. PTT, DG, Co omit chos sku las.
159. Bo dong corrected to sems ’dag pa.
160. PTT sems dag pa dkyil ’khor ’khor lo thabs; DG sems dag la dkyil ’khor ’khor lo thabs.
161. DG, Co gyi.
162. DNg, rGyudkun byed pa | yid dag par byed pa shes rab ye shes; Bo dong byed pa | yid ’dag par byed pa shes rab dang | ye shes; PTT, DG, Co shes rab dang ye shes.
163. DNg, PTT, DG, Co, rGyud kun ni for dang; Bo dong rtags stobs dang|.
164. DNg, Bo dong, rGyud kun omit kyi.
165. DNg, PTT, DG, Co, Bo dong, rGyud kun bskyod pa’i.
166. DNg omit rtags bstan pa.
167. DNg sogs kyi dbang.
168. PTT, Bo dong ’du [omit ba]; DG, Co bdud rtsi Inga gar ’du mthong nas.
169. PTT, DG, Co omit du.
170. PTT, DG, Co ’dus pa.
171. PTT, DG, Co skui.
172. DNg, rGyud kun dpa’ mams la; Bo dong sems pa la.
173 .Bo dong omit la.
174. DNg, PTT, DG, Co, Bo dong, rGyud kun slar spos na.
175. PTT, DG, Co, rGyud kun ’gags.
176. DG HRI la thig les brtan.
177. PTT, DG, Co omit sgom lam.
178. Bo dong yang dbang bzhi ni.
179. DNg, rGyud kun mthar phyin pa’i lam nas.
180. PTT mthar thug ’da’ ba |; DG, Co mthar thug rten ’brel mthar thug ’da’ ba |.
181. PTT, DG rdo rje’i rba rlabs kyi lam gyis; Co rdo rje’i dpa’ rlabs kyi lam gyis.
182. DG, Co rang bzhin gyi.
183. DNg, rGyud kun lus ngag yid gsum gyi.
184. PTT’dag dkar ’bras bu gnyis ’thob ste|.
185. DG, Co omit ’di ni.
186. PTT, DG, Co g.yo |.
187. PTT, DG, Co mkha’ ’gro ma mams.
188. DG, Co a wa dhu Tir ’jug; Bo-dong a ba dhu Tir ’du.
189. PTT, DG ’bras bu phyogs gcig ’thob ste |; Co hras bu’i phogs gcig ’thob ste.
190. DNg, PTT, DG, Co, rGyud kun, Bo dong longs sku’i.
191. Co bsgul ba.
192. DNg, rGyud kun bde gshegs bcud bsdus yin |; DG, Co, Bo dong bde gshegs bcud ’dus yin|.
193. DNg, PTT, DG, Co, Bo dong, rGyud kun dbyer med la.
194. rGyud kun lha gar |.
195. DG, Co rang bzhin gyi; rGyud kun rnam par dag | rang bzhing gyis.
196. Bo dong rnam par dag pa lhun grub kyi ska.
197. Between notes 197, PTT reads: ’bras bu longs sku’i zhing khams; DNg, rGyud kun as printed but with … longs sku’i zhing khams; DG, Co ’bras bu mthar phyin de kho na nyid kyi rtags longs sku’i zhing khams.
198. PTT, DG, Co bsgul ba; DNg, rGyud kun ma lus pa sgul ba, omitting la sogs pa.
199 .Bo dong sgul nus.
200. PTT, DNg, rGyudkun ‘gags; DG, Co a wa dhu Ti’i ‘gags.
201. DG HRI la thig les brtan |.
202. PTT, DG, Co omit dang.
203. Co Taros bzhi.
204. DG, Go nyams kyis.
205. DNg, PTT pa.
206. DG, Co, rGyud kun [omit sa] bcu gsum pa’o |.
207. DNg ’dzin par.
208. PTT ’grig pa lhar snang; DG, Co grig pa.
209. DNg ’tshang rgya gar ’khor tshom bu gcig dang bcas nas ’tshang rgya |; DG, Co ’tshang rgya kar ’khor tshom bu cig dang bcas te ’tshang rgya’o |; rGyud kun ’tshang rgya khar ’khor tshom bu gcig dang bcas nas ’tshang rgya; Bo dong as printed but with ’tshangs rgya khar.
210. PTT rdo rje’i theg pa ni.
211. DNg rtogs pas brtags kyang rtogs med rtogs; PTT, DG, Co rtogs pas brtags pas rtog med rtogs; Bo dong rtogs pas rtags dang rtog med rtogs.
212. DNg dang.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Три брата Потоба, Чен-нга и Пучунгва во время своих странствий побывали во всех уголках Центрального Тибета, привлекли на свою сторону тысячи монахов и возвысили кадампу до положения истинно монашеской институции и активно развивающейся традиции. Однако, при этом они совершенно не следили за судьбой Ретренга. Считается, что перед своей грандиозной серией лекционных туров Потоба провел три года в качестве настоятеля Ретренга, однако, после его убытия монастырь начал утрачивать свои лидирующие позиции. В общей сложности можно отметить три последствия этого ослабления, оказавших заметное влияние на линии кадампы одиннадцатого-двенадцатого столетий. Во-первых, Сангпу Нейток занял доминирующее положение среди кадампинских центров, а Ретренг стал рассматриваться и администрироваться как вторичная структура анклава Сангпу3. Во-вторых, всем этим недавно привлеченным в кадампу монахам нужно было где-то располагаться, поэтому с последней четверти одиннадцатого и по конец двенадцатого столетия число кадампинских центров резко возросло (самым известным среди них является Нартанг, основанный в 1153 г.) с сопутствующим увеличением количества выдающихся наставников и учителей. Многие из них, подобно самому Атиша, выступали в качестве как тантрических, так и нетантрических наставников, поэтому центры кадампы предоставляли своим кандидатам возможность серьезного изучения тантр сармы, а также обучения по собственной учебной программе кадампы, опирающейся на сутры и шастры. И наконец, сильная интеллектуальная традиция, привнесенная в Сангпу Нгок-лоцавой, сделала его центром притяжения для монахов, склонных к буддийской интеллектуальной деятельности. Соответственно, те, кто в основном следовал кадампинской созерцательной системе очищения ума (blos byong) и связанной с ней литературе «Этапов пути», как правило, обучались в Ретренге и ассоциированных с ним ретритных центрах. И наоборот, те, кого интересовали передовые философские работы, чаще всего отправлялись в Сангпу или конкурирующие с ним центры в Лхасе или Пен-юле, поскольку это были те места, где преподавались недавно переведенные материалы, в особенности те, что поступали из Кашмира.
В этой связи для кадампы наиболее важным событием в области переводческой деятельности стало возвращение из Кашмира около 1100 г. Па-цапа Ньима-драка (1055-1142?). Деятельность Па-цапа, являвшегося современника Нгока Лодена Шерапа, оказала огромное влияние на буддийскую ученость двенадцатого столетия. До его прибытия мадхьямака преподавалась преимущественно через призму сватантрики, которая обязана своим происхождением Бхававивеке (около 700 г. н.э.) и являлась той школой, которую выбрал для себя Нгок. Тибетская учебная программа для этой школы состояла из «трех работ восточной сватантрики» (rang rgyud shar gsum), созданных авторами восьмого столетия: «Различение двух истин» (Satyadvayavibhanga) Джнянагарбхи, «Украшение срединного пути» (Madhyamakalankara) Шантаракшиты и «Свет срединного пути» (Madhyamakaloka) Камалашилы5. Учением этой школы в целом предполагалось, что логическая аргументация и суждения в определенной степени могут быть полезны для объяснения как относительных, так и абсолютных истин, при этом внутри самой школы существовали значительные разногласия по некоторым ключевым вопросам. В учебных храмах ньингмы, по всей видимости, также изучались эти три произведения восточной сватантрики, и даже сам Атиша, похоже, отдавал предпочтение данной школе, поскольку переводы мадхьямаки, которые он делал вместе с Нагцо, по большей части представляли именно эту точку зрения.
Несмотря на это, в длинной агиографии Атишы утверждается, что в большинстве мест восточной Индии предпочтение отдавалось более радикальной редукционистской школе прасангика, опирающейся на работы Чандракирти6. Живший примерно в те же самые времена, что и Бхававивека, Чандракирти утверждал в ряде текстов и комментариев к работам Нагарджуны, что последователи мадхьямаки не должны занимать какой-либо позиции в отношении абсолютной истины, тогда как для обычной истины достаточно общепринятых представлений о мире7. Па-цап многому научился у Сукшмаджаны (сына пандита Нгока Садджаны), когда жил в Кашмире между 1076/77 и 1100 годами, и все больше уделял внимания изучению творчества Чандракирти. Когда он вернулся с двумя своими кашмирскими пандитами в родной Пен-юл, поначалу у него были проблемы с поиском учеников. Однако, слухи о его достижениях привлекли внимание настоятеля Сангпу Шарвапы (1070–1141), который послал к нему нескольких своих учеников за новыми знаниями. Пац-ап на некоторое время перебрался в лхасский храм Рамоче, являющийся одним из старинных имперских храмов, и там завершил несколько своих переводов, сотрудничая с разными пандитами. Вероятно, он периодически посещал различные места как приглашенный преподаватель, при этом его постоянной резиденцией оставался Пен-юл, где примерно в 1130 г. он преподавал труды Нагарджуны Дусуму Кхьенпе, будущему первому Кармапе8.
Непосредственным конкурентом Па-цапа в Сангпу был один из самых незаурядных умов того периода, великий знаток эпистемологии и мадхьямаки Чапа Чокьи Сенге (1109–1169). Этим дисциплинам Чапа обучался у наставника Гьямарпы, который имел репутацию высокообразованного и строгого хранителя буддийских монашеских правил10. Очевидно, он распознал способности Чапы, когда тот был еще совсем молод, поэтому в возрасте двадцати лет Чапа уже обучал таких выдающихся учеников, как Кармапа Дусум Кхьенпа и Пагмо Друпа11. К сожалению, его поведение привело к возникновению некоторых проблем, поскольку сообщается, что тогда же он совершил какой-то проступок, на искупление которого должно было уйти восемь лет12. За таким началом последовало вполне логичное продолжение, и вскоре Чапа стал известен как ниспровергатель общепризнанных мнений, принадлежавших не только индийцам, но даже и другим тибетцам. Хотя Чапа поддерживал несколько неортодоксальную трактовку процесса восприятия в соответствии со старой абхидхармой вайбхашиков, он внес большой теоретический вклад в область философских определений, не получивших достаточного освещения в индийской учености. Чапа пытался разобраться в конкурирующих идеях и формализовал нечеткие предположения, выдвинутые ранними индийскими мыслителями. Его исследования мадхьямаки проводились в рамках продвижения идеологии сватантрики Бхававивеки, поэтому он с особым пренебрежением относился к новой литературе прасангики, привезенной Па-цабом из Кашмира. Из-за несговорчивого характера Чапы его идеи позже были приведены Сакья Пандитой в качестве выдающегося примера тибетского доктринального новаторства, что стало смертельным ударом по творческому наследию Чапы13. Что еще хуже, собственные ученики Чапы впоследствии, по-видимому, отказались от поддержки позиции своего наставника в части следования идеям сватантрика-мадхьямаки, и все до одного перешли на сторону более радикальной прасангики14. В заключении хотелось бы отметить, что любое доктринальное нововведение, которое в действительности тайком продвигалось тибетцами, всегда выдавалось за замысел некого индийского наставника, поскольку неоконсерваторам достаточно успешно удавалось осуждать за неортодоксальность любые идеи, считавшиеся новыми или тибетскими.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Возможно, что из всех известных нам учеников Гампопы усмирить ламу Жанга наилучшим образам мог только Кармапа I Дусум Кхьенпа (1110-1193). Довольно странным выглядит тот факт, что Дусум Кхьенпа, обладая безукоризненной репутацией и, по всей видимости, высочайшим авторитетом среди своих современников, являлся одним из самых загадочных наставников кагьюпы двенадцатого столетия18. Он родился в восточном Тибете (Кхаме) в неаристократической семье и отправился в У в возрасте восемнадцати лет, точно так же, как это ранее сделал Бари-лоцава, и как в то же самое время поступили Пагмо Друпа и Дрикунг Джиктен Гонпо, а позже и ряд других известных личностей. Дусум Кхьенпа и Пагмо Друпа встретились в Толунге, где они оба обучались у Гьямарпы и его необыкновенно одаренного ученика Чапы Чокьи Сенге. Затем Кармапа отправился в Пен-юл, чтобы поработать там с Па-цап-лоцавой, ярым поборником прасангики двенадцатого столетия. Здесь он пять лет трудился над текстами и освоением медитаций кадампы, а затем приступил к изучению эзотерических линий передачи. Не вызывает сомнений, что Дусум Кхьенпа был хорошо знаком с основными предметами эзотерической программы того времени: системой Аро Великого совершенства, мандалами Хеваджры, Cамвары и Махамайи, а также ламдре. В 1139 году он решил отправиться на поиски Гампопы, однако, первым встретил своего племянника и будущего преемника юного Дакпо Гомцула, который передал Дусуму Кхьенпе ряд учений.
Когда он, наконец, встретил Гампопу, то тот даровал ему некоторые учения. Однако, затем великий наставник мудро решил, что его новому ученику прежде всего необходимо практиковать, и поэтому до самой своей смерти в 1153 году Гампопа, судя по всему, отправлял Дусума Кхьенпу медитировать в различные места по всей территории южного Тибета и даже за его пределы. Он провел некоторое время в Зангри, где жила наставница чо Мачик Лабдрон, потом вернулся на три года суровой практики в Дакпо, затем направился в Олкху, а оттуда в Цанг на обучение к последователям Милы Репы. В конце концов Дусум Кхьенпа был отправлен в южные низины региона Мон – древней территории, естественной границей которой являются реки Ньямджанг и ее приток Таванг и которая ныне разделена между современными Тибетом, Аруначал-Прадешем и Бутаном*. Дусум Кьенпа добился благосклонности царя Мона, и ему было дозволено беспрепятственно перемещаться туда и обратно через границу между Тибетом и Моном. Он практиковал медитацию в местах, где водились тигры, которые до смерти пугали благонравного монаха. После смерти Гампопы Дусум Кхьенпа до конца своей жизни ежегодно отмечал дату нирваны своего наставника. Он установил тесные связи между своими монастырями и родственными центрами Дакпо Кагьюпы, где подобной его деятельностью занимались другие ученики Гампопы. Кроме того, Дусум Кхьенпа основал монастыри в расположенном в Центральном Тибете Цурпу, а также в Кхаме, где он пробыл более десяти лет. В конце концов он вернулся в Центральный Тибет, чтобы поддерживать свою обширную сеть учеников и способствовать устранению различных угроз общественному порядку, подобных тем, что исходили от ламы Жанга.
———————————————————
*Сама территория разделена только между двумя первыми (см. Namka Chu). В Бутане, граница которого расположена несколько южнее, проживает небольшое количество коренных жителей этих мест, народа монпа – прим. shus.
———————————————————
Товарищем Дусума Кхьенпы, вместе с которым он изучал доктрины кадампы и осваивал медитации кагьюпы, был Пагмо Друпа (1110-70). Он родился в семье членов аристократического клана Ва Ве-на (один из вариантов названия клана Ба) в восточно-тибетской области Дрилунг Мешо19. В молодости он потерял родителей и начал свою духовную карьеру, путешествуя с ламами и получая от них учения. В возрасте восемнадцати лет он отправился в У-Цанг, где ему предстояло провести большую часть оставшейся жизни. Его ранняя деятельность в основном была посвящена изучению кадампы и родственных ей систем, а его первая встреча с Дусумом Кхьенпо произошла в то время, когда они оба были учениками Гьямарпы и Чапы в Толунге. Пагмо Друпа принял полное монашеское посвящение в возрасте двадцати восьми лет (1138), после чего решил остаться в Центральном Тибете. При этом в какой-то момент он даже советовал Дусуму Кхьенпе не возвращаться в Кхам, поскольку опасался за жизнь своего друга20. Изучая избранные эзотерические традиции, Пагмо Другпа познакомился с Кхампой Асенгом, который был одним из первых учеников Сачена21. Когда ему было уже за тридцать, Пагмо Друга какое-то время находился в Сакье, где получил от Сачена учение ламдре и соответствующие передачи. Вероятно, это было в 1140-х годах, хотя мы точно не знаем, сколько времени он провел в Сакье, причем вполне очевидно, что после достижения им тридцатилетия он также обучался и у других учителей22. В 1151 году в возрасте сорока одного года он отправился к Гампопе и получил от престарелого учителя наставления в Махамудре. Согласно источникам, практикуя этот путь, он испытал глубокие медитативные переживания23. После смерти своего наставника в 1153 году Пагмо Другпа начал медитировать в дикой местности, со временем соорудив свою знаменитую травяную хижину для медитации в местности, известной под названием Денсатил, где он пребывал с 1158 года до самой своей смерти в 1170 году. Следует отметить, что все «восемь малых» традиций кагьюпы представляют собой ответвления от основы, заложенной Пагмо Друпой.
Постоянно отправляя своих лучших монахов для продолжения медитации в отдаленные сельские местности и на небуддийские территории, кагьюпа по факту превращала их в своих миссионеров. Эта практика была для них одним из важнейших способов распространения своей линии передачи и охвата своим влиянием отдаленных регионов. Когда такие харизматичные личности, как Дусум Кхьенпа или Пагмо Другпа, появлялись на территориях, до этого не посещавшихся монахами сармы, жители сельской местности, прознав о странном святом с завораживающим взглядом, стекались к его обители, чтобы посмотреть, сможет ли этот святой применить свои духовные силы, чтобы помочь им разыскать их крупнорогатый скот или вылечить их детей от болезней. Со временем благодаря тысячам проявлений духовных способностей их религиозное превосходство стало незыблемым, вслед за чем слава медитаторов кагьюпы, а в особенности трех учеников Гампопы: Дусума Кхьенпы, Баромпы и Пагмо Другпы, распространилась и на тангутское государство. Сами тангуты уделяли большое внимание буддизму еще с середины одиннадцатого столетия. Тангутом был и великий ученый Цами-лоцава Сангье-драк, который в начале двенадцатого века способствовал распространению в Тибете системы Калачакры, а также активно продвигал ритуалы Махакалы24. Ученик Цами Га-лоцава пользовался высоким авторитетом у учеников Гампопы, так что к первой половине этого столетия кагьюпа уже установила особые отношения с тангутами25.
Поскольку тангуты были глубоко вовлечены в дела тибетского буддизма на протяжении всего двенадцатого столетия и вплоть до гибели своего государства в 1227 году от рук монголов, то имя Цами (которое носили и другие тангутские ученые), вероятнее всего, является тибетским переложением тангутского этнонима «ся» (xia) с добавлением бхотского персонализирующего аффикса «ми» (т.е. человек из народа ся)26. Индийский пандит Джаянанда после своего пребывания в Центральном Тибете, где он дискутировал с Чапой Чокьи Сенге, был с почетом принят тангутами где-то между 1160-ми и 1180-ми годами и назначен императором Ся Жэньцзуном (1139–1193) «государственным наставником» (guo shi)27. Примерно в это же время был приглашен и Дусум Кхьенпа, вероятно, так же Ся Жэньцзуном, но вместо себя Кармапа прислал своего ученика Цангпопу Кончока Сенге (ум. 1218). По всей видимости, Цангпопа был первым тибетцем, получившим титул «императорского наставника» (di shi), который впоследствии был присвоен и Пакпе в период правления Хубилай-хана28.
После Цангпопы императорским наставником стал другой кагьюпинский учитель, Ти-шри Сангье Речен (1164/65–1236). Ти-шри обучался в линиях передачи баромпы и целпы и, по всей видимости, проживал то в столице тангутов, то в Цел Гунгтанге. В его случае разница с Цангпопой заключалась в том, что, как и Цами-лоцава, Ти-шри, будучи кагьюпинцем по образованию, по национальности являлся тангутом. Все это означало, что располагавшаяся в У школа кагьюпа была достаточно хорошо организована в части установления международных отношений, и именно по этой причине кагьюпинские традиции Кармапы, Пагмо Друпы и Дригунгпы смогли стать в последующем столетии соперниками сакьи в борьбе за внимание монголов. Кроме того, это также означало, что кагьюпа стал очень богатой и необычайно могущественной структурой, намного превзойдя мелочные военные устремления ламы Жанга. Со временем сообщество кагьюпы еще больше расширило свое участие в делах Восточной Азии, включив в сферу своего влияния китайские династии Мин и Цин.
Если учесть все эти факторы, то становится понятным причина возникновения напряженных отношений между кагьюпой и неоконсерваторами в конце двенадцатого – начале тринадцатого веков. По мнению последних идиосинкразические доктрины Гампопы несли в себе давние китайские взгляды еще восьмого столетия, а новый интерес к Восточной Азии казался им ядовитой комбинацией ереси, личных амбиций, устремлений к политической власти и неистовой алчности. Кроме того, они считали, что подтачивание кагьюпой буддийских основ ортодоксальных воззрений (lta ba) и правильной медитации (sgom pa) является предвестникам деградации традиционных норм поведения (spyod pa). Тот факт, что эта довольно пессимистическая оценка лам У и Кхама в основном принадлежала наставникам Западного Тибета и провинции Цанг (или теми, кто имел с ними прочные связи), как правило, добавляла к конфессиональной напряженности еще и географический аспект.
Со временем отдельные наставники кагьюпы взяли на вооружение некоторые идеи неоконсерваторов. Основатель Дригунгпы Дригунг Джиктен Гонпо и его племянник и преемник Он Шерап Джунгне (1187–1217), принадлежавшие к ветви О-трон клана Кьюра, где-то в начала тринадцатого столетия создали учение о «едином намерении» (dgongs gcig), опиравшееся на сочетание синтетического философского видения и неоконсервативных комментариев29. В своих работах они не только подвергали критике некоторые из тех же практик, что позже порицались Сакья Пандитой, но и предпринимали попытку сгладить отдельные различия между учениями сакьяпы, с одной стороны, и Махамудрой, с другой. В какой-то мере это можно понять, поскольку оба эти направления следовали доктрине «тройственной дисциплины» (trisamvara), и оба считали йогические системы сармы вершиной учения Будды. Как и линия Кармапы, Дригунгпа также стала объектом внимания некоторых тангутов30. К сожалению, как раз именно из-за своего сходства эти две системы сармы оказались в одной и той же религиозной нише, в результате чего различные линии кагьюпы и сакьяпы стали скорее конкурентами, нежели партнерами. Не вызывает сомнений, что в тринадцатом столетии эти факторы оказали влияние на успех сакьяпинцев Цанга, а в четырнадцатом способствовали возрождению центрально-тибетской кагьюпы после победы Пагмо Друпы Джангчуба Гьелцена в 1358 году и свержения им гегемонии сакьяпы.
|
|