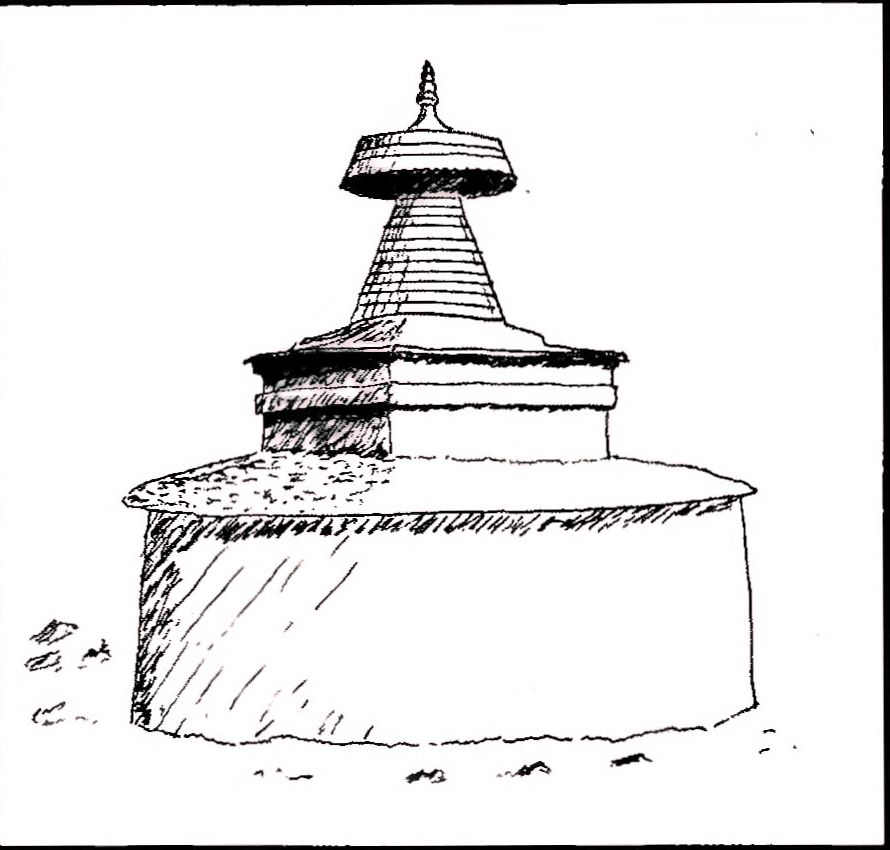····················································································································· |
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В процессе изучения работ Сонама Цемо мы начинаем осознавать, насколько важным для него было образование, воспринимавшееся им как некая самостоятельная ценность, а также отмечаем его стремление к достижению в своей работе полного совершенства. Это ощущение особой значимости образовательной системы было материализовано им в 1167 в виде одного из самых известных его произведений, носящего название «Дверь для входа в Дхарму» (Chos la ‘jug pa’i sgo)149. Данная работа разделена на несколько невзаимосвязанных между собой разделов и посвящена разъяснению фундаментальных аксиом буддийского пути с особым акцентом на идеи агиографии и исторического нарратива. Текст начинается с рассмотрения проблем, связанных с определением и пониманием термина «Дхарма». В следующем разделе исследуются вопросы мотивации, очищения и встречи с добронравным духовным другом, оказывающим помощь в движении по пути. Затем в тексте обсуждается буддийский путь, поскольку именно он является средством вхождения в Дхарму. Следуя в этом направлении, Сонама Цемо переходит к основной части текста, которая представляет собой пересказ историй о предыдущих перерождениях Будды, его явленьи в этот мир и его двенадцати деяниях. Далее он рассматривает возражения, основанные на разнородных источниках, а затем представляет свой собственный взгляд на природу Будды и повествует о его кремации, распределении телесных реликвий и трех собраниях (или советах), посвященных сохранению Дхармы. Затем автор кратко излагает линию преемственности индийских ученых, после чего переходит к описанию распространения буддизма в Тибете, которое включает в себя генеалогию тибетских царей. Все это Сонам Цемо завершает хронологией, содержащей некоторые даты, которые очень важны для реконструкции периода, предшествовавшего возрождению, т.е. с середины девятого по конец десятого столетий. В заключение Сонам Цемо выражает свою тревогу о будущем буддистской религии, поскольку тех, кто произносит слова Будды, становится все меньше, и большинство других людей, похоже, злятся на них. В Магадхе растет число противников Дхармы; в Тибете распространяются ложные учения; а злонамеренные правители приграничных территорий разрушают великие монастыри Индии. Видя все это, Сонам Цемо создал свое произведение, посвященное сущностным основам Буддхадхармы, чтобы те немногие, кто почитает данное учение, могли ответить новыми усилиями на угрозы, распространяющиеся по обе стороны от Гималаев.
Помимо этого, Сонам Цемо написал небольшую работу, посвященную тому, как тибетцы произносят буквы своего языка и слова мантр, в которой призывал их выработать единое произношение150. Его список говоров различных территорий, судя по всему, является самым ранним описанием тибетских диалектов и используется в качестве источника в исследованиях исторической фонологии тибетского языка151. Здесь же у него присутствует и описание индийского произношения, каким по его данным оно было в середине двенадцатого столетия, которое пока еще ждет своей оценки исследователями индийской фонологии. Нет сомнений в том, что подобным образом действовал и Дракпа Гьелцен, использовавший грамматику тибетского языка Смрити для обучения основам правильного произношения, орфографии и литературной композиции, поскольку известен текст, претендующий на право называться его учительскими заметками152. Используя свои знания, приобретенные им в процессе изучения работ Чапы, Сонам Цемо также написал комментарий к «Бодхичарьяватаре». Данное произведение сначала задумывалось как комментарий к ее особо значимой девятой главе, но в конечном счете было расширено, охватывая все содержимое этого текста. Оно до сих пор используется учителями сакьяпы в качестве предпочтительного комментария в процессе преподавания ими своим подопечным этой элегантной махаянской работы153. Наконец, следует отметить, что оба брата составляли вводные ритуальные тексты для тех, кто еще только осваивался в монашеской среде, чтобы они могли ознакомиться с архивом нормативных молитв и правилами ритуального поведения в залах Сакьи154.
Усилия этих двух высокообразованных ученых, предпринимаемые ими во благо только вступающих на буддийский путь неофитов, не остались незамеченными их потомками, хотя это чаще всего это относится к тем, кто пишет вводные материалы. Аме-шеп утверждал, что Сонам Цемо был настолько увлечен педагогикой, что эти и другие его работы были «ни с чем не сравнимы» (sngon med) в том, что касалось помощи начинающим ученым155. Чтобы понять смысл этой похвалы, нам следует знать, что на нормативном тибетском жаргоне «ни с чем не сравнимый» является уничижительным термином. Тем не менее, Аме-шеп заявлял, что в случае с Сонамом Цемо это выражение означает достойное восхищения движение вперед, а не некое «новаторство», являющееся просто семантическим эквивалентом неумелости или преднамеренного извращения традиции. Аналогичные оценки Аме-шеп давал и Дракпе Гьелцену: каким бы сложным ни был текст, он всегда писал его так, чтобы его ученики могли его легко понять даже в том случае, когда он зачитывался вслух впервые156.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
К началу тринадцатого столетия тибетский буддизм стал одной из важнейших составляющих религиозной жизни Азии. Преодолев этап некоторой социальной нестабильности, неоконсервативный курс Сакья Пандиты, Дрикунга Джиктена Гонпо и Чагло Чодже-пела привел к созданию прочной социальной и ритуальной основы, ставшей надежной опорой основных институтов сармы и ключевым аспектом их саморекламы. По мере принятия на вооружение базовых принципов, изложенных в индийской литературе, тибетцы обнаружили, что их институты также должны оцениваться по этим стандартам. Поэтому «монастыри», которые порой основывались и контролировались немонахами (в кадампе таким был Дромтон, в кагьюпе – Марпа, в сакье – Кончок Гьялпо), все чаще попадали под влияние Винаи и авторитета индийских моделей благопристойности. Когда система давала сбой, как в случае с безумными наставниками, навроде ламы Жанга, или махинациями монахов Восточной Винаи, тибетцы принимали решения по ситуации, которые, однако, не устраняли структурные проблемы.
С момента сооружения Сакьи в 1073 году и до кончины Дракпы Гьелцена в 1216 году прошло лишь неполных полтора столетия. Однако, за это время тибетская модель институциональной безопасности смогла доказать свою состоятельность, во многом благодаря тому, что каждое поколение выполняло поставленные перед ним задачи с обостренным чувством времени и большой долей везения. Счастливый случай даровал монастырю Сакья как превосходное руководство, так и необычайную удачу, причем важнейшую роль в обоих этих событиях сыграли два великих литератора из числа сыновей Сачена. К сожалению, порой они допускали некоторую научную неточность, т.к. известно, что Бутон Ринчендруп, писавший более чем через столетие после выдающейся деятельности Сонама Цемо и Дракпы Гьелцена, нашел у них много ошибок в цитатах и ссылках на источники из буддистских архивов157. Однако, надо отдать ему должное и отметить, что Бутон обращался с этими ошибками довольно тактично и деликатно, что, вероятно, было неизбежным при работе с сочинениями таких кумиров религиозной системы. Обсуждение эзотерических обетов Дракпой Гьелценом также вызвало немалый переполох, поскольку он утверждал, что все три обета: шраваки, бодхисатвы и видьядхары имеют единую сущность, что было во многом подобно идее раннего буддизма, согласно которой вся Дхарма имеет единый вкус – вкус освобождения158. Знаменитый знаток Калачакры Вибхутичандра счел необходимым опровергнуть позицию Дракпы Гьелцена, хотя это и не уменьшило уважения к данному тексту, который и до сих пор считается эталонным. Тем не менее, обсуждение таких в целом незначительных вопросов лишь наглядно демонстрирует тот факт, что деятельность братьев по продвижению программы «доместикации» ламдре была чрезвычайно успешной. Им удалось подготовить почву для одного из важнейших событий в истории Центральной Азии: отказа монголов от вооруженного захвата Тибета и передачи права управления им сакьяпинскому монаху.
Аме-шеп рассказывает забавную историю о том, как однажды ночью, когда Дракпа Гьелцен находился в пещере для медитации, ему во сне явились божества Тибета и Монголии. Они выпили вино, которое в качестве подношения было налито в череп, помещенный на эзотерический алтарь Дракпы Гьелцена, сильно опьянели, после чего танцевали и пели всю ночь напролет, болтая на разных языках. Аме-шеп утверждает, что таким образом сакьяпа установила особые отношения с монгольским государством, ибо в духовном плане данная связь была предварена шумной вечеринкой с распитием эзотерического нектара159. Такие эпизоды из литературных повествований выглядят просто очаровательно, однако, они весьма далеки от исторической реальности. Ведь клану Кхон потребовалось более века упорного труда, чтобы адаптировать антиномические системы индийского эзотерического буддизма к местным социальным условиям и привести их в соответствие с аристократическими ценностями, являвшимися опорой благородных семейств У-Цанга в одиннадцатом и двенадцатом столетиях. Это потребовало от них вовлечения в эту деятельность целой мандалы выдающихся личностей, которые были готовы оставаться в тени и скрывать свой вклад ради того, чтобы звезда клана Кхон смогла засиять еще ярче. Десятки деятелей, трудившихся во славу Кхона, такие как Бари-лоцава, геше Ньен Пул-джунгва геше и Ньяк Ванг-гьел (и это лишь малая часть из них), делали это ради того, чтобы внести свой вклад в создании новой институции, значившей гораздо больше, чем каждый из них в отдельности, поскольку они, должно быть, хорошо представляли к чему ведет институциональная нестабильность Центрального Тибета. Благодаря труду этой мандалы доверенных деятелей Кхона, «доместикация» текста ламдре переместила его в гораздо более обширную сферу литературных и духовных устремлений, даже при том, что он всегда был на особом положении в религиозной жизни Сакьи и различных аффилированных с нею структур. Достижения всех этих людей являются ярким примером многогранных возможностей средневековой институциональной культуры индийского буддизма, ее адаптивности и способности обслуживать как религиозные, так и политические потребности.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
1. gNas bstod kyi nyams dbyangs, p. 348.1.3-6. The very unpolished nature of this “song,” may be noted, especially as the syllables vary idiosyncratically between seven and nine. However, the marked tendency for Sa-skyas to question pilgrimage practices began at least with Crags-pa rgyal-mtshan, although it reached its full value later; see Huber 1990 for some of the polemics engaged in by Sa-Pan and others.
2. Noted by Martin 1996c, p. 188, n. 65, and 1996a, pp. 23-24. The prevalence of laity throughout the early Buddhist traditions in Tibet dilutes the premise of Martin 1996a, as he seems to acknowledge.
3. Kapstein 2000, pp. 141-62, examined this issue in the Ma,:zi bka’ ‘bum and other texts.
4. Good observations on the nature of the sBa bzhed chronicle are found in Kapstein 2000, pp. 23-50.
5. The basic record is in the Rwa lo tsf ba’i rnam thar, pp. 283-84, and is summarized in Deb ther sngon po, vol. 1, p. 458, Blue Annals, vol. 1, p. 378. dGos-lo places the date of me pho khyi on the event, probably from reading the age of Rwa-lo in the hagiography as eighty (he was born in 1016). This apparently is why Martin 200 1a, p. 48, proposed this date. I have less confidence in the Deb ther sngon po early chronologies, however. Martin 2001a maintains that the outlying temples and the wall around the compound were damaged by the sMad ‘dul monks.
6. ‘Bri gung ehos rje ‘jig rten mgon po bka’ ‘bum, vol. 1, p. 50.1.
7. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 448, 8o r; bKa’ ‘ehems ka khol ma, p. 287; mNyam med sgam po pa i rnam thar, p. 167; Lho rong ehos ‘byung, pp. 178- 79. I am inferring that this is how the ‘Bring-tsho destroyed Atisa’s residence; see rNam thar yong grags, p. 177.
8. Except as noted, the following is based on Martin 1992 and 20ora, as well as Jackson 1994b, pp. 58- 72.
9. On part of the mChims clan becoming Zhang, see Deb ther sngon po, vol. 1, p. 125-1; Blue A nn’als vol. 1, p. 95. For an obscure discussion of other Zhang clans, see rGya bod yig tshang chen mo, pp. 236-37.
10. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 807-9.
11. Deb ther dmar po, p. 127.22-23. For these two institutions, see Richardson 1998, p. 306.
12. mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, p. 808.11.
13. Dus gsum mkhyen pa’i bk.a’ ‘bum, p. 78.1, indicates that the Karmapa mediated Lama Zhang’s dispute with a Dag-ra-ba (?).
14. Martin 1996c, pp. 185-86, and 1996a, passim.
15. Nyang ral rnam thar, pp. 90-92.
16. mKhas pa i dga’ ston, vol. 1, p. 808.18-19.
17. Astasahasrika-prajnaiparamita-sutra, pp. 191-96.
18. The following is based on his hagiography by rGa-lo m the Dus gsum mkhyen pa’i bka’ ‘bum, vol. 1, pp. 47-128. This work is closely followed by all the standard histories.
19. Phag-mo gru-pa’s hagiographies include the Phag mo gru pa’i rnam thar rin po che’i phreng ba, dKar brgyud gser ‘phreng, pp. 387- 435; sTag lung chos ‘byung, pp. 171-87; Lho rong chos ‘byung, pp. 306-27; rLangs kyi po ti bse ru rgyas pa, p. 103; Deb ther sngon po, vol. r, pp. 651- 66; Blue Annals, vol. 1, pp. 552-65; mKhas pa’i dga’ ston, vol. 1, pp. 8II-19; and ‘Brug pa’i chos ‘byung,pp. 401-8. rGya bod yig tshang chen mo, pp. 534- 35, provides an anomalous chronology of Phag-mo gru- pa, having him born in the fire-tiger year (1086?) rather than the iron-tiger year (1110) and traveling to Central Tibet at the age of 24 (1110?) rather than at the age of eighteen in 1128. Jackson 1990, pp. 39- 45, and 1994b, pp. 39-42, 60-61, 77, contributed to our understanding of this important figure.
20. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 655, an d Blue A n nals, vol. 1, p. 555, h as him ordained at 25 (1135), but this is contradicted by the dKar brgyud gser phreng, p. 403, and the Lho rong chos ‘byung, p. 307.
21. Phag mo gru pa’i rnam thar rin po che i phreng ba, p. 12.I.
22. Lam ‘bras byung tshul , p. u 8.1.1, has Phag-mo gru-p a living at Sa- skya for twelve years, an improbable number; this is eviden tly followed by A- mes-zhabs, gDung rabs ch en mo, p. 48.
23. dKar brgyud gser phreng, pp. 407-11, emphasizes both Phag-mo gm-pa’s faith and the experiences he receives. As Jackson 1994b, p. 60, notes, the Zhang writings on this period have a peculiar chronology.
24. Sperling 1994.
25. This is rGwa-lo gZhon- nu-dpal (1110/14- 1198/1202). For this figure, see Sperling 1994 and Blue Annals, vol. 2, pp. 469, 475, 555. W e note that th ere was a later rGwa-lo rNam-rgyal rdo-rje (1203-82), who was the hagiographer of Dusgsum mkhyen-pa and was apparently considered the reincarnation of the earlier disciple of rTsa-mi.
26. On this affix, see Kychanov 1978, p. 2rn. This article treats the special position of Tibetans among the Tangut.
27. Dunnall 1992, pp. 94-96; van der Kuijp 1993.
28. On this issue, see Sperling 1987 and Dunnel 1992.
29. Martin 2001b, pp. 148-60, provides an excellent introduction to this material. The composition of the verses is discussed in Dam chos dgongs pa gcig pa’i yig cha, pp. 156-58.
30. ‘Bri gung chos rje Jig rten mgon po bk.a’ ‘b um, p. 166; ‘Brig gung gdan rahs gser phreng, p. 83.
31. bLa ma sa skya pa chen po’i rnam thar, p. 87.2.5-3.1.
32. gDung rabs chen mo, p. 53.
33. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.5.
34. Schoening 1990, p. 14.
35. On Rin-chen bZ ang- po’s mask, see Vitali 2001.
36. bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 52; rGya bod yig tshang chen mo, p. 318; gDung rabs chen mo, p. 31.2-9.
37. The disciples are mentioned in Zhib mo rdo rje, Stearns 2001, pp. 149-51; bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, pp. 66-70; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, pp. 128-34; Lam ‘bras khog phub, pp. 188-90.
38. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 133; a letter is mentioned in the bLa ma brgyud pa’i rnam par thar pa ngo mtshar snang ba, p. 68. This is probably the dGa’ ston la spring yig, SKB III.272.3.6-74.3.2, also contained in the fifteenth-century Pusti dmar chung, pp. 41-49: rJe btsun gyis dga’ ston rdo rje grags la gdams pa.
39. For a different perspective of Phag-mo gru-pa, see Stearns 2001, pp. 26-31.
40. dKar brgyud gser phreng, pp. 407-11, emphasizes both Phag-mo gru-pa’s faith and the experiences he receives.
41. dKar brgyud gser phreng, pp. 414-15; Lho rong chos ‘byung, p. 314.
42. dKar brgyudgser phreng, p. 414-15; compare Lho rong chos ‘byung, p. 314.Jackson 1990, pp. 39-47, discusses the unfortunate proposition (based on Roerich’s interpretation of Blue Annals, 1949, vol. r, p. 559) that Sa-chen and Phag-mo gru-pa had a falling-out, but Jackson rejects this interpretation on good textual grounds.
43. Lam ‘bras byung tshul, p. 1I 8.2.2. See chap. 8 for questions about the sGatheng-ma.
44. This is in a supplement to the homage to Sa-chen by Zhu-byas, gDung rahs chen mo, pp. 49-51, which A-mes-zhabs follows.
45. gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 130.
46. gDung rahs chen mo, p. 62.
47. Jackson 1987, vol. 2, pp. 344-47, presents Sa-skya Pacyq.ita’s summary of the thirteenth-century Tibetan understanding of the five Buddhist and five non-Buddhist areas of knowledge: Buddhist areas constitute the philosophical systems of the Vaibha ika, Sautrantika, Vijnapti[-matrata-vada], and the Nihsvabhavavada (Madhyamaka); non-Buddhist systems are *Vaidaka (Mimamsa), Samkhya, Aulukya (Vaisesika), Ksapanaka (Jaina), and Carvaka. The areas of knowledge listed in the Mahavyutpatti, nos. 1554- 59, 4953-71, do not include any specifically Buddhist studies and collectively demonstrate the changing nature of these rubrics.
48. gDung rabs chen mo, p. 63.
49. Lam ‘bras byung tshul, p. 120.1.4; gDung rabs chen mo, p. 63.
50. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.6.
51. For Phya-pa, see van der Kuijp 1978 and 1983, pp. 59-70.
52. sLob dpon Phya pa la bstod pa, p. 41.r.5. He evidently sent a copy to gSang-phu Ne’u-thog as an offering, p. 41.2.2. Phya-pa’s death date, offerings made on his behalf, and the areas of his intellectual emphasis are mentioned in this panegyric as well.
53. This was maintained in the episodes in which Phag-mo gru-pa was favored by Sa-chen, who liked the way he answered questions put to him; for example, Deb ther sngon po, vol. 1, p. 656; Blue Annals, vol. 2, p. 556.
54. bDag med ma’i dbang gi tho yig, p. 404.3.2-6. This short work is mentioned in his rGya sgom tshul khrims grags la spring ba of 1165, p. 39.3.2-3.
55. brGyud pa dang bcas pa la gsol ba ‘debs pa, p. 39.r.5.
56. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba; p. 39, passim, is very difficult, with very obscure twelfth-century words and honorific usages.
57. sLob dpon Phya pa la bstod pa, p. 40.2.2-5, is especially significant.
58. This emphasis on Sa-skya Pandita’s position is found, for example, in Jackson 1983, p. 7. A-mes-zhabs notes the importance of prosody in bSod-nams rtsemo’s compositions; gDung rabs chen mo, p. 66.
59. gDung rabs chen mo, p. 64: ‘dzam bu gling pa bstan pa’i srog shing chen po.
60. gD ung rabs chen mo, p. 64.
6r. Sam pu ta’i ti ka gnad kyi gsal byed, p. 189.35. .
62. dPal kye rdo rje’i sgrub thabs mtsho skyes kyi ti ka, p. 131.6.
63. The Yig ge’i bklag thabs byis pa bde blag tu ‘jug pa is discussed late r. Punyagra is found in the colophon to his Dang po’i las can gyi bya ba i rim pa dang lam rim bgrod t sh ul, p. 147.r.6; Dveshavajra is found in dPal kye rdo rje rtsa ba’i rgyud brtag pa gnyis pa’i bsdus don, p. 176.r.5.
64. gDung rabs chen mo, pp. 66- 67.
65. bL a ma rje btsun chen po’i rnam thar, SKB V.143.1.1- 154.4.6. The other essential sources are gDung rabs chen mo, pp. 69-85, and his dream record in rJe btsun pa’i mnal lam.
66. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, pp. 144.1.2, 144.1.6 , 144.2.3, 144-4-4, 145.1.2.
67. rJe btsun pa’i mnal lam. The SKB editor includes a note ( V.x) that Ngor-chen claims the letter was dictated by Grags- pa rgyal-mt shan to mKhas-pa sbal-st on at an uncertain date, and this also is indicated in the colophon to the text as contained in LL I.64.1: rje btsun pa’i mnal lam sbal ston seng ge rgyal mtshan gyis bris so j.
68. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 144.2.4- 3.2; Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig, p. 104.2.6, includes the death date of his youngest brother, dPal-chen ‘od – po (1150-1203).
69. bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, p. 143.2.2. Here nagaraja (klu’i rgyal po) would be understood as the king of elephants in India (since elephants and snakes are frequently seen as variations of the same entity), and I presume that Sa-skya Pandita would be using the term in this manner.
70. Deb ther sngon po, vol. 1, p. 661; Blue Annals, vol. 1, p. 561. He is listed as a disciple of Sa-chen and is considered an incarnation of Avalokitesvara in gDung rabs chen mo, p. 50. For his connection to the ‘Brom-lugs, see Lam ‘bras byung tshul, p. 114-4-2.
71. gDung rabs chen mo, p. 69.
72. rJe btsun pa”i mnal lam, p. 98.3.1-4.2; bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, p. 144,4,4-6.
73. For example, bLa ma rye btsun chen po’i rnam thar, pp. 143.4.1, 144.1.1-2; gDung rabs chen mo, p. 51, gives Par:i-chen Mi-nyag grags-rdor’s supplementary list of Sa-chens disciples, which includes two Zhang: Zhang-ston gSum-thog-pa and Zhang-ston sPe’i dmar-ba.
74. gDung rahs chen mo, p. 70; gDams ngag byung tshul gyi zin bris gsang chen bstan pa rgyas byed, p. 140.2, adds rCya-sgom tshul-khrims-grags to the list of Crags-pa rgyal- mtshan ‘s important teachers.
75. gDung rahs chen mo, p. 83, mentions some of the different reports.
76. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba, pp. 39.3.5 and 39-4-1-2.
77. bLa ma 1je btsun chen po’i rnam thar, p. 144.4.1; compare gDung rabs chen mo, p. 75, which numbers more than three hundred and places the hundred in the temple housing the remains of the great Sa-skya teachers (gong ma), a designation usually meaning Sa-chen, his two sons, Sa-pan and ‘Phags-pa, although it is not clear that their remains were housed together at this time.
78. Tshar chen rnam thar, p. 500; Ferrari 1958, p. 65.
79. rje btsun pa’i mnal lam, SKB IV.99.1.2-3.4.
80. bDe mchog kun tu spyod pa i rgyud kyi gsal byed, p. 55.2.4.
81. This may be inferred by Sa-skya Pandita’s observation at the end of the outline, rGyud sde spyi’i rnam gzhag dang rgyud kyi mngon par rtogs pa’i stong thun sa bead, SKB 111.81.2.4-5, that he was fourteen years old when he edited the summary. These works are also referenced in his brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan, p. 162.3.3.
82. rGyud sde spyi’i rnam gzhag dang rgyud kyi mngon par rtogs pa’i stong thun sa bead, SKB 111.81.2.4-5; rGyud kyi rgyal po chen po sam pu fa zhe bya ba dpal ldan sa skya pan(ii ta i mchan dang bcas pa, p. 668.4 (fol. 3oob4), indicates that Sa-par:i had heard from Crags-pa rgyal-mtshan the Samputa five times and the Samputa-tilaka two before he wrote the notes at age sixteen (1198).
83. For example, dPal ldan sa skya pandi ta chen po’i rnam par thar pa, pp. 434.1.4-436.3.2, provides a long list of topics and titles, most of which are attributed to Crags-pa rgyal-mtshan s teaching; pp. 436.1.3 and 436.3.1 specifically list rNying-ma esoteric works and the study of Sanskrit.
84. Jackson 1985, p. 23, acknowledges that the disparity between Sa-skya Pandita’s list of his uncle’s studies and the lists provided in the latter’s hagiographies in this case, concerning Madhyamaka studies-but refrains from concluding that we have the hagiographer’s art at its source.
85. Vidyadharikeli-srivajravarahi-sadhana, SKB IV.29.2.3, and see SKB IV.28.2.5- 30.4.4.
86. Stearns 1996, pp. 132-34, provides sources for this issue.
87. Dunnel 1996, p. 158.
88. Kychanov 1978, p. 208.
89. Bod rje lha btsan po’i gdung rahs tshig nyung don gsal, p. 84. The discussion of Vinaya is on pp. 82-85. Sakyasri becomes an important culture hero celebrated in the Myang chos ‘byung, pp. 68-73.
90. Phag mo las bcu’i gsal byed, SKB IV.28.2.3. For Mi-nyag as a national designation, see Stein 1951, 1966, p. 288.
91. Bya spyod rigs gsum spyi’i rig gtad kyi cho ga, SKB IV.255-1.3-5.
92. Nges brjod bla ma’i ‘khrul ‘khor bri thabs, SKB IV.45.4.5, requested by rTsami; A rga’i cho ga dang rah tu gnas pa don gsal, SKB IV.252.2.6, requested by sNgeston (? = sDe-ston) dKon-mchog-grags and mDo-smad gling- kha’i yul du skyes pa yi dGe-slong lDe-ston-pa; Kun rig gi cho ga gzhan phan ‘od zer, SKB IV.228.1.4, requested by Lle’u dge-slong Seng-ge-mgon; gZhan phan nyer mkho, SKB IV.237.2.4, requested by gTsang-kha (= Tsong-kha) snyid-ston dGe-slong Rinchen-grag s; rTsa ba’i ltung ha bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘khrul spong, SKB III.265.3.4, requested by bTsong-ga’i dGe-slong rDor-rje grags-mched; rTsa dbu ma’i khr id yig, SKB IV.42.4.2, requested by mDo-smad gyar-mo-thang gi ston-pa gZhon-nu; Chos spyod rin chen phreng ba, SKB IV.320.2.6, requested by rTsongkha’i cang-ston (?) dGe-slong brTson-‘grus-grags.
93. Byin rlabs tshar gsum khug pa, p. 95.3.3- 4.
94. bDud rtsi ‘khyil pa sg rub thabs las sbyor dang bcas pa, SKB IV.67.2.6. This is the only time that I have found he used this designation.
95. rGya sgom tshul khrims grags la spring ba, p. 39.4.3; Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig, p. ro 4.4.4- 5.
96. The section beginning rje btsun pa’i mnal lam, SKB IV.99.4.4, which mentions his looking toward sixty- nine years of age, I take to be a continua tion of the dream at sixty -six beginning on p. 99.4.1. This is how it is understood in gDung rahs chen mo, p. 81, whereas bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 145.3.2, seems to say that it happened two years before his death.
97. rJe btsun pa i mnal lam, p. 99.4.1-4. Compare LL I. 62.3- 5.
98. The term is used in describing the episode in the Lam ‘bras khog phub, p. 190.5; I know of no instan ce where it is used before this text.
99. bLa ma rje btsun chen po’i rnam thar, p. 145.1.2- 2.2.
100. gD ung rah chen mo, p. 79; gDams ngag byung tshul gyi zi n bris gsang chen bstan pa rgyas byed, pp. 139-40; Lam ‘bras khog phub, p. 190 .5.
101. bLa ma rje btsun chen po’i rna m thar, p. 145.1.2- 4, is almost identical with rJe btsun pa’i mnal lam, pp. 98.4.6- 99.1.2.
102. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 145.r.5-2.1. While all the preceding sources report the verse, none agrees, so Sa-skya Pandita’s version appears to be the most authentic.
103. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 146.2.2-3.
104. Personal communications from Ngor Thar-rtse zhabs-drung (1981) and Ngor Thar-rtse mkhan-po (1982). These works were the rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, the rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po ehe’i ljon shing, the hrTag gnyis rnam ‘grel dag ldan, and the sDom gsum rab dbye.
105. bLa ma rje btsun ehen po’i rnam thar, p. 144.1.4-5; see a similar expression in gDung rah chen mo, p. 74.
106. His Chas la ‘jug pa’i sgo is examined later; the Amoghapasa lineage materials are found in his ‘Phags pa don yod zhags pa’i lo rgyus.
107. Genealogical material is included in Chas la ‘jug pa’i sgo, pp. 343.r.2-46.2.4, of bSod-nams rtse-mo and in the dedicated Bod kyi rgyal rahs of Crags-pa rgyalmtshan. ‘Khan lineal matters occupy the bLa ma sa skya pa ehen po’i rnam thar, p. 84.r.4-2.2, and is the topic of Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig.
108. Besides the hagiography of his father, his major hagiographical contributions are Virupa’s in his bLa ma rgya gar ba’i lo rgyus; Kanha’s in his Nag po dkyil chog gi bshad sbyar, pp. 304.3.4-306.2.2; Ghantapada’s in the sLob dpon rdo r:je drii bu pa’i lo rgyus; and Luipa’s in the bDem mehog lu hi pa’i lugs kyi bla ma brgyud pa’i lo rgyus. Both his Notes on Vajrayana Systems (rDo rje ‘byung ba’i yig sn a ) and his Notes on Individual Sadhanas (sGrub thabs so so’i yig sna) also contain odd bits of curious stories.
109. rGya bod kyi sde pa’i gyes mdo.
110. Lam ‘bras ‘byung tshul, p. 120.r. Note that A-myes-zhabs presents the reading gseg shubs ma, indicating a standard book case (gsegs); Lam ‘bras khog phub, p. 275.
111. dPal sa skya pa’i man ngag gees btus pa rin po ehe ‘i phreng ba, SKB I.268.2.1-81.2.6. The numbering is uncertain, for some texts appear to work in conjunction with works before or after, and there is no dkar-chag to enumerate the works as intended.
112. For example, compare Sras don ma, pp. 95-99, and dPal sa skya pa’i man ngag gees btus pa rin po ehe’i phreng ba, SKB I.275.r.5-75.4.3.
113. Phyag rgya ehen po gees pa btus pa’i man ngag, SKB IV.302.3.1-1 r.4.5. The uncertainty of numbering for Sa-chen’s collection applies to Crags-pa rgyal-mtshan’s as well.
114. Ehrhard 2002, p. 40.
115. gLegs bam gyi dkar chags, p. 3-1.
116. For the relationship of Tibetan color terminology to English, see Nagano 1979, pp. 11-23.
117. gLegs bam gyi dkar-ehags, p. 8.r-2.
118. See his gSung ngag rin po ehe lam ‘bras bu dang bcas pa ngor lugs thun min slob bshad dang | thun mong tshogs bshad tha dad kyi smin grol yan fang dang beas pa’i brgyud yig gser gyi phreng ba byin zab ‘od brgya ‘bar ba, LL XX.417-511; compare Smith 2001, pp. 235-58.
119. Lam bras khog phub, pp. 301-3.
120. Stearns 2001, pp. 32-35, already summarized the Pod ser contents, but his discussion emphasizes elements different from mine, so they are complementary rather than redundant.
121. Lam-bras khog phub, p. 187.
122. Crags-pargyal-mtshan was apparently responsible for the following works (with their pages in the Pod ser): Kun gzhi rgyu rgyud (128-31); gDan stshogs kyi yi ge (131-35); Bum dbang gi ‘da’ ka ma’i skabs su ‘chi ltas | ‘khrul ‘khor | ‘chi bslu dang bcas pa (138-44); Lam dus kyi dbang rgyas ‘bring bsdus gsum (154-58); Tshad ma bzhi’i yi ge (158-61); gDams ngag drug gi yi ge (161-63); Crib ma khrus sel (167-69); Crib ma satstshas sel ba (169-70 ); Thig le bsrung ba (170-71); and the Jig rten pa’i lam gyi skabs su rlung gi sbyor ba bdun gyis lam khrid pa (173-83). The others are by Sa-chen, according to the gLegs bam kyi dkar chags.
123. gLegs bam kyi dkar chags, p. 5.1-2.
124. Wayman 1977, pp. 137-80, is still the only significant treatment of the Guhyasamaja material.
125. Tachikawa 1975 is devoted to an examination of this issue with respect to the dGe-lugs understanding found in the sGrub mtha’ shel gyi me long of Thu’u-bkwan bLo-bzang chos kyi nyi-ma.
126. Stearns 2001, pp. 30-32, argues that some short works in the Pod ser are based on Lam-‘bras writings of Phag-mo gru-pa. This may prove to be true, but his argument as presented is not entirely compelling, as it relies on the idea that Sa-chen used no texts; compare Stearns 2001, pp. 32-35.
127. Lung ‘di nyid dang mdor bsdus su sbyar (Pod ser, pp. 481-93), Lung ‘di nyid dang zhib tu sbyar ba (Pod ser, pp. 493-529), and Lam ‘bras bu dang bcas pa’i don rnams lung ci rigs pa dang sbyar (Pod ser, pp. 529-81).
128. Besides Pod ser, sec. IV, pp. 144-51 and 185-87, there is a longer work, Kye rdor lus dkyil gyi dbang gi bya ba mdor bsdus pa, ascribed to bLa-ma Sa-chen-pa and close to the language associated with Sa-chen’s other works. On fol. 7a4 ( p. 19.4), the signature of the Lam ‘bras, the rdo rje rba rlabs bsgom pa, is mentioned; compare a supplemental work on the Vajracaryabhiseka, Gong tu ma bstan pa’i rdo rje slob dpon gyi dbang gi tho, Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung ma phyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 21-25. There is another short text, sMon lam dbang bzhi’i bshad par sbyar ba, which is not definitely a Lam-‘ bras-related work; Sa skya’i rje btsun gong ma rnam lnga’i gsung ma phyi gsar rnyed, vol. 1, pp. 81-84.
129. Guhyasamaja-tantra XII, vv. 60-76, pp. 42-44.
130. For references, see Davidson 1992, pp. 178-79, n. 20.
131. For a discussion of this ritual and related concerns, see Davidson 1992, pp. u4-20.
132. For a discussion of many of these issues, see Nor-chen’s bsKyed rim gnad kyi zla zer, pp. 190.1 ff.; and Go-rams-pa’s bsKyed rim gnad kyi zla zer la rtsod pa spong ba gnad kyi gsal byed, pp. 597 ff.
133. rTsa ba’i ltung ba bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘kh rul spong.
134. Eimer 1997.
135. bLa ma mnga’ ris pas mdzad pa’i brtag gnyis kyi tshig ‘grel. Compare the acknowledgement of Durjayacandra’s and mNga’-ris- pa’s commentaries in dPal kye rdo rje’i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer, p. 109.3.1.
136. Kye rdo rje’i rtsa rgyud brtag gnyis kyi dka’ ‘grel.
137. dPal kye rdo rje’i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer.
138. brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan.
139. Guhyasamaja-tantra XVIII.34.
140. rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 22.3.5, 34.3.3, 35.4.5, 36.1.3, 36.3.3.
14r. See Steinkellner 1978; Broida 1982, 1983, and 1984; Arenes 1998.
142. His sources are identified in rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 31.4.5, 32.1.2, 32.1.6, 32.3.1, 32.3.3, 32.3.4, 33.1.5, 33.2.6, 34.2.1, 34.2.4, 34.3.6, 35.1.1, 35.2.4, 35.3.4, 35.4.6.
143. rGyud sde spyi’i rnam par gzhag pa, pp. 11.4.4-12.1.2.
144. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, p. 2.1.3.
145. Grags-pa rgyal- mtshan’s scriptural source for this is HT II.ii.14-15, and HTII.viii.9-10.
146. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, 17.1.6-2.3, citing the Sarvatathagatatattvasamgraha and the Samputa; compare HTII.iv.76.
147. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, pp. 22.1.1-4, 26.3.2-4.
148. rGyud kyi mngon rtogs rin po che’i ljon shing, pp. 22.3.2, 26.1.3. We also see his interest in this level of encounter and refutation in his rTsa ba’i ltung ba bcu bzhi pa’i ‘grel pa gsal byed ‘khrul spong, pp. 261.2.6-65.2.6, where he refutes four “incorrect opinions” with respect to the Vajrayana.
149. The identity of this place is not certain. The Rwa lo rnam thar, p. 46, mentions a sNye-nam na-mo-che in La-stod, and the rNam thar rgyas pa yong grags, p. 157, mentions a sNe-len in La-stod.
150. Yi ge’i bklag thab byis pa bde blag tu ‘jug pa.
151. Verhagen 1995, 2001, pp. 58-63, studies this work.
152. sMra sgo’i mtshon cha’i mchan rje btsun grags pa rgyal mtshan gyis mdzad pa; gDung rabs chen mo, p. 74; Jackson 1987, vol. 1, pp. rr 6- rr 7; Verhagen 2001, p. 52.
153. Byang chub sems dpa’i spyod pa la ‘jug pa’i ‘grel pa; see p. 515.2.5 for his debt to Phya-pa.
154. bSod-nams rtse-mo’s Dang po’i las can gyi bya ba’i rim pa dang lam rim bgrod tshul, and the Chos spyod rin chen phreng ba of Grags-pa rgyal-mtshan.
155. gDung rabs chen mo, p. 64.
156. gDung rabs chen mo, p. 72.
157. Ruegg 1966, pp. 112-13, discusses this episode.
158. For a discussion of this controversy, see Stearns 1996, pp. 152-55.
159. gDung rabs chen mo, pp. 80-81.
Эзотерический буддизм возник в начале седьмого столетия вследствие произошедшей в период раннего средневековья регионализации индийской государственности и религии. В Индии это выглядело как более или менее успешная реорганизация различных религиозных сообществ, направленная на решение проблем, возникавших вследствие экономической дестабилизации, миграции населения, утраты покровительств, новой изменчивой политики саманта-феодализма, роста значимости кастовой системы и почитания богов, а также возникновения новых региональных центров. Помимо этого, данные сообщества столкнулись с драматическими изменениями в своей буддистской идентичности, выразившимися в прекращении участия в их делах женщин, смещении интеллектуальных ценностей в сторону брахманических моделей, а так же утрате ими роли как этического, так и интеллектуального центров притяжения. На эти вызовы индийские буддисты ответили заимствованием и сакрализацией отдельных аспектов социально-политической сферы, хотя этот ответ привносил в их среду новую для буддистской традиции внутреннюю напряженность. С одной стороны были те, кто одобрял и сакрализовывал real politik того времени в лице буддистских монахов великих монастырей долины Ганга, а также (хотя и в ограниченной степени) некоторых других мест. Используя модель становления «верховным правителем» (rajadhiraja), они разработали и повсеместно распространили медитативную систему с сопутствующими ей ритуалами, которая наглядно демонстрирует их глубинное понимание сущности идеалов и методов саманта-феодализма. Создавая сакральные буддийские парадигмы властных отношений, основанные на принципах функционирования окружавших их политических мандал, они трансформировали идею центральных зон власти и буферных клиентских государств в систему отношений между буддами и бодхисатвами в визуализируемых священных сферах.
На другом конце религиозного спектра располагалась недавно возникшая формация сиддхов, целью которых была личная власть в качестве верховного повелителя магов (vidyadhara) и даже самих богов. Традиции сиддхов также культивировали политику господства и контроля, которая, однако, была сфокусирована на интересах отдельного сиддхи, а не на улучшении положения окружающего его сообщества. Присваивая и перерабатывая методы, заимствованные из шиваизма и других источников, буддистские сиддхи создавали невиданные ранее в буддистском мире радикальные медитативные техники, используя при этом язык, который был одновременно игривым и свирепым, эротичным и разрушительным. В средневековой Индии сиддхи буддийского толка, самым наглядным примером которых являлся Вирупа, стали активными поборниками использования региональных языков и культур, самоутверждения племен и сегментации власти. Они вынуждали монастыри реагировать на их новые ритуалы и системы йоги разработкой новых формы герменевтики, освоением быстро развивающейся иконографии, а также использованием песен и танцев в ритуалах подношений новым формам будд. Кроме того, монастырские учреждения оказались вовлечены в создание совершенно нового канона, в котором махайога- и йогини-тантры порой находились в тени новых йогических наставлений (upadesa), переданных определенному сиддху, причем зачастую женским проявлением абсолюта.
Тибетцы, невары и другие гималайские народы взяли на вооружение новаторские разработки седьмого-одиннадцатого столетий и задействовали эти новые формы буддизма в деле возрождения своих фрагментированных культур. Если в Индии обе системы: институциональная и сиддховская, возникла в результате воздействия на общества череды непреодолимых трудностей, то в Центральном Тибете данные формы религии стали тем связующим компонентом, который переводчики одиннадцатого столетия использовали для воскрешения тибетской идентичности и создания неразрывной связи между ней и эзотерической буддийской практикой. Тибетцы только что пережили мрачный период своей истории, последовавший за распадом империи, и находились в поисках вдохновляющей формы буддизма, способной обеспечить общетибетский дискурс о превращении яда хаоса в нектар цивилизации. Грубый язык новых писаний, магическое очарование и скользкая этика тех, кто его использовал, а также ярко выраженный акцент на харизматических личностей – все это привлекало не только определенную часть зарождающейся тибетской интеллигенции, но и многих представителей великих кланов Тибетского плато. Они обосновывались в действующих храмах и небольших монастырях, возрожденных монахами Восточной винаи, получивших посвящение в уцелевших храмах Цонкхи и принесших свои монастырские программы обучения в Центральный Тибет. Следующим поколением буддистских подвижников стали великие переводчики, которые благодаря своим способностям и преданности делу смогли повторно объединить тибетскую духовность с индийским буддизмом, смыв таким образом пятна позора с разбитой имперской мечты целебными водами индийской религии.
Начинающие переводчики отыскивали новые священные писания в великих монастырях и скромных медитационных убежищах Индии, Кашмира и Непала. Личность добившегося успеха в своей деятельности переводчика, как правило, характеризовалась рядом типовых качеств: феодальный статус, обретенный благодаря личной харизме; принадлежность к какому-либо клану; утонченная ученость; проявлявшаяся время от времени истинная святость; ритуальная виртуозность; и неоспоримая преданность любимому делу. Дрокми Шакья Еше и его современники использовали ценности средневекового индийского мира для воссоздания и реформирования тибетской культуры, одновременно с этим стремясь внедрить такую культуру в существующие социальные отношения, что только упрочивало фрагментацию и политическую разобщенность страны. Ни личная скупость Дрокми, ни этические прегрешения Гаядхары не убедили тибетцев в том, что такие системы религиозности дорого обходятся им самим и их обществу. В качестве компенсации за свои исторические ошибки эзотерические переводчики одиннадцатого столетия совершили один из величайших интеллектуальных подвигов в истории, переведя на классический тибетский язык обширный свод ритуальных, медицинских и философских доктрин. В то время как контролируемые переводчиками храмы редко добивались стабильного признания, монастыри, возведенные их непосредственными последователями, смогли обрести новую социальную форму, совместив идею религиозной линии передачи с устойчивой системой наследования родовых владений, т.е. добились того, что ранее оказалось не по силам монахам Восточной винаи.
Период возрождения отмечен началом процесса тибетизации местной религии, в рамках которого происходил активный поиск и изучение останков имперского религиозного наследия. Опираясь на формы религии, уцелевшие после распада династии, традиции ньингмы начали разрабатывать новые разновидности ритуалов и духовной литературы. Движущей силой этого процесса отчасти была реакция на новые переводы, отчасти стремление подтвердить святость вождей кланов, очень часто являвшихся главами старинных линий передачи, отчасти желание подтвердить подлинность исконно тибетских сочинений, а отчасти одновременное ощущение и утраты, и веры в великие династические достижения. Они «открывали» в старых династических поселениях по всему Центральному Тибету как литературные, так и материальные скрытые сокровища, объявляя их личными сокровищами императоров, оставленными ими в качестве посланий тибетскому народу в целях его поддержки в период отсутствия централизованной власти. Терма использовали местную эстетику, поддерживали почитание автохтонных духов и богов и представляли Тибет не периферией буддистского мира, а центром деятельной активности будд и бодхисатв. Аналогичным образом развивали свои новые идеи и авторитеты сармы одиннадцатого и в особенности двенадцатого столетий. Будь то новое представление махамудры под руководством Гампопы, эпистемологические разработки Чапы или рост популярности ритуалов Чо с Мачик Лабдрон, все это означало, что представители сармы в У-Цанге начали понимать, что для окончательного укоренения буддизма в Тибете необходимо, чтобы религия Индия была открыта для восприятия специфически тибетских доктринальных идей. Все были увлечены неведомыми ранее формами познания и осознавания, а также новыми возможностями множества гносеологических методик, возникших в период эпохи возрождения.
Вследствие всего этого эзотерические тексты – как ньингмапинские терма, так и переводы сармы – представляли собой культовые композиции, несущие в себе множество отправных точек, которые использовались в своих целях отдельными сообществами тибетского общества. В высшей степени эзотерические и бдительно охраняемые медитативные наставления не только вели к освобождению своих приверженцев, но и являлись символом их статуса и превосходства над другими. В ходе этого процессе возникло множество различных текстовых сообществ, каждое из которых опиралось на узкую группу собственных священных текстов и при этом претендовало на абсолютную святость своей линии передачи и религиозной традиции. Однако, все эти претензии звучали на фоне такого выдающегося явления, как всеохватная текстуализация Тибета, поскольку даже в те времена, когда его религиозные деятели спорили по поводу признания авторитетности тех или иных произведений, в целом Тибет признавался и ценился как страна, изобилующая священными текстами, а его ландшафт воспринимался как вдохновляющий источник религиозного творчества великих святых праведников и всеведущих императоров.
Одним из проявлений процесса индигенизации Тибета стала религиозная специализация ряда тибетских кланов, таких как, например, Че, Нгок, Ньо, Ньива и Кьюра. Однако, самым выдающимся примером этой трансформации, несомненно, был клан Кхон. Создав мифологию, в которой в конечном счете слились воедино мифы о нисхождении на их земли небесных бодхисатв и о происхождении их предков от тибетских богов, Кхон стал одними из самых успешных религиозных кланов одиннадцатого-двенадцатого столетий. Кхон Кончок Гьялпо построил монастырь Сакья в 1073 году, и с тех пор это учреждение постоянно поддерживалось членами клана Кхон, которые, использовав свой незаурядный ум и практический опыт, создали собственную цитадель учености в феодализированной духовной среде провинции Цанг. С помощью большого числа высокообразованных соратников они, опираясь на переводы Дрокми и Бари-лоцавы (в особенности это касается эзотерической системы ламдре), разработали устойчивую ритуальную основу, благодаря которой тибетская практика могла соперничать с любой из индийских практик тех времен, к тому же предлагая своим последователем такой же развитый культ реликвий. Как и другие успешные кланы Центрального Тибета, клан Кхон перешел от духовного наследования по линии «от отца к сыну» к наследованию по принципу «от дяди к племяннику», а религиозным идеалом взамен женатого мудреца прошлых времен отныне являлся безбрачный монах.
Крах индийских монастырских центров в двенадцатом и тринадцатом столетиях укрепил репутацию Сакьи и других тибетских монастырей, заставив индийских монахов воздать дань уважения тибетским мирянам, которые оказались более удачливы и более искусны в деле поддержания буддхадхармы, нежели их индийские покровители. Сачен Кунга Ньингпо и два его высококвалифицированных сына еще более возвысили это учреждение, а также «одомашили» дикий образ Вирупы, сделав ламдре – одну из самых эзотерических систем практики сиддхов – опорой, возможно, самого консервативного буддистского центра. Эта синхронная «доместикация» как самых йогини-тантр, так и пояснительных йогических руководств потребовала привязки внутренних медитаций к такой ритуальной форме мандалы, которая бы подчеркивала единообразие группы священных текстов и придавала более общинный вид слишком индивидуалистическому образу сиддхов. Кроме того возник новый тип мифологических персонажей – мистический иерофант, преемник индийских монахов и сиддхов, искусный в делах нашего мира, духовно зрелый, наделенный магическими и административными способностями, управляющий внутренними божествами и внешними союзами, т.е. могущественный во всех смыслах этого слова. Успехи Кхона во всех этих начинаниях составили основу той почвы, из которой в конечном итоге произросли семена союза патриархов сакьи с Хубилай-ханом.
В то же время беспорядки в Тибете двенадцатого столетия, такие как сожжение Самье и Джокханга, междоусобицы учеников линии шангпа Кхьюнгпо Нелджора и религиозная воинственность ламы Жанга, порождали ощущение потенциальной возможности краха всей социальной структуры, как это уже случалось в девятом и десятом столетиях. Под давлением таких факторов, как вторжение тюрок в Северную Индию, захват Средней Азии исламскими армиями, возвышение монгольских держав и столкновения на своих границах, тибетцы сформировали собственное представление об ортодоксальном буддизме, которое по своей сути было правильным. Внутренне тибетцы понимали, что они сохранили большую часть наследия великой монастырской системы Северной Индии, которое к тому времени уже было практически утеряно самими индийцами. Ощущение международного буддистского кризиса в сочетании с увлеченностью индийцами и тангутами Тибетом способствовало развитию неоконсервативного движения, продвигаемого Дригунгом Джиктеном Гонпо, Сакья Пандитой, Чагло Чодже-пелом и другими. Они полагали, что то, что они считали истинным посланием Будды, эродирует как снаружи, так и изнутри, а естественное творчество тибетского народа, воплощенное в работах Чапы, Гампопы, наставников терма и других, воспринималось ими как ересь и измена нормативной доктрине. Стремясь подавить любое отклонение от нормы, они критиковали всякую буддийскую деятельность, которую считали неиндийской, следуя при этом собственному стандарту, который был скорее их теоретической позицией, чем реальной индийской концепцией. Неоконсерваторы не знали или не хотели признавать, что многие из тех моделей поведения и идей, которые они критиковали в Тибете начала тринадцатого века, существовали в Индии на протяжении многих столетий.
Три фактора способствовали упрочению их положения. Во-первых, монголы поняли, что Монголии лучше всего подходит неоконсервативное видение, и поэтому Хубилай-хан институционализировал личность Сакья Пандиты как образцового представителя тибетской религии. Монголы были просто очарованы мудрецом, который, казалось, был средоточием разнообразных знаний в части йогических систем, магических обрядов, монашеского этикета, клановых отношений, медицины, логики, языков и пр., а также обладал особой проницательностью и выдающимися административными способностями. По-видимому данный факт стал причиной того, что на протяжении столетий многовекового участия монголов в тибетской религиозной жизни они в большинстве случаев останавливали свой выбор на самых высокообразованных наставниках. Также не будет преувеличением сказать, что выдвижение Сакья Пандиты во многих отношениях стало кульминацией семнадцатисотлетней истории буддизма. Во-вторых, тибетцы начали понимать, что их социальное благополучие во многом зависит от институциональной жизнеспособности больших, хорошо управляемых монастырей, которые к тому времени уже полностью олицетворяли собой симбиоз аристократических кланов и позднего индийского буддизма. В этом монголы следовали их примеру, поскольку исторически они не были знакомы со столь стабильными религиозными институтами, а многочисленные китайские вариации таких учреждений вызывали у них интуитивное недоверие, т.к. воплощали в себе непривлекательные по монгольским меркам эстетические и интеллектуальные направления. Наконец, неоконсерваторы, будучи благонравными буддистами, не стали навязывать свое видение силой закона, хотя их монгольские повелители предоставили им такую возможность. Они были великодушными правителями, и, одержав победу, могли себе позволить даровать религиозную свободу тем, кто был отодвинут от власти. В этом они были схожи с другими буддистами, которых вполне устраивало то, что рано или поздно весь мир все равно придет к истине.
В начале тринадцатого столетия, опираясь на помощь беженцев из индийских монастырей и монгольских военачальников, неоконсервативное движение формализовало большую часть институциональной структуры Тибета. Одним из столпов идеологии этой структуры был образ буддистского монаха, представляющего сильную йогическую и каноническую традицию, который долго казался незыблемым, в том числе и после отпадения Сакьи от власти и возвышения в 1348 году иерарха Пагмо Друпы Джангчуба Гьелцена. Периодически добиваясь определенных успехов, эти личности, которых можно назвать монахами-иерархами, противостояли идеологии мирского политического лидера вплоть до прихода к власти в семнадцатом столетии правительства Далай-ламы. Следует отметить, что корни данного явления лежат в самоотверженных усилиях нескольких одержимых людей десятого-двенадцатого столетий, которые, мобилизовав все свои интеллектуальные и духовные способности, преодолевали невообразимые трудности в те времена, когда Тибет так отчаянно нуждался в успехе их начинаний. В продолжение всей их деятельности буддийская религия являлась надежным источником материалов, используемых для реконструкции тибетского общества, а доктрина пробуждения в ее различных обличьях стала социальным, интеллектуальным и духовным катализатором возрождения тибетской культуры.
Это не означает, что все тибетские нововведения или безрассудство тибетских сиддхов канули в небытие, поскольку все это являлось проявлением извечных моделей человеческого поведения. Безумные ньон-па по-прежнему фигурировали среди деятелей кагью и ньингмы, а странствующие тибетские сиддхи некоторое время еще оживляли атмосферу собраний религиозных институтов. Их существование в какой-то мере компенсировались не только неоконсервативной идеологией, но и развитием парадигмы перерождения лам, которая в большинстве случаев институционализировала клановые структуры, поскольку кланы воспринимали более мелкие подразделения буддистских монастырей как свою частную собственность, которой они могут управлять единолично, в то время как перерожденцы были преимущественно выходцами из аристократии. Тибетские инновации продолжались, а впереди была еще и великая ересь: «другая пустота» джонангпы. И до сих пор одной из доминирующих тем тибетской религиозной жизни остаются дискуссии, направленные на одобрение или осуждение стратифицированных интеллектуальных и социальных систем.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Отсутствие внятной биографической информации характерно не только для повествований о жизни и деятельности Сонама Цемо, но и в какой-то мере присуще жизнеописаниям его младшего брата Дракпы Гьелцена. Причина этого не вполне понятна, поскольку в отличие от своего старшего брата, не имеющего традиционных агиографий, Дракпа Гьелцен был удостоен стандартного по объему жизнеописания за авторством Сакья Пандиты65. Однако, к великому сожалению, работа Сакья Пандиты создает устойчивое ощущение какой-то незавершенности, поскольку он довольно часто уклоняется от изложения фактической информации, восклицая при этом: «Рассказ об этом слишком долог, поэтому я не буду здесь писать об этом!»66 Причины, по которым Сакья Пандита прибегает к многочисленным пропускам в повествовании, не вполне ясны, но, похоже, что он полагал, что полное описание физических событий не входит в обязательные требования агиографического жанра тех времен, а в своей работе он и так представил достаточно обширный обзор снов, видений и историй, связанных с чудесами. Кроме того, это может быть прямым отражением системы ценностей, которых придерживался сам Дракпа Гьелцен, поскольку единственным автобиографическим документом, который он оставил после себя, были надиктованные им описания особо значимых снов, начиная с семнадцатилетнего возраста и вплоть до самой его кончины67.
Нам известно, что Дракпа Гьелцен был вторым по счету сыном второй жены Сачена Мачик Одрон и родился в Сакье в 1147 году. Очевидно, что он прожил дольше всех остальных сыновей Сачена, поскольку всегда был центральной фигурой погребальных торжеств как своего отца, так и всех своих братьев68. Сакья Пандита усердно связывал каждое описываемое им событие из жизни своего дяди либо с мифологией предыдущих поколений, либо с определенными качествами бодхисатвы из махаянских священных текстов. Так, подобно истории из жизни Будды, сообщалось, что матери Дракпа Гьелцена приснилось, что повелитель слонов вошел в ее чрево, а его рождение и детство описывалось шаблонными формулировками, обязательными для начинающих буддистских святых праведников69.
Интересно, что Дракпа Гьелцен вслед за своим братом стал безбрачным мирянином (brahmacari-upasaka), приняв соответствующий обет в возрасте семи лет в присутствии Джангчуба Семпы Давы Гьелцена. Этот интригующий персонаж, вероятно, был известным учителем, распространявшим идеи фундаментальной буддийской этики и имевшим тесные связи с самыми разными линиями передачи. Он был наставником Таглунгпы, держателем линии передачи ламдре Дрома Депы Тончунга, а также тем самым учеником, для которого Саченом был написан комментарий к ламдере «Дагьелма»70. Аме-шеп выдвинул довольно интересное утверждение, заявив, что практика безбрачия Дракпы Гьелцена превосходит практику монаха, поскольку благодаря кармическим отпечаткам от пребывания монахом в предыдущих жизнях он не испытывал сексуального желания71. По-видимому, примерно в этом же возрасте Дракпа Гьелцен также решил отказаться от алкоголя и употребления в пищу мяса, за исключением тех случаев, когда это требовалось в тантрической практике. Другими его устремлениями юношеского периода были изучение «Двадцати строф об обете бодхисатвы» и основополагающей практики Хеваджры – визуализации Хеваджры в соответствии с текстом садханы Сарорухаваджры. Говорят, что отец передал ему ламдре в возрасте восьми лет, и ему было запрещено преподавать его до двенадцати лет – весьма необычное указание, учитывая крайнюю молодость мальчика и сложность системы. Тем не менее, вполне очевидно, что столь раннее приобщение к ламдре с помощью своего отца не только способствовало упрочению авторитета Дракпы Гьелцена, но и дало возможность ему ознакомиться из первых рук с общей организацией традиции.
По общему мнению, поворотным событием в жизни Дракпы Гьелцена стала смерть его отца. В этот момент Дракпе Гьелцену было всего одиннадцать лет, а его братьям, соответственно, шестнадцать и восемь. Он и его старший брат оказались в центре внимания многих великих ученых, собравшихся на погребальную церемонию, и сообщается, что во время нее Дракпа Гьелцен по памяти декламировал «Хеваджра-тантру». Ученые были конечно же поражены, и некоторые из них утверждали, что, поскольку его отец являлся эманацией Манджушри, то он также, должно быть, благословлен этим бодхисатвой разума. Другие заявляли, что, поскольку Сачену, когда он был молод, было видение Манджушри, он получил его благословение, вследствие чего всем его потомкам будут дарованы подобные откровения. Очевидно, что именно это событие побудило отдельных ученых к распространению предания, согласно которому всех членов клана Кхон можно считать эманациями Манджушри (хотя ничего подобного сам Дракпа Гьелцен никогда не утверждал). Однако, каковыми бы ни были обстоятельства возникновения его мифической связи с бодхисатвой мудрости, вполне очевидно, что декламация «Манджушринамасамгити» («Перечисление имен Манджушри») должна была стать первоочередной заботой Дракпы Гьелцена, и эта рецитация не только занимала определенную часть его ритуального времени, но и являлась ему во снах72.
Сонам Цемо после смерти Сачена оставил Сакью и отправился на обучение к Чапе в Сангпу, а Дракпа Гьелцен остался в монастыре, чтобы продолжить свое эзотерическое образование у геше Ньена Пул-джунгвы, который на три года (до 1161 г.) принял бразды правления Сакьей. Не вызывает сомнений, что геше Пул-джунгва и геше Ньяк Ванг-гьел оставались наиболее значимыми учителями Сакьи, как минимум, до 1165 года. Кроме того, Сакья Пандита писал, что Дракпа Гьелцен обучался у одного «Жанга» (вероятно, у Жанга Цултрим-драка), а также и у «других наставников» – фраза, употребляемая им для того, чтобы обесценить авторитетность альтернативных источников и аккуратно задвинуть большинство учителей Дракпы Гьелцена в тень великого Сачена73. В свою очередь, Аме-шеп утверждает, что помимо геше Ньена, Жанга и геше Ньяка, Дракпа Гьелцен также обучался у непальца Джаясены, лоцавы Дармы Йонтена, Сумпа-лоцавы Пекхок-дангпо Дордже и ряда других учителей, однако, Аме-шеп не приводит содержание их программ индивидуального обучения74. Кем бы ни были его наставники, мы абсолютно уверены в том, что Дракпа Гьелцен получил доскональное образование и именно в эзотерической традиции – факт, совершенно очевидный для любого, кто возьмет на себя труд ознакомиться с его работами. Он, безусловно, изучил все четыре уровня эзотерического канона, признаваемого сакьяпой: крия-, чарья-, йога- и йоготтара-тантры. Кроме того, в лице Дракпы Гьелцена мы впервые видим проникновение идей «Калачакра-тантры» в мировоззрение сакьи (хотя Сачен якобы тоже изучал этот текст). Как только Дракпа Гьелцен достиг совершеннолетия (определяемого по разным данным в интервале от двенадцати до двадцати пяти лет), он принял на себя ответственность за управление Сакьей. При этом немногочисленные свидетельства его усилий скорее говорят нам о том, что, когда Сонам Цемо находился в монастыре, Дракпа Гьелцен вынужден был пребывать в тени авторитета своего старшего брата75. В письме Сонама Цемо к Гьягому Цултрим-драку от 1165 года он выражает признательность своему младшему брату за то, что тот поощрял его к высказыванию своего собственного понимания ваджраяны. Похоже, что в период описываемых событий (а, вполне вероятно, что и в другие времена), перед тем, как в очередной раз вернуться к своему обучению у Чапы, Сонам Цемо в течение нескольких месяцев оставался в Сакье76.
Однако через некоторое время произошла очередная трагедия, и Дракпе Гьелцену снова пришлось выступать в роли устроителя еще одной грандиозной погребальной церемонии, на этот раз для Сонама Цемо, который скончался в 1182 году, когда Дракпе Гьелцену было около тридцати пяти лет. В соответствии с практикой приобретения заслуг он оплатил изготовление тридцати семь экземпляров «Совершенства мудрости в 100 000 строф», примерно восьмидесяти копий версии этого же священного писания в 25 000 строфах, пятидесяти экземпляров «Ратнакуты», написанного золотыми буквами текста «Совершенства мудрости в 8000 строф», а также множества других подношений. Дракпа Гьелцен также пережил и своего младшего брата Пелчена Опо (1150–1203), который был женат и произвел на свет двух сыновей. Для его погребальных обрядов он снова профинансировал копирование текстов в тех же объемах, что и в случае с погребальной церемонией своего старшего брата. Не вызывает сомнений, что погребальные церемонии имели особую значимость в жизни Дракпы Гьелцена, и именно по этой причине Сакья Пандита сделал их одним из важнейших аспектов религиозной деятельности своего дяди. Сакья Пандита сообщает, что в общей сложности его дядя преподнес в дар более 250 экземпляров «Совершенства мудрости в 100 000 строф», написанных чернилами, смешанными с порошком из драгоценных камней. Многие из этих писаний были изготовлены для посмертных ритуалов членов клана Кхон, и примерно в 1216 г. в главном храме Сакья все еще хранилась сотня таких копий77. Джецун Ринпоче (как теперь стал называться Дракпа Гьелцен) также спонсировал запись раннего канона золотыми буквами, причем это касалось как сутр, так и тантр. Когда мы видим такое покровительство копированию священных текстов и изготовлению многочисленных изображений, шелковых знамен, балдахинов и других культовых предметов, которые он подносил в дар в Сакье и многих других монастырях, то не приходится удивляться тому, что Дракпа Гьелцен особо прославился своей щедростью в служении делу буддизма. Сакья Пандита отмечал, что когда его дядя скончался, у него не осталось почти никакого имущества, кроме носимого им одеяния и нескольких личных вещей.
Как следует из цитаты в начале данной главы, Дракпа Гьелцен не любил путешествовать, и Сакья Пандита не упоминает ни одного другого места, где жил бы его дядя, кроме своего любимого монастыря. Однако, согласно другим источникам, Дракпа Гьелцен основал по крайней мере одно уединенное пещерное убежище в долине Мангхар, упоминаемое как в путеводителях паломников, так и в агиографии Царчена78. По всей вероятности, этот период (или периоды) затворничества пришелся на его зрелые годы, поскольку Дракпа Гьелцен в возрасте сорока восьми лет упоминал о ряде снов, в которых он взбирается на скалы, а также еще один сон, который он видел, пребывая на «полке» (уступе) в Мангхаре79. Вполне очевидно, что в данном случае речь не идет об еще одной уединенной обители, описываемой как «восточное отдаленное место» Гьянгдрака Ньипака, где в 1206 году он создал комментарий к «Йогинисанчара-тантре»80. Принимая во внимание его долгую жизнь и ограниченные перемещения, неудивительно, что Дракпа Гьелцен смог стать автором самого широкого профиля, затронувшим в своих работах практически все темы эзотерического канона и таким образом завершившим начатое его отцом и братом. В Таблице 9 перечислены те из его немногочисленных работ, которые содержат в своих колофонах точные или хотя бы приблизительные даты.
Таблица 9. Датированные работы Дракпы Гьелцена
|
Текст
|
Дата завершения
|
|
Khams bde dri ha’i nyams dbyangs
|
1171
|
|
Lam ‘bras brgyud pa’i gsol ‘debs
|
1174
|
|
dGa ‘ ston la spring yig
|
год мыши (1192?/1204/1216)
|
|
rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i ljon shing
|
к 1196 81
|
|
brTag gnyis rnam ‘grel dag ldan
|
1204
|
|
bDe mchog kun tu spyod pa’i rgyud kyi gsal byed
|
1206
|
|
Ga ring rgyal po la rtsis bsdur du btang ba’i gsung yig
|
1206
|
|
‘Khor ‘das dbyer med tshig hyas rin chen snang ba
|
1206
|
|
‘Phags pa rdo rje gur gyi rgyan
|
1210
|
|
Rin chen snang ha shlo ka nyi shu pa’i rnam par ‘grel pa
|
1212
|
|
rJe btsun pa’i mnal lam
|
1213/1214
|
Как и в случае с его братом, мы не в состоянии отследить по датированным работам интеллектуальную эволюцию самого Дракпы Гьелцена. Ведь приведенные выше названия относятся лишь к малой части из примерно 150 приписываемых ему произведений, включенных в «Собрание сочинений наставников сакьи», приложение к нему, а также в «Желтую книгу» (Pod ser), которая в прямом смысле этого слова является величайшим вкладом Дракпы Гьелцена в систему ламдре. Однако, к двенадцатому столетию применение его наследия все больше и больше начало сужаться к использованию только в посвящениях отдельных линий традиции. А само понятие «ламдре» постепенно стало восприниматься как обобщающая рубрика эзотерического обучения, опирающегося на «Хеваджра-тантру» (в том виде, как ее преподавали в Сакье).
Если с творческим наследием Дракпы Гьелцена все более или менее понятно, то в описании его деятельности на благо других, а также его взаимоотношений с этими людьми содержится много неясного. В колофонах двух его работ указывается, что он занимался преподаванием (в особенности текстов тантр) своему юному племяннику Кунге Гьелцену, которому со временем было суждено стать Сакья Пандитой. Это обучение продолжалось с 1196 года и вплоть до перехода Кунги Гьелцена к новому наставнику Пан-чену Сакьяшри в первые годы тринадцатого столетия82. В течение этого времени Кунга Гьелцен изучил со своим стареющим дядей множество различных произведений, а отношения между ними стали предметом восторженных отзывов агиографов, перечислявших названия многочисленных предметов, которым пожилой мудрец обучал молодого ученого. Не вызывает сомнений, что этот список в немалой степени преувеличен, к примеру, мы практически не располагаем свидетельствами того, что Дракпа Гьелцен мог обучать своего племянника санскриту или ньингмапинским тантрам83. Точно так же, как повествование Сакья Пандиты о своем дяде задвигает учителей Дракпы Гьелцены в тень его отца Сачена, собственные агиографии Сакья Пандита выводят на передний план и ставят превыше всего обучение молодого ученого у своего дяди. Таким образом, определяющим фактором в обретении учености этими людьми становится их принадлежность к клану Кхон84.
Дракпа Гьелцен избегал дальних путешествий по окружавшему его миру. Однако, со временем мир сам пришел к нему, и Сакья оказалась вовлечена в большую геополитику того периода, точно так же, как Цурпу и другие монастыри кагьюпы тех времен. Объявив священную завоевательную войну, тюрки и афганцы заняли большую часть Северной Индии и двинулись на восток, разрушая по пути великие монастыри Бихара и Бенгалии. Западный Тарим был захвачен каракитаями в начале двенадцатого столетия, а Восточный Тарим испытал на себе растущее могущество тангутского государства, покорившего уйгуров Турфана в 1028 году. Тангутский император Жэньцзун был могущественным сторонником буддизма и, казалось, воплощал в себе образ дхармараджи.
Все эти и сопутствующие им факторы стали причиной ряда очень важных последствий. Самым значимым из них стало то, что в последней четверти двенадцатого и первой четверти тринадцатого столетий территория Цанга оказалась просто наводнена индийскими монахами. Это были времена, когда Сакьяшри, Вибхутичандра, Суматикирти и другие путешествовали по западным и южным районам Тибета, и Дракпа Гьелцен имел возможность принимать многих из них у себя в Сакье. Помимо прочего, он использовал присутствие индийских монахов для своего собственного обучения и уже в достаточно зрелом возрасте получил от них передачи по отдельным направлениям эзотерической литературы. Таким образом Дракпа Гьелцен получил от Джаяшрисены наставление по медитации Ваджраварахи, приписываемое Адваяваджре, при этом собрание его сочинений содержит и другие разрозненные индийские ритуальные тексты, вероятно, полученные им от самих индийцев или же от их непосредственных переводчиков85. Похоже, что именно в это время Дракпа Гьелцен под влиянием присутствия индийцев (как и его брат под влиянием непальцев) подписывался санскритским переводом своего именем: Киртидваджа. Однако, порой иностранцы отказывались следовать тибетскими обычаями почитания особо значимых учителей и признавать их высокое положение в тибетском обществе. К примеру, известен надежно засвидетельствованный эпизод, когда отдельные монахи, в том числе и Вибхутичандра, не желали падать ниц перед мирянином, которым в данном случае был сам Дракпа Гьелцен86. Им это запрещалось правилами Винаи, а почти двумя веками ранее, когда Виная была возвращена в Центральный Тибет из Цонкхи, данный вопрос был одной из главных причин конфликта между мирянами бенде и монахами Луме и Лотона.
В эти же времена в Центральный Тибет прибыло множество монахов из Тангутской империи, восточного Тибета, Ладакха, Кашмира и других мест. Особенно заметно было присутствие тангутов, что было вызвано их стремлением к продолжению своего религиозного образования под покровительством Жэньцзуна, чья сильная поддержка буддизма уже отмечалась при рассмотрении кагьюпы87. Примерно в это же самое время, по словам Кычанова, «знание тибетского языка и тибетских буддийских текстов стало обязательным для образованных буддистов Си Ся (т.е. страны тангутов), и во всех без исключения случаях это было непременным условием для занятия должности в управлении буддистской общиной»88. Поскольку Тибет стал безопасным убежищем для индийских монахов, тангутские монахи могли не только изучать эзотерическую литературу под руководством тибетцев, но и получать передачу самого последнего варианта Винаи – «среднюю» Винаю (har ‘dul), утвержденную в 1204 году и доставленную в Тибет Сакьяшри и его коллегами-пандитами. В 1745 году тибетский историк Цеванг Норбу заявлял, что эта последняя Виная была самой влиятельной из монашеских систем позднего распространения, гораздо более влиятельной, чем западная передача (stod ‘dul) через Гуге, и по факту соперничавшей с передачей Восточной винаи (smad ‘dul) Луме и его соратников89.
Приток иностранцев оказал непосредственное влияние на Сакью и совершенно иным образом. Одна из работ Дракпы Гьелцена, посвященная десяти видам эзотерической деятельности с использованием ритуалов, связанных с Ваджраварахи, была продиктована им тангуту Цинге-тонпу Гелонгу Шерап-драку90. Другой текст с конспектом ритуалов посвящения, включающий мандалы класса крия и чарья, был написан им для Цинге-тонпы Дулва-дзинпы, вероятно, еще одного тангута91. Очевидно, что словосочетание «Цинге-тонпа» (см. также рассмотренное ранее «Цами») обозначало что-то вроде «тангутского учителя», и наверное не будет преувеличением сказать, что тибетские труды двенадцатого столетия могут внести определенный вклад в наше понимание фонологии тангутов. Другие имена тех, кто запрашивал у него работы, к примеру, некого Цами или Малу-лотона Гелонга Кончок-драка, указывают на иностранное происхождение их обладателей, не говоря уже о монахах из Лле’у (вероятно, sLe’u, т.е. Лех или Ладакх), Цонкхи или Амдо92. Монахи Амдо были настолько выдающимися личностями, что один из них, похоже, даже построил монастырь в Цанге. Это подтверждается тем, что Дракпа Гьелцен, вероятно, еще на заре своей карьеры написал в Цонгкхе Гонпе для Вангчук-озера текст, посвященный основополагающим ритуалам93. Самый ранний датированный текст Дракпы Гьелцена по факту является песней постижения, написанной для Еше Дордже из Кхама в 1171 году и являющейся одним из самых первых в череде подобных произведений, созданных Дракпой Гьелценом94.
Среди местных деятелей одним из наиболее интересных корреспондентов Дракпы Гьелцена был Гах-ринг Гьялпо, которому Дракпа Гьелцен в 1206 году направил письмо с описанием своей генеалогии и который фигурирует в письме Сонама Цемо Гьягому Цултрим-драку от 1165 года95. В письме 1165 года говорится, что Гах-ринг Гьелпо преподнес Дракпа Гьелцену замечательный кусок китайского шелка. Такие подношения были знаками отличия и повышали значимость получателя в глазах его ближайших сверстников, что в данном случае имело особое значение, поскольку Дракпе Гьелцену тогда было всего около восемнадцати лет. Очевидно, Гах-ринг Гьелпо и Дракпа Гьелцен переписывались на протяжении всего периода деятельности этих великих наставников, поскольку их обмен письмами является самой продолжительной из всех известных нам переписок Дракпы Гьелцена. Другими значимыми фигурами в жизни великого сакьяпинского ламы, несомненно, были некоторые из его учеников, но за исключением нескольких имен мы мало что знаем об их личной жизни. Причиной этого является тот факт, что они были исключены из списков линии преемственности и записей традиции ради выдвижения на первый план Сакья Пандиты, чья ученая репутация и святость превзошли всех остальных в первой половине тринадцатого столетия.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
| |
Некоторые идут в Ваджрасану (Бодхгаю), но там полно еретиков; они не обладают какими-либо достижениями. На пути много ужасных разбойников, когда они перережут тебе горло, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерть от ножа.
Другие идут к ледяному полю Кайласы, но на леднике Кайласы много кочевников. Кочевники совершают всяческие плохие деяния. Будучи убит ледником своих собственных ошибочных взглядов, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерь от ножа.
Другие отправляются в Цари Цагонг, где полно местных лало-монпа. Но там не встречается даже само понятие «язык Дхармы». Будучи убит своими собственными демонами, ты раскаешься в том, что пришел туда, приняв смерть от ножа.
Подобных мест очень много, так что не стоит носиться по всем этим «местам достижений». Вместо этого займись своим совершенствованием в уединенном затворе с благоприятными условиями, с поднятыми [знамёнами] двух медитативных процессов.
Тогда, где бы ты ни был, ты будешь находиться на Акаништхе вместе с избранным тобой божеством. Что бы ты ни ел или ни пил, это будет нектар. Не искать некоего внешнего «место достижений» – таков обет сокровенных тайных заклинаний. Так что не подхватывайте эту паломническую песню, а оставайтесь на месте и вспахивайте поле!
Да, эта моя обитель, славная Сакья, подобна месту, расположенному на небесах Акаништхи.
Дракпа Гьелцен «Песня постижения, восхваляющая это место»1
|
В конце двенадцатого и начале тринадцатого столетий положение Центрального Тибета в религиозной жизни Азии стало практически таким же, каким оно ранее было у Индии и, в определенной степени, у Китая. Именно в эти времена тангутские императоры начали покровительствовать учителям кагьюпы и даровать им титулы «государственного наставника» (guo shi) и «императорского наставника» (di shi), т.е. точно такие же, как те, что были присвоены сакьяпинскому владыке Пакпе в тринадцатом столетии. Тангутские монахи все чаще стали поодиночке посещать У-Цанг с целью обучения, в особенности после прибытия сюда множества индийцев, спасавшихся бегством от беспорядков, охвативших территорию Западной и Северной Индии. Порой эти индийцы проявляли интерес к тибетским учениям, и известно несколько случаев, когда индийцы и сингальцы пытались обучаться в Тибете. Все эти события кажутся довольно обособленными друг от друга, но в совокупности они ознаменовали глубокие перемены в судьбах как самого Тибета, так и Индии. Не вызывает сомнений, что тибетцы по-прежнему считали Индию священной землей, и многие по-прежнему отправлялись на поиски истинной Дхармы в страну Будды. С другой стороны ученым индийским монахам в Тибете оказывался хороший прием и обеспечивалось покровительство, поскольку они приносили с собой новейшие и наиболее эзотерические откровения. Но к 1200 году Центральный Тибет уже с успехом представлял себя тем местом, где в полной мере присутствует просветленная деятельность будд, где можно встретить воплощения знаменитых индийских монахов и где укоренились строгие стандарты медитации и учености индийских монастырей. Будучи недавно страной, отчаянно нуждавшейся в буддийских миссионерах, Тибет теперь сам посылал своих монахов к имперским дворам и иностранным монархам.
Парадокс данной ситуации заключается в том, что все это происходило в те времена, когда сами тибетцы, казалось, были плохо подготовлены к тому, чтобы стать центром распространения Дхармы. Хотя их институты уже начали обретать долговечность и стабильность, а их ученые успешно занимались формулированием своего собственного понимания Дхармы, всякий раз, когда в религиозной сфере возникала напряженность, тибетское общество по-прежнему охватывали беспокойство и волнение. В то время как тангуты и все остальные воспринимали Тибет, как территорию, объединенную единой религией, сами тибетцы испытывали очевидные трудности даже с простым поддержанием внутреннего мира, вследствие чего во второй половине двенадцатого столетия и разразился религиозный конфликт между различными линиями и школами. Одна из самых важных причин этого явления заключалась в том, что религиозные авторитеты продолжали придерживаться норм тибетской и индийской феодальных систем, оправдывая с их помощью свое идиосинкразическое поведение и устремления к личному возвеличиванию, которые они преподносили как деятельность просветленной личности. На самом деле создается впечатление, что в двенадцатом столетии тибетцы практически не обращали внимания на три абсолютно очевидные вещи. Во-первых, они не вполне осознавали свои выдающиеся достижения за два предыдущих века интенсивной буддийской литературной и монашеской деятельности. Во-вторых, они не стремились аутентифицировать независимые тибетские сочинения в качестве эквивалента текстам индийских наставников. В-третьих, они не понимали, что процесс создания религиозных институтов отодвинул на второй план вопросы политической интеграции, значительно затрудняя достижение национального единство усилиями тех, кто обладал реальной властью. Возрастание роли буддистских монастырей и их интеграция в крайне раздробленный политический ландшафт Индии теперь повторялась и на Тибете, порождая сегментацию его социально-политического поля, подобную индийской политической раздробленности, имевшей место пятью веками ранее. Вследствие всего этого, внутренняя жизнь Тибета тех времен определялась сложным хитросплетением взаимоотношений между прямыми наследниками имперской династии, местными аристократами с общетибетскими клановыми связями и набирающими силу монашескими учреждениями, которые уже разговаривали с феодалами как с равными (на самом деле так оно и было).
К концу двенадцатого столетия тибетцы уже перевели подавляющее большинство того, что они в итоге включили в свой канон. Наличие переводчиков и лиц, так или иначе связанных с переводчиками, уже не было обязательным условием тибетской религиозной жизни, а публичные персоны, занимавшиеся переводами, уже не пользовались таким авторитетом, как это было ранее. К середине двенадцатого столетия тибетцы осознали, что буддизм в Индии находится в угрожающем положении, и что преимущества обучения там уже не столь очевидны, поскольку Индия становилась для них все более и более опасной. К 1200 году великая текстовая лихорадка закончилась, и, что выглядело вполне закономерным, тибетцы уселись за переваривание содержания этой огромной массы интеллектуального, ритуального и духовного материала. Институционализация как основополагающих буддийских систем, так и их эзотерических ответвлений была почти завершена, и тибетцы теперь занимались формированием своих собственных буддистских школ, создаваемых опять же по своим собственным моделям, при этом великие монастыри Центрального Тибета все так же продолжали свое развитие и расширение зон влияния. Если в период с середины одиннадцатого по начало двенадцатого веков буддистские эзотерические лидеры довольно часто были женатыми мирянами, а не принявшими обет безбрачия монахами, то к середине двенадцатого столетия основу местных тибетских школ все чаще составляли именно монахи, и даже светские наставники нередко соблюдали целибат2.
 |
|
Илл. 20. Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен. Два патриарха сакьяпы. Тибет, начало-середина пятнадцатого столетия. Музей изящных искусств, Бостон. Дар Джона Гоэлета, 67–831. Фотография © 2004, Музей изящных искусств, Бостон.
|
Однако, несмотря на всю эту деятельность, тибетцев не покидало ощущение некой незавершенности, поскольку в действительности политическое объединение к 1175 году выглядело столь же отдаленным, как и в 1075, 975 или даже 875 году. Спустя более трех столетий после крушения империи создавалось впечатление, что в основе вполне очевидного самоуничижения тибетцев перед лицом индийской культуры, буддийской духовности и политической хватки других народов: тангутов, китайцев и киданей, лежит ностальгия по ее целеустремленности и целостности3. Тибетцы создавали свои духовные учреждения по образу и подобию индийских монастырских структур, а упоминания Китая были довольно распространены в тибетской литературе двенадцатого столетия, поэтому тибетцы имели достаточное представление о великолепии уже приходившей в упадок к тому времени династии Сун и о политической энергии тангутов, процветавших в бассейне Тарима (здесь ошибка: тангутское государство Си Ся располагалось севернее Ганьсуйского коридора – прим. shus). Соответственно, они понимали, что так и не приблизились к зарождению единой национальной идентичности, и поэтому в двенадцатом столетии появилось множество текстов, посвященных имперской династии. К ним относятся кодификация общепризнанных версий «Завета клана Ба» (sBa bzhed), описывающего строительство великого монастыря Самье, доработанная мифология сооружения великого храма Джокханг в Лхасе (bKa’ ‘chems kha khol ma), многие из «текстов-сокровищ», посвященных агиографиям религиозных правителей, а также работы, относящиеся к начальной стадии укрепления культа Падмасамбхавы, который объединил буддийскую идентичность с имперской наследственной линией4.
В этой главе рассматривается религиозная нестабильность, которая несла в себе реальную угрозу миру и спокойствию Центрального Тибета, и в конечном счете привела к милитаризации одной из подшкол кагьюпы. Затем мы исследуем связь кагьюпы с тангутскими князьями и сопутствующее этому превращение кагьюпы в международную буддистскую структуру. В данной главе большое внимание уделяется сакье, в частности ее наследию и карьере двух ее знаменитых лам-мирян: Сонама Цемо и Дракпы Гьелцены (Илл. 20). Поскольку именно эти два религиозных авторитета заложили духовную, интеллектуальную и институциональную основу будущего процветания сакьи под властью монголов, большую часть главы занимает рассмотрение их научной и литературной деятельности с особым упором на их вклад в становление базовой тантрической системы ламдре. Глава оканчивается смертью Дракпы Гьелцена, поскольку успешная деятельность Сакья Пандиты и Чогьела Пакпы с одной стороны опиралась на достижения их предшественников, а с другой знаменовала собой начало совершенно нового периода тибетской религиозной, социальной и политической истории.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
В конце двенадцатого столетия в Тибете в очередной раз возникла проблемная ситуация, вызванная религиозными конфликтами, воскресившими в памяти тибетцев одиннадцатый век с его распрями между переводчиками и враждой между бенде и монахами Восточной винаи. В середине того столетия наибольшую агрессивность в захвате храмов кадампы и междоусобных конфликтах проявляли монашеские сообщества Восточной Винаи Дринг и Ба. Где-то на рубеже веков, возможно, в 1106 году, монахи фракции Луме и объединенной группы Ба-Раг инициировали бурный конфликт в Самье, в результате чего был сожжен коридор-обход главного храма (‘khor sa), а также (по отдельным сообщениям) разрушены вспомогательные храмы5. Данное противостояние, по всей видимости, разрешилось только после появления в Самье знаменитого (а скорее, «печально известного») Ра-лоцавы, который под страхом черной магии утихомирил всех участников этого конфликта. Пользуясь своим авторитетом, он организовал восстановление монастыря и, возможно, привел в нужное соответствие управление Самье, настояв на назначении менее конфликтной администрации.
Помимо этого инцидента и вплоть до возобновления столкновений в Лхасе религиозные деятели начала двенадцатого столетия казались гораздо менее склонными к насилию, чем их предшественники. Ощущение кризиса стало возникать в середине двенадцатого века, когда около 1157 года Кхам охватил великий голод, и это событие побудило еще большее количество молодых монахов Кхама отправиться в Центральный Тибете в надежде пройти там обучение6. Примерно в 1160 году монахи Восточной винаи вновь были вовлечены в борьбу за священные места, причем на этот раз за контроль над Джокхангом, и это происшествие выглядело гораздо более серьезным, чем инцидент в Самье полвека тому назад. В данном случае в столкновении участвовали четыре группы: члены сообществ Луме, Ба, Раг и Дринг, которые к тому времени уже стали самыми могущественными структурами Восточной винаи. Они собрались вместе в рамках какого-то обучения, но затем довольно быстро перешли к открытой войне, в результате чего и сам Джокханг, и некоторые из окружающих его зданий были сожжены, в том числе, вероятно, и резиденция, в которой жил и работал Атиша во время своего посещения Лхасы в прошлом столетии7.
Обстоятельства сожжения как Самье, так и Джокханга не совсем ясны, поскольку в летописях эти события обычно замалчиваются и лишь упоминается, что племянник Гампопы и преемник главы монастыря Дакла Кампо Дакпо Гомцул (1116?–1169) хорошо послужил как делу мира, так и своей школе кагьюпа. В то время он заканчивал строительство нового монастыря Цур-лхалунг, расположенного неподалеку от Лхасы в Толунге, и когда услышал новости о сражениях и пожаре в великом храме, то не захотел вмешиваться. Однако, к нему обратились за помощью светские власти Дзонг-цена (Рдзонг-бцана), и кроме того у него были видения многочисленных божеств, таких как Махакала и Ремати, которые также попросили его содействия. Гомцул потратил много усилий на то, чтобы сблизить позиции участников конфликта и достичь их согласия, но поначалу безрезультатно. Наконец, когда он уже готовился покинуть город, чтобы по просьбе своих монахов вернуться в родной монастырь, Гомцул увидел во сне Джово, который заявил, что, если Гомцул не разрешит это противостояние, то и никто не сможет этого сделать. Поэтому Гомцул остался и в конце концов сумел умиротворить враждующие стороны.
После установления мира он поручил реконструкцию Джокханга одному из самых ярких деятелей того периода Жангу Ю-драк-пе (1123–1193)8. Лама Жанг, как его называли в те времена, стал первым учеником Дакпо Гомцула и основателем последней из «четырех великих» ветвей кагьюпы, носящей название «целпа». Он родился в той ветви клана Нанам, которая получила право называться «жанг» (дядя по материнской линии), поскольку они выдавали своих дочерей за отпрысков императорской династии. При этом следует отметить, что титулом «жанг» также были наделены различные ветви и других кланов9. Он начал учебу довольно рано, и сообщалось, что уже к четырем годам он декламировал стихи, посвященные Великому совершенству. Нет сомнений, что Жанг еще в молодом возрасте начал изучать стандартные труды по буддийской философии (абхидхарму, мадхьямаку, отдельные труды по йогачаре, эпистемологию), но все же его первой любовью, несомненно, были тантрические системы. Кроме того, согласно некоторым источникам, в течение некоторого времени он занимался изучением черной магии, и в том числе обрядов, включавших жертвоприношения козлов. В 1148 году он окончательно принял монашеские обеты и продолжил изучение йогических систем и махамудры, включая ламдре традиции Жама, которое ему преподавал лама Мел Йерпава10. Считается, что у Жанга было несколько десятков учителей, шесть из которых имели особую значимость для его тантрических передач. Он успел встретиться с великим Гампопой до того, как этот всегда погруженный в созерцание наставник умер в 1153 году, и примерно в это же самое время он достиг окончательного пробуждения благодаря преемнику Гампопы Дакпо Гомцулу.
Уже являясь глубоким знатоком религиозных систем кагьюпы, лама Жанг начал процесс создания сообщества своих учеников, построив монастырь Ю-драк в 1160-х годах, соорудив великий центр Цела в 1175 году, а затем возведя прилегающее к Целе здание Гунг-танга в 1187 году11. Незадолго до своей смерти в 1169 году Дакпо Гомцул доверил Жангу восстановление и управление Джокхангом. Таким образом был запущен процесс отработки институционального администрирования, и именно в это время поведение ламы Жанга постепенно превратилось из несколько эксцентричного в жестокое и кровавое. Подобно Ра-лоцаве в предыдущем столетии, лама Жанг решил управлять своими растущими владениями с использованием блокпостов, ограничивавших движение по дорогам, горам и рекам. Возможно, что это было предпринято в том числе и для сбора пошлин, но определенно и для контроля доступа на подвластную ему территорию12. Он также приказывал своим монахам и нанятым головорезам отнимать у других строительные материалы и захватывать рабочих. Создание таких ограничений и агрессивная демонстрация мускулов не могли происходить без прямых столкновений и раздоров с местными феодалами, что, очевидно, и побудило ламу Жанга сформировать и вооружить ополчение в виде полувоенных формирований, причем некоторые из их них, по всей видимости, состояли из его учеников-монахов. Конечно, такие иррегулярные военизированные формирования уже создавались и ранее, но только лама Жанг использовал их для захвата феодальных владений в таких областях Центрального Тибета, как Лхокха, Дригунг и Олкха. Для того, чтобы лама Жанг прекратил военную деятельность и вернулся со своими войсками в монастырь, потребовалось личное вмешательство около 1189 года Кармапы Дусума Кхьенпы13. Согласно источникам, после его вмешательства лама Жанг прежде, чем отказаться от своего преступного поведения, схватил Кармапу за палец и исполнил небольшой танец, отмечая таким образом момент принятия данного решения.
Во всем этом, возможно, самым тревожным и очень показательным в части используемого метода были попытки ламы Жанга обосновать свою агрессию с помощью тантрического учения. Хотя использование религиозных догматов для оправдания устремлений к личной власти, получения выгоды и самовозвеличивания являлось обычным явлением в истории человечества, справедливости ради стоит отметить, что в буддизме такое было достаточно редким. Однако, лама Жанг и его ученики, похоже, решили, что не будут придерживаться стандартов поведения окружавшего их мира. Т.е. они приняли на вооружение оправдание своих поступков, впервые сформулированное в Индии сообществом сиддхов и использовавшееся в Тибете Ра-лоцавой и подобными ему деятелями. Это своекорыстное оправдание было основано на идее, что сиддха обладает высшим знанием, и поэтому он выше земных стандартов окружающего его мира. Хотя индийских правителей трудно назвать благонравными, тем не менее у индийцев, как правило, всегда хватило здравого смысла не допускать сиддхов к постам, связанным с политической и военной властью. Свое решение они вполне справедливо обосновывали тем, что у тех, кто ставит себя выше общественного контроля, не будет причин сопротивляться разлагающему влиянию власти. Однако, у тибетцев отсутствовала даже теория разделения религиозного и политического владычества, и поэтому они всегда находились во власти любого воинственного лидера, обладавшего на тот момент ресурсами и вооруженной силой, будь он религиозным деятелем или же светским правителем.
Мы можем оценить трудности, с которыми столкнулись тибетцы, когда увидим, каким образом в те времена обыгрывалась (иногда буквально) тема сиддхов в различных местах У-Цанга. При этом многие популярные религиозные движения (rdol chos) одиннадцатого и двенадцатого столетий никак не могли выбрать конкретную основу своего развития и постоянно дрейфовали между вдохновением, одержимостью, безумием и религиозной практикой. Мартин (Martin) в своей работе анализирует некоторые из этих движений, особо указывая на их популистские вызовы буддистским монастырским центрам14. И даже в самих буддистских учреждениях присутствовали подобные направления, основанные на идеалах сиддхов (как в случае с поведением ламы Жанга). Многие из этих буддистских институциональных движений продолжали свое существование в двенадцатом столетии в южных и центральных районах Тибета, где часто бывали ламы кагьюпы и ньингмы. Например, в фиктивной автобиографии Ньянг-рела Ньима-озера (1124–1192) описывается необычная встреча юноши с тибетским «безумным учителем» (smyon-pa), относящимся к той подкатегории верующих, которая придавали ауре вокруг личности сиддхов специфический тибетский оттенок15.
«В те времена, когда мне исполнилось двадцать лет (1144 г.), я услышал о славе драгоценного ламы Ньонпы Дондена, и во мне возникла особая вера в него. Даже просто входя в его покои, я естественным образом ощущал благословение, исходившее от него. Я попросил традицию Ма жиче и его наставления по более поздней передаче [жиче Джангсема Кунги]. Посреди собрания [собравшегося для этих учений] лама заявил:
“Сейчас передо мной много ученых знатоков Дхармы и практиков, признанных реализованными йогинами. Но твой приход подобен восходу солнца в небе, сияющему на благо всех живых существ”.
Затем он сбросил всю свою одежду, и, обнажившись, схватил меня за руку и начал дико прыгать и танцевать.
“Просыпайтесь, все собравшиеся здесь счастливчики! Предыдущим правителем этой пограничной страны в наши дни является молодой Ньянг с собранными на голове волосами (ral pa can). Предыдущий переводчик ныне переродился в качестве моего безумного Я. Это глубокая кармическая связь через множество жизней. Танцуй, юный Ньянг, с отброшенными назад волосами на голове! Ты переродился на благо всех живых существ, подобный восходу солнца”.
Сказав так, он станцевал свой безумный танец нагишом. Вследствие этого те мои друзья, что раньше относились ко мне с ревностью, теперь говорили, что их потоки бытия созрели, и все они исполнились веры».
По-видимому, это разнообразие поведения являлось исконно тибетским явлением, тематически находясь в континууме с самой необузданной деятельностью индийских сиддхов. Более того, указания на связь Ньонпы Дондена с линией передачи Падампы согласуется с другими источниками, в которых перечислено поразительное количество «безумных» (smyon pa), связанных с системами жиче и чо.
Как тогда, так и сейчас, для таких эксцентричных личностей не было ничего необычного в том, чтобы давать рационалистическое объяснение своему поведению, рассматривая его как естественное проявление деконструкции социальной искусственности перед лицом ошеломляющего опыта постижения абсолюта. Не вызывает сомнений, что для некоторых из них это было именно так. Однако, в равной степени верно и то, что эта защитная реакция не только могла иметь корыстные мотивы, но и способствовала слабо социализированным личностям в культивировании ими чувства обладания особым общественным статусом, а также вовлекала в линию передачи людей с серьезными психическими расстройствами. По этой причине, к середине столетия тантрические пиршества линии Падампы, должно быть, выглядели скорее как группа взаимопомощи амбулаторных пациентов с психическими отклонениями, чем как собрание пробужденных личностей. Хотя такие люди могли выглядеть как некий курьез, на самом деле они были опасной предтечей иного общественного порядка, и призрак легионов священнослужителей, танцующих обнаженными с оружием в руках, похоже, висел как дамоклов меч над лидерами большинства монашеских сообществ тех времен. Ведь создавалось впечатление, что даже простое прочтение агиографии Вирупы прямо потворствует поведению, которому следовали эти безумные тибетские йогины. А на сходство между ламой Жангом и Вирупой указывали некоторые поборники этого воинствующего медитатора16.
К сожалению, в Центральном Тибете не было институционализированного механизма, который бы мог заставить этих людей прекратить свою воинственную деятельность во имя Дхармы. К тому же, насколько я могу судить, у тибетцев даже не было доктринальной системы, на которую можно было бы опереться в случае такого кризиса, хотя на самом деле существовало много того, чем они могли бы воспользоваться. В нескольких разделах сутр махаяны, таких как двадцать первая глава общепризнанной «Аштасахасрика-праджняпарамиты», определяются возможные недостатки поведения бодхисатв17. В ней сам Будда описывает бодхисатв, которые сбиваются с пути, будучи обманутыми Марой и соблазненными собственной гордыней (abhimanapatita). Многие из характерных черт, упомянутых в этом и других текстах, можно было наблюдать и у тантрических учителей, которые возвышали себя над обычной моралью. Однако, проблема заключалась в том, что социальные ограничения в сочетании с вполне понятным опасением за свою личную безопасность, по всей видимости, мешали людям открыто критиковать этих представителей тантрических линий передачи. Кто же захочет противостоять великому ламе с аристократическим клановым происхождением, многочисленными влиятельными связями, великими монастырями, воинственными военизированными формированиями и обширным ритуальным наследием его учителей? Констатировать очевидное – что лама Чжан превратился в патологического тирана – значит высказать сомнение в адрес его коренного ламы, всей его линии передачи и даже самой формы буддизма, на которой зиждется его религиозная позиция. Кроме того, это ставит под сомнение исходные предпосылки процесса духовной легитимации, ниспровергает общепризнанные модели взаимосвязей между духовностью и поведением, а так же в целом противоречит идеологии тантр. Вследствие всего этого, даже спустя долгое время летописцы кагьюпы были склонны приукрашивать поведение ламы Жанга, просто вскользь упоминая некие «нарушения целпы».
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Возможно, что из всех известных нам учеников Гампопы усмирить ламу Жанга наилучшим образам мог только Кармапа I Дусум Кхьенпа (1110-1193). Довольно странным выглядит тот факт, что Дусум Кхьенпа, обладая безукоризненной репутацией и, по всей видимости, высочайшим авторитетом среди своих современников, являлся одним из самых загадочных наставников кагьюпы двенадцатого столетия18. Он родился в восточном Тибете (Кхаме) в неаристократической семье и отправился в У в возрасте восемнадцати лет, точно так же, как это ранее сделал Бари-лоцава, и как в то же самое время поступили Пагмо Друпа и Дрикунг Джиктен Гонпо, а позже и ряд других известных личностей. Дусум Кхьенпа и Пагмо Друпа встретились в Толунге, где они оба обучались у Гьямарпы и его необыкновенно одаренного ученика Чапы Чокьи Сенге. Затем Кармапа отправился в Пен-юл, чтобы поработать там с Па-цап-лоцавой, ярым поборником прасангики двенадцатого столетия. Здесь он пять лет трудился над текстами и освоением медитаций кадампы, а затем приступил к изучению эзотерических линий передачи. Не вызывает сомнений, что Дусум Кхьенпа был хорошо знаком с основными предметами эзотерической программы того времени: системой Аро Великого совершенства, мандалами Хеваджры, Cамвары и Махамайи, а также ламдре. В 1139 году он решил отправиться на поиски Гампопы, однако, первым встретил своего племянника и будущего преемника юного Дакпо Гомцула, который передал Дусуму Кхьенпе ряд учений.
Когда он, наконец, встретил Гампопу, то тот даровал ему некоторые учения. Однако, затем великий наставник мудро решил, что его новому ученику прежде всего необходимо практиковать, и поэтому до самой своей смерти в 1153 году Гампопа, судя по всему, отправлял Дусума Кхьенпу медитировать в различные места по всей территории южного Тибета и даже за его пределы. Он провел некоторое время в Зангри, где жила наставница чо Мачик Лабдрон, потом вернулся на три года суровой практики в Дакпо, затем направился в Олкху, а оттуда в Цанг на обучение к последователям Милы Репы. В конце концов Дусум Кхьенпа был отправлен в южные низины региона Мон – древней территории, естественной границей которой являются реки Ньямджанг и ее приток Таванг и которая ныне разделена между современными Тибетом, Аруначал-Прадешем и Бутаном*. Дусум Кьенпа добился благосклонности царя Мона, и ему было дозволено беспрепятственно перемещаться туда и обратно через границу между Тибетом и Моном. Он практиковал медитацию в местах, где водились тигры, которые до смерти пугали благонравного монаха. После смерти Гампопы Дусум Кхьенпа до конца своей жизни ежегодно отмечал дату нирваны своего наставника. Он установил тесные связи между своими монастырями и родственными центрами Дакпо Кагьюпы, где подобной его деятельностью занимались другие ученики Гампопы. Кроме того, Дусум Кхьенпа основал монастыри в расположенном в Центральном Тибете Цурпу, а также в Кхаме, где он пробыл более десяти лет. В конце концов он вернулся в Центральный Тибет, чтобы поддерживать свою обширную сеть учеников и способствовать устранению различных угроз общественному порядку, подобных тем, что исходили от ламы Жанга.
———————————————————
*Сама территория разделена только между двумя первыми (см. Namka Chu). В Бутане, граница которого расположена несколько южнее, проживает небольшое количество коренных жителей этих мест, народа монпа – прим. shus.
———————————————————
Товарищем Дусума Кхьенпы, вместе с которым он изучал доктрины кадампы и осваивал медитации кагьюпы, был Пагмо Друпа (1110-70). Он родился в семье членов аристократического клана Ва Ве-на (один из вариантов названия клана Ба) в восточно-тибетской области Дрилунг Мешо19. В молодости он потерял родителей и начал свою духовную карьеру, путешествуя с ламами и получая от них учения. В возрасте восемнадцати лет он отправился в У-Цанг, где ему предстояло провести большую часть оставшейся жизни. Его ранняя деятельность в основном была посвящена изучению кадампы и родственных ей систем, а его первая встреча с Дусумом Кхьенпо произошла в то время, когда они оба были учениками Гьямарпы и Чапы в Толунге. Пагмо Друпа принял полное монашеское посвящение в возрасте двадцати восьми лет (1138), после чего решил остаться в Центральном Тибете. При этом в какой-то момент он даже советовал Дусуму Кхьенпе не возвращаться в Кхам, поскольку опасался за жизнь своего друга20. Изучая избранные эзотерические традиции, Пагмо Другпа познакомился с Кхампой Асенгом, который был одним из первых учеников Сачена21. Когда ему было уже за тридцать, Пагмо Друга какое-то время находился в Сакье, где получил от Сачена учение ламдре и соответствующие передачи. Вероятно, это было в 1140-х годах, хотя мы точно не знаем, сколько времени он провел в Сакье, причем вполне очевидно, что после достижения им тридцатилетия он также обучался и у других учителей22. В 1151 году в возрасте сорока одного года он отправился к Гампопе и получил от престарелого учителя наставления в Махамудре. Согласно источникам, практикуя этот путь, он испытал глубокие медитативные переживания23. После смерти своего наставника в 1153 году Пагмо Другпа начал медитировать в дикой местности, со временем соорудив свою знаменитую травяную хижину для медитации в местности, известной под названием Денсатил, где он пребывал с 1158 года до самой своей смерти в 1170 году. Следует отметить, что все «восемь малых» традиций кагьюпы представляют собой ответвления от основы, заложенной Пагмо Друпой.
Постоянно отправляя своих лучших монахов для продолжения медитации в отдаленные сельские местности и на небуддийские территории, кагьюпа по факту превращала их в своих миссионеров. Эта практика была для них одним из важнейших способов распространения своей линии передачи и охвата своим влиянием отдаленных регионов. Когда такие харизматичные личности, как Дусум Кхьенпа или Пагмо Другпа, появлялись на территориях, до этого не посещавшихся монахами сармы, жители сельской местности, прознав о странном святом с завораживающим взглядом, стекались к его обители, чтобы посмотреть, сможет ли этот святой применить свои духовные силы, чтобы помочь им разыскать их крупнорогатый скот или вылечить их детей от болезней. Со временем благодаря тысячам проявлений духовных способностей их религиозное превосходство стало незыблемым, вслед за чем слава медитаторов кагьюпы, а в особенности трех учеников Гампопы: Дусума Кхьенпы, Баромпы и Пагмо Другпы, распространилась и на тангутское государство. Сами тангуты уделяли большое внимание буддизму еще с середины одиннадцатого столетия. Тангутом был и великий ученый Цами-лоцава Сангье-драк, который в начале двенадцатого века способствовал распространению в Тибете системы Калачакры, а также активно продвигал ритуалы Махакалы24. Ученик Цами Га-лоцава пользовался высоким авторитетом у учеников Гампопы, так что к первой половине этого столетия кагьюпа уже установила особые отношения с тангутами25.
Поскольку тангуты были глубоко вовлечены в дела тибетского буддизма на протяжении всего двенадцатого столетия и вплоть до гибели своего государства в 1227 году от рук монголов, то имя Цами (которое носили и другие тангутские ученые), вероятнее всего, является тибетским переложением тангутского этнонима «ся» (xia) с добавлением бхотского персонализирующего аффикса «ми» (т.е. человек из народа ся)26. Индийский пандит Джаянанда после своего пребывания в Центральном Тибете, где он дискутировал с Чапой Чокьи Сенге, был с почетом принят тангутами где-то между 1160-ми и 1180-ми годами и назначен императором Ся Жэньцзуном (1139–1193) «государственным наставником» (guo shi)27. Примерно в это же время был приглашен и Дусум Кхьенпа, вероятно, так же Ся Жэньцзуном, но вместо себя Кармапа прислал своего ученика Цангпопу Кончока Сенге (ум. 1218). По всей видимости, Цангпопа был первым тибетцем, получившим титул «императорского наставника» (di shi), который впоследствии был присвоен и Пакпе в период правления Хубилай-хана28.
После Цангпопы императорским наставником стал другой кагьюпинский учитель, Ти-шри Сангье Речен (1164/65–1236). Ти-шри обучался в линиях передачи баромпы и целпы и, по всей видимости, проживал то в столице тангутов, то в Цел Гунгтанге. В его случае разница с Цангпопой заключалась в том, что, как и Цами-лоцава, Ти-шри, будучи кагьюпинцем по образованию, по национальности являлся тангутом. Все это означало, что располагавшаяся в У школа кагьюпа была достаточно хорошо организована в части установления международных отношений, и именно по этой причине кагьюпинские традиции Кармапы, Пагмо Друпы и Дригунгпы смогли стать в последующем столетии соперниками сакьи в борьбе за внимание монголов. Кроме того, это также означало, что кагьюпа стал очень богатой и необычайно могущественной структурой, намного превзойдя мелочные военные устремления ламы Жанга. Со временем сообщество кагьюпы еще больше расширило свое участие в делах Восточной Азии, включив в сферу своего влияния китайские династии Мин и Цин.
Если учесть все эти факторы, то становится понятным причина возникновения напряженных отношений между кагьюпой и неоконсерваторами в конце двенадцатого – начале тринадцатого веков. По мнению последних идиосинкразические доктрины Гампопы несли в себе давние китайские взгляды еще восьмого столетия, а новый интерес к Восточной Азии казался им ядовитой комбинацией ереси, личных амбиций, устремлений к политической власти и неистовой алчности. Кроме того, они считали, что подтачивание кагьюпой буддийских основ ортодоксальных воззрений (lta ba) и правильной медитации (sgom pa) является предвестникам деградации традиционных норм поведения (spyod pa). Тот факт, что эта довольно пессимистическая оценка лам У и Кхама в основном принадлежала наставникам Западного Тибета и провинции Цанг (или теми, кто имел с ними прочные связи), как правило, добавляла к конфессиональной напряженности еще и географический аспект.
Со временем отдельные наставники кагьюпы взяли на вооружение некоторые идеи неоконсерваторов. Основатель Дригунгпы Дригунг Джиктен Гонпо и его племянник и преемник Он Шерап Джунгне (1187–1217), принадлежавшие к ветви О-трон клана Кьюра, где-то в начала тринадцатого столетия создали учение о «едином намерении» (dgongs gcig), опиравшееся на сочетание синтетического философского видения и неоконсервативных комментариев29. В своих работах они не только подвергали критике некоторые из тех же практик, что позже порицались Сакья Пандитой, но и предпринимали попытку сгладить отдельные различия между учениями сакьяпы, с одной стороны, и Махамудрой, с другой. В какой-то мере это можно понять, поскольку оба эти направления следовали доктрине «тройственной дисциплины» (trisamvara), и оба считали йогические системы сармы вершиной учения Будды. Как и линия Кармапы, Дригунгпа также стала объектом внимания некоторых тангутов30. К сожалению, как раз именно из-за своего сходства эти две системы сармы оказались в одной и той же религиозной нише, в результате чего различные линии кагьюпы и сакьяпы стали скорее конкурентами, нежели партнерами. Не вызывает сомнений, что в тринадцатом столетии эти факторы оказали влияние на успех сакьяпинцев Цанга, а в четырнадцатом способствовали возрождению центрально-тибетской кагьюпы после победы Пагмо Друпы Джангчуба Гьелцена в 1358 году и свержения им гегемонии сакьяпы.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
На фоне все этой кипучей деятельности монастырь Сакья выглядел на удивление стабильным, и даже несколько степенным. Сачен Кунга Ньингпо скончался в Сакье в 1158 году в возрасте шестидесяти шести лет, пробыв на посту главы монастыря сорок восемь лет31. Телесные реликвии Сачена (Илл. 21) как чудотворный объект со временем были помещены в ступу «Пантеона победоносных» (sKu ‘bum rnam rgyal) для почитания всеми теми, кто совершал паломничество в Сакью32. Погребальный обряд Сачена, включавший в себя грандиозную церемонию под названием «Завершение трех времен» (dus gsum khegs so), представлял собой большое религиозное собрание, на котором присутствовало множество известных религиозных деятелей из самой Сакьи и других мест. Подношения, которые затем были сделаны собравшимся монахам, по меркам того времени выглядели грандиозными. Сакья Пандита уверяет, что присутствовавшим на погребальной церемонии священнослужителям было роздано около пятидесяти копий священного писания «Совершенство мудрости в 10 000 строфах», более тридцати копий «Совершенства мудрости из 25 000 строфах» и более восьмидесяти копий «Ратнакута-сутры»33. Эти подношения были столь великолепны, что стали стандартом для посмертных обрядов последующих годов.
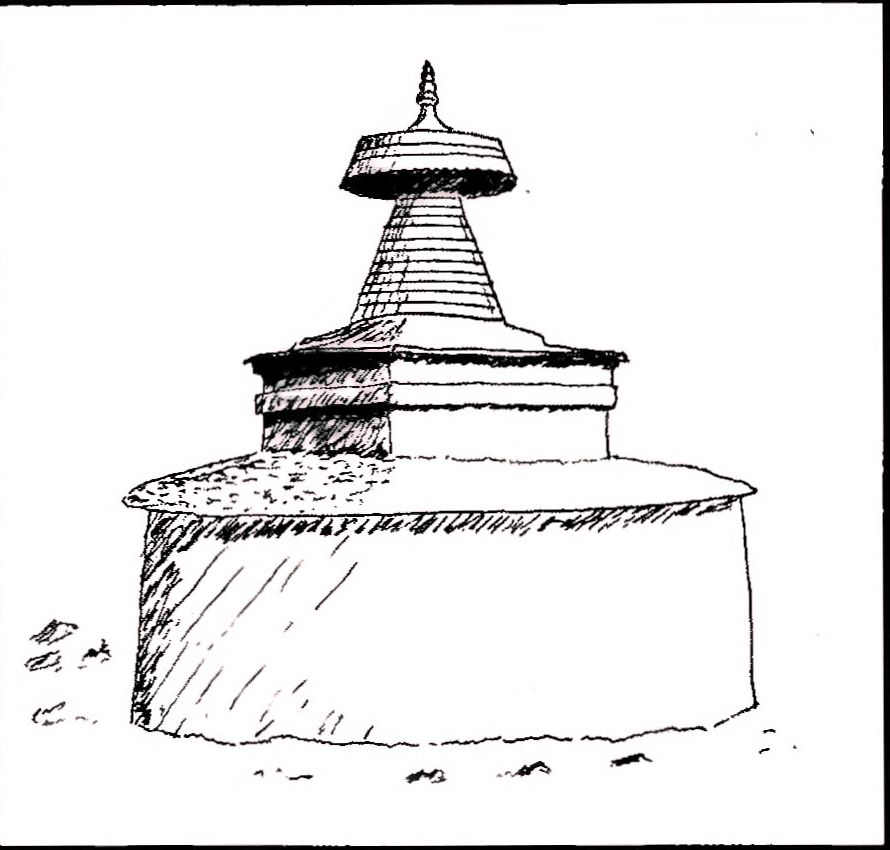 |
|
Илл. 21. Внешний реликварий Сачена. Прорисовка по фотографии Сайруса Стимса
|
Это были времена экспансии Сакьи, которой во многом способствовала активная деятельность как Бари-лоцавы, так и самого Сачена. Помимо двух храмов, возведенных Бари, и ступы своего отца, Сачен построил храм Уце Ньингма и реликварий для своей матери34. Благодаря этим действиям Сакья стала общепризнанным местом паломничества, при этом в Сакье также были достойно представлены и популярные практики, связанные с буддистским культом реликвий. Здесь паломники могли обрести благодать, исходящую от накидки Будды Кашьяпы, летающей маски Ринчена Зангпо, чудотворных статуй, находящихся в ее храмах, телесных реликвий святых праведников клана Кхон, а также живых лам эзотерической традиции35. Так же необходимо отметить, что выдающиеся способности, ученость, энергия и духовность Сачена автоматически проецировалась и на его учеников и юных сыновей.
Ученики Сачена были очень влиятельны и хорошо известны своим современникам. Источники всегда акцентируют свое внимание на группы учеников и на их связь с двумя ранее упомянутыми видениями их учителя. Одним из них был сон Сачена во время подготовительного периода к посвящению, проводимого Гьичувой, в котором фигурировали три моста, перекинутые через огромную реку, окрашенную в мутно-красный цвет. На ближнем мосту находилось множество людей, на среднем – всего семеро, а на последнем – только трое. Все это указывало на то, что у него будет три великих ученика36. Кроме того Жанг Гонпава сказал, что если Сачен займется обучением, то у него будет бескрайнее количество учеников, и среди них будут трое, кто достигнет высшего завершения Великой печати, семи земных бодхисатв и т.д. Следуя этому примеру, хроники ламдре также ранжировали его учеников, традиционно опираясь на всеобщую склонность тибетцев верить в любые слухи о чудесах37. Подобные истории занимают центральное место в восприятии тибетцами своей религиозной жизни, и их достаточно сложно разделить на народное и элитарное мировоззрения. Рассказы о чудесах считались подтверждением (rtags) обладания сиддхи (siddhi), и поэтому агиографы усердно исследовали их, чтобы доказать обладание Саченом дара наделять своих учеников способностью к чудодейственным достижениям.
Таким образом, считалось, что высшего завершения достигли три ученика Сачена: некий йогин из Шри Ланки, Гомпа Кьибарва из Мангхара и Джангчуб Семпах-Так из Лато. Среди других учеников особняком стоит Гатон Дордже-драк из Кхама, и Кхьенце Вангчук (1524-68) считал письмо Дракпы Гьелцена к этому ученику одним из важнейших наставлений в ламдре38. Однако, описывая эту иерархию достижений более поздние авторы по каким-то причинам игнорировали нескольких весьма значимых учеников Сачена. К примеру, геше Ньен Пул-джунгва был одним из самых примечательных последователей Сачена, так как он взял на себя ряд важных обязанностей после смерти своего учителя, а также помогал обучать сыновей Сачена. По всей видимости, он руководил монастырем Сакья в течение трех лет, пока Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен продолжали свое образование. Кроме того, он свел в единый текст несколько разделов самого длинного комментария Сачена к «Коренному тексту *маргапхалы». В Главе 8 геше Ньен Пул-джунгва уже описывался как тот, кто якобы сообщил Дракпе Гьелцену о видениях Вирупы, составивших «короткую передачу», что является признанием высокого авторитета Ньен Пул-джунгвы, даже если данная история кажется апокрифической. Однако, во всех известных списках учеников Сачена этот добродетельный геше упоминается лишь вскользь.
Также практически игнорируется и Пагмо Друпа, который должен упоминаться, как наставник, стоявший у истоков отдельной традиции ламдре и обучавшей ей как дополнению к своей собственной традиции пагмо друпа кагьюпа39. В какой-то момент, когда ему было уже за тридцать, Пагмо Друпа получил от Сачена ламдре и связанные с ним передачи40. Позже Пагмо Друпа вернулся в Сакью (вероятно, в 1154 или 1155 году) и встретился там с Саченом, чтобы подарить ему написанную золотыми буквами копию обширного текста «Совершенства мудрости», а также другие книги и предметы, изготовленные во времена совершения поминальных обрядов по Гампопе41. Ранний источник сообщает, что Сачен и Пагмо Друпа обменялись подарками, при этом Сачен признал драматические перемены в сознании своего ученика, которому, по его мнению, суждено было стать «владыкой Дхармы»42. Известно, что Пагмо Друпа продолжал обучать ламдре в разные периоды своей жизни, вероятно, используя комментарий «Гатенгма» и другие тексты, которые даровал ему Сачен43.
Однако самыми выдающимися последователями Сачена были два его средних сына: Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен, традиционно считающиеся вторым и третьим в ряду пяти великих наставников сакьяпы, который начинается с Сачена и заканчивается Пакпой. Однако в исторических рейтингах этим двум сыновьям также не уделяется должного внимания. Более поздним ученым, таким как Пенчен Миньяк Дракдор, казалось очень странным отсутствие в ранних списках чудодейственных учеников второго сына Сачена Сонама Цемо, и они решили поместить его в совершенно новую категорию, позиционируемую выше всех остальных44. Точно так же Кхьенце Вангчук почувствовал себя просто обязанным улучшить довольно низкое положение Дракпы Гьелцена в традиционном списке (там он фигурировал как бодхисатва, все еще находящийся на мирском пути), поскольку великий ученый считался эманацией бодхисатвы Манджушри, известного в традиции как «учитель пяти будд» и бодхисатва десятого уровня45.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Как и у его отца Кхона Кончока Гьелпо, у Сачена было две жены, однако, мы не знаем, когда он женился первый раз. Вероятно, это произошло достаточно поздно, после того как он закончил обучение у Мел-лоцавы, т.е. когда ему было примерно сорок лет или около того (ок. 1130–1135). Источники приводят на этот счет довольно скудные сведения и лишь упоминают, что он женился на двух сестрах из знатного дома (rje btsad) клана Цамо-ронг46. Первую жену Сачена звали Джохам Пурмо. Она была младшей из двух сестер и родила ему первого из четырех сыновей, которым предстояло продолжить в Сакье линию Кхона. Старший мальчик, носивший имя Кунга-бар, со временем сумел добраться до Индии, где достиг успехов в учебе, став ученым «пяти областей знания»47. Но когда он уже собирался вернуться в Тибет, то подхватил какую-то лихорадку и умер в Магадхе в возрасте двадцати одного года.
К сожалению, в источниках ничего не говорится о побудительных мотивах Кунга-бара, решившего отправиться на обучение в Индию. Однако, мы можем сделать кое-какие умозрительные предположения, исходя из образа жизни его и его младших братьев. Их молодость прошла в особой религиозной среде, сформировавшейся в результате деятельности их отца, полностью погруженного в эзотерическую парадигму. Несмотря на фундаментальность своего образования, Сачен всегда оставался специалистом по ваджраяне, и мы не располагаем ни одним текстом за его авторством, относящимся к тематике философской программы обучения монахов, которая, судя по всему, влекла его сына Кунга-бара. Т.е. мы можем предположить, что целью посещения Кунга-баром Индии было изучение материалов, не входивших в программу обучение сакьяпы. В пользу такого предположения свидетельствует и тот факт, что сразу после смерти Сачена его второй сын Сонам Цемо занялся повышением своего уровня знаний в области философии и религиозной эстетики, являвшихся популярными темами в программах обучения великих индийских монастырей.
Сонам Цемо был старшим сыном второй жены Сачена Мачик Одрон, которая, очевидно, была старшей из двух сестер. Она родила Сачену трех сыновей, которые сыграли ключевую роль в формировании линии Кхон, поскольку помимо Сонама Цемо и Дракпы Гьелцена был еще и самый младший сын Пелчен Опо, ставший отцом великого ученого монаха Сакья Пандиты. Сонам Цемо родился в 1142 г. в Сакье, когда Сачену было пятьдесят лет, и его появление на свет сопровождалось рядом особо благоприятных знамений 48. Очень скоро для всех стали очевидны выдающиеся умственные способности мальчика, и именно это стало причиной того, что со временем он был признан инкарнацией личности, вобравшей в себя качества одиннадцати индийских пандитов, список которых венчал великий экзегет «Хеваджры» Дурджаячандра49. Источники ничего не сообщают об отношениях Сонама Цемо и его старшего брата Кунга-бара. Но если у Сачена первый сын родился, когда ему было от сорока до сорока пяти лет (т.е. приблизительно с 1132 по 1137 годы), а второй – в 1142 году, то эти два мальчика должны были знать друг друга. Также вполне возможно, что Кунга-бар, которому тогда было чуть за двадцать, готовился вернуться из Индии в Сакью по той причине, что узнал о болезни или смерти своего отца. В агиографии Дракпы Гьелцена упоминается, что посмертный ритуал по Кунга-бару выполнялся вслед за аналогичным обрядом, посвященным Сачену, что позволяет предположить, что старший сын умер вскоре после смерти своего отца50. Если все это выглядело таким образом, то решение Кунга-бара отправиться на обучение в Индию и посвятить свою жизнь карьере ученого, вполне вероятно, как-то повлияло и на Сонама Цемо. Однако, какими бы ни были их отношения, все же основное влияние на раннюю жизнь Сонама Цемо оказал его отец, поскольку в юном возрасте Сонам Цемо уже декламировал наизусть некоторые эзотерические писания, в том числе тантры «Хеваджра» и «Самвара». Согласно источникам, к шестнадцати годам он уже знал наизусть четырнадцать таких священных текстов и поэтому некоторые называли его (вероятно, отчасти в шутку) «знатоком эзотерической системы вплоть до самой реки Ганг».
Однако, после смерти Сачена жизнь Сонама Цемо повернула в совершенно новое русло, поскольку сразу же вслед этим он решил пройти обучение у великого знатока эпистемологии и мадхьямаки Чапы Чокьи Сенге51. Как уже говорилось в предыдущей главе, Чапа был великим ученым, а его резиденция находилась в кадампинском философском монастыре Сангпу Нейток, расположенном в У к югу от Лхасы. К сожалению, мы мало что знаем о Чапе и его группе 1160-х годов, т.е. о тех временах, когда Сонам Цемо, вероятно, проводил значительную часть своего времени в Сангпу Нейтоке. Вполне очевидно, что данное учреждение со всей серьезностью относилось к монашескому режиму и считало изучение доктрины махаяны ключевым элементом буддийского пути. Обстановка в этом монастыре, должно быть, отличалась особым благонравием, и он обладал большим влиянием в ученом мире. Вероятно, в том числе и поэтому Сонам Цемо продолжал периодически обучаться у Чапы в течение целых одиннадцати лет (с 1158 по 1169 г.), достигнув несомненных успехов в изучении таких махаянских работ, как «Праманавинисчая» и «Бодхичарьяватара», и превзойдя в этом своего отца.
Опыт и знания, приобретенные Сонамом Цемо в Сангпу, стали ключевым звеном его интеллектуального развития. А хвалебный гимн, написанный им в память о Чапе в Сакье в 1173 году, свидетельствует как о наличии у него чувства долга, так и о преданности своему великому учителю52. Очевидно, что практика «вызова и защиты» (thal-‘gyur; прасангика – прим. shus), постигнутая им благодаря Чапе, стала одним из важных аспектов формирования литературного образа Сонама Цемо. При этом сам Сачен, судя по некоторым утверждениям, в процессе преподавания любил время от времени прибегать к методу вопросов и ответов53. Тем не менее, именно в трудах Сонама Цемо впервые в полной мере представлены формальные методы защиты доктрин ваджраяны. Вполне возможно, что он начал разрабатывать эту тему еще находясь в Сангпу, хотя тамошние философы-монахи, должно быть, порицали этого молодого эзотерика-мирянина за его привязанность к некоторым представлениям и идеям, проповедуемым в тантрах. Ведь Сангпу того времени был одним из тех мест Центрального Тибета, где наиболее ярко проявлялся реформаторский пыл кадампы, в конечном счете выразившийся в открытом осуждении этой школой тантрических заблуждений, приписываемых ею многим индийцам и тибетцам. Этот фоновый дискурс особенно заметен в различных местах ряда произведений Сонама Цемо, когда он встает на защиту своей традиции от неназванных «людей, практикующих совершенства» (кем бы они ни были). Также не вызывает сомнений, что чрезмерное внимание к герменевтике эзотеризма (bshad thabs), присутствующее во всех эзотерических трудах Сонама Цемо, а в особенности в одной из глав его «Основных принципов тантрического канона», посвященной данной теме, отчасти было обусловлено его потребностью разъяснить сущность эзотеризма монахам, являвшимся приверженцами буддийской философской экзегезы и проявлявшим негативное отношение к тантрической лексике.
В деятельности Сонама Цемо прослеживается его постоянная забота о наследии своего отца, что особенно заметно в двух обнаруженных мной документах из его переписки. Первый является короткой запиской, приложенной к мнемоническому конспекту посвящения Найратмьи, написанному Нецо Белтоном незадолго до 1165 года, причем, возможно, еще до смерти Сачена в 1158 году54. В ней Сонам Цемо увещевает Нецо Белтона, указывая ему, что праведные личности подобные ему, как раз лучше всего подходят для проведения такого рода посвящений и приносят пользу учению ваджраяны, которое лучше, чем учение системы шраваков, поскольку ваджраяна не является простым отражением истинной Дхарма в том смысле, как это понимается малой колесницей, а представляет собой саму истинную Дхарму. Хотя из этого раннего письма не ясно, был ли Сачен жив в момент его написания, его кончина окружена особым вниманием во многих других документах, принадлежащих перу Сонама Цемо. В них он указывает на особое значение ритуала завершения устремлений Сачена (dgongs rdzogs), выполняемого каждый год в Сакье во время великих периодов поминовения (dus dran). Кульминацией данных периодов, судя по всему, являлась годовщина смерти Сачена: четырнадцатое число девятого месяца лунного календаря. Данный обряд, по-видимому, был самым выдающимся событием каждого года, и даже если геше Ньен Пул-джунгва и другие ученики Сачена были главными устроителями этого ежегодного празднования, то, вполне очевидно, что центральной фигурой самой ритуальной церемонии всегда являлся сам Сонам Цемо. К примеру, в конце панегирика учителям своей линии он отмечает, что в год обезьяны (несомненно, в 1164) Сонам Цемо во время этого ритуала сделал подношения девятистам монахам55.
В более пространном письме Гьягому Цултрим-драку, отправленном в следующем (1165) году, Сонам Цемо пытается сбалансировано выразить свою преданность отцу, благодарность своим учителям и покровителям (поскольку Гьягом Цултрим-драк, похоже, был и тем, и другим), а также свой интерес к собственному обучению56. При этом ритуал ежегодного празднования нирваны Сачена был для него настолько значим, что в этом письме Сонам Цемо упоминает о нем дважды. Во втором из упоминаний раскрывается вся глубина его чувств, связанных с этим празднеством, которое продолжает устраиваться в монастырях сакьяпы и по сей день. Он пишет, что порожденные этим событием блаженство и вера были настолько сильны, что не оставили ему времени на внесение правок ни в одну из двух работ, которые он ранее посылал Гьягому Цултрим-драку. Его почтенный корреспондент ранее прислал ему несколько подарков, в частности ткань для одежды, а в ответ Сонам Цемо послал ему ряд особо значимых для них обоих предметов. Вместе с письмом он отправил кожаную коробку с поясом, который носил Сачен, несколько пилюль из красного порошка, которые, как считается, принадлежали Наропе, а также краткий конспект посвящения Найратмьи (bDag med ma i dbang gi tho yig) и недавно сочиненную им поэму, восхваляющую его отца (rJe sa chen la bstod pa). Кроме того, в письме Сонам Цемо горячо извиняется за отдельные недочеты своей поэмы, а также за отсутствие в ней утонченности. В этих сожалениях о недостатках своего творчества мы видим проявление его внимания к нормам создания поэтических образов и принципам стихосложения, которые тибетцы заимствовали у Индии. Поскольку в хвалебном гимне Чапе, написанном Сонамом Цемо, особое внимание уделяется поэтической сообразности, можно предположить, что поэтическая критика входила в учебную программу Сангпу и, возможно, даже изучалась довольно подробно57. Хотя современные ученые всячески подчеркивают роль Сакья Пандиты во внедрении поэтических стандартов, изложенных в работе индийского критика Дандина, вполне очевидно, что примерно за шестнадцать лет до рождения Сакья Пандиты Сонам Цемо уже активно интересовался принципами поэтической композиции58.
Из этого письма со всей очевидностью следует, что Сонам Цемо поддерживал постоянные взаимоотношения со старшими учениками Сачена, а они всячески способствовали намерениям братьев следовать по стопам своего отца. В нем Сонам Цемо подтверждает, что предыдущим летом и геше Ньяк, и геше Ньен Пул-джунгва выступили в роли его советников, помогая ему в сочинении поэмы, восхваляющей его отца. Гьягом Цултрим-драк также приложил к этому руку, поскольку он, похоже, был не только его учителем тантры, но и выступал в роли редактора поэтических произведений молодого человека. Помимо этого, Сонам Цемо упоминает, что намеревается вернуться в У в начале следующего (1166) года, вероятно, чтобы продолжить учебу в Сангпу у Чапы. Также он пишет, что если бы по пути он встретился с Гьягомом, и его учитель (к которому он обращался с почтительной ласковостью, называя его «старый отец» (a-po)) помог бы ему устранить некоторое недопонимание, касающееся наставлений по медитации и тантрам, то он бы испытал чувство глубокого удовлетворения.
Хотя мы и не располагаем другими столь же всесторонними источниками, касающимися Сонама Цемо, в целом данное письмо достаточно информативно, чтобы нарисовать портрет ученика, осознающего свои недостатки и ищущего помощи у доверенных учителей и старейшин общины. Он явно набожен и продолжает обучение не просто из чувства долга, а по причине глубоко укоренившейся в нем приверженности традициям. При этом Сонам Цемо буквально разрывается на части между своими обязанностями в Сакье и учебой в У. Однако, тяга к карьере ученого все же заставила его находиться вне Сакьи на протяжении большей части его взрослой жизни (похоже, что он возглавлял свою общину всего лишь три года). Как нам сообщает ученый Аме-шеп, живший в более поздние времена, его стремление к знаниям было столь велико, что к двадцати шести годам он уже заслужил прозвище «Великое древо жизни учения в этой системе миров»59. Некоторые источники пишут о том, что в один из периодов своего пребывания в Сакье (в 1169 году) он обучал ламдре в Старой резиденции (gZims-khang rnying-ma), и это практически все, что мы знаем о его преподавательской деятельности. В связи с этим мы можем задаться вопросом: а уделял ли он вообще серьезное внимание обучению личных учеников, ведь это было заботой его младшего брата60. К сожалению, лишь в немногих работах Сонам Цемо указана дата их написания (см. Таблицу 8).
Таблица 8. Датированные работы Сонама Цемо
|
Текст
|
Дата завершения
|
|
rJe sa chen la bstod pa
|
1164
|
|
rGya sgom tshul khrims grags fa spring pa
|
1165
|
|
Chos la ‘jug pa’i sgo
|
1167/8
|
|
Yig ge’i bkfag thabs byis pa bde bfag tu ‘jug pa
|
1167 (or 1179)
|
|
sLob dpon Phya pa fa bstod pa
|
1173
|
|
dPal kye rdo rje”i rnam par bshad pa nyi ma’i ‘od zer
|
1174
|
|
Sam pu ta’i ti ka gnad kyi gsal byed
|
1175
|
Следует признать, что мы не в состоянии проследить в деталях интеллектуальную эволюцию Сонама Цемо. Однако, вполне очевидно, что опыт, приобретенный им в процессе работы с Чапой, сыграл очень важную роль в написании им ряда педагогических наставлений, в том числе комментария к «Бодхичарьяватаре» и «Руководства для начинающих по ритуальной практике и продвижению на пути», которые, по всей видимости, были созданы в 1160-х или начале 1170-х годов. Также вполне вероятно, что незаконченные «Основные принципы тантрического канона» были задуманы и частично написаны им в конце 1160-х или в самом начале 1170-х годов, поскольку в комментарии 1175 года к «Сампуте» указывается, что темы герменевтики и практики уже рассматривались в другом месте, что, несомненно, является отсылкой к изложению этих тем в третьей и четвертой главах его «Основных принципов»61. В целом, немногочисленные намеки, присутствующие в отдельных сочинениях Сонама Цемо, указывают на его все возрастающую вовлеченность в изучение эзотерического корпуса, с выявлением его центральных тем, обозначением пределов его применения соответствующими ритуальными заявлениями, отсутствовавшими в творчестве его отца, и постепенным внедрением его в основное направление монашеской практики сакьяпы.
В этом вопросе на Сонама Цемо, вероятно, оказали влияние его взаимоотношения с новоявленным бродячим пандитом ачарьей Шри Анандагарбхой, который был то ли индийцем, то ли непальцем. Не вызывает сомнений, что устные разъяснения Анандагарбхи практики Хеваджры, приписываемой Сарорухаваджре, использовались Сонамом Цемо в качестве источника при написании собственного комментария к данной садхане. Однако, эти двое ученых, по всей видимости, столкнулись с некоторыми языковыми трудностями, поскольку Сонам Цемо признавал, что в его трактовках может присутствовать ряд неясных моментов62. Если он действительно какое-то время работал с индийцем или непальцем, то этим можно объяснить, почему он в одном случае подписывал санскритский перевод своим обычным именем Пуньягра, а в другом использовал полученное им при посвящении санскритское имя Двешаваджра (Dvesavajra: Zhe-sdang rdo-rje). Но Сонам Цемо, безусловно, и ранее интересовался санскритом, поскольку он включил раздел, посвященный произношению мантр, в свое «Простое руководство по произношению букв» 1167 года63.
Смерть Сонама Цемо в возрасте сорока лет в 1182 году, должно быть, стала шоком для общины сакья, хотя мы даже не можем точно сказать, где он умер. В одной из своих работ Аме-шеп приводит агиографическую историю, посвященную этому события, источником которой считаются некие примечания к панегирику Дракпа Гьелцена своему брату. В ней сообщается, что Дракпа Гьелцен однажды пришел домой и обнаружил груду пустой одежды, что явственно указывало на то, что его брат вознесся в небесные миры, не покидая своего тела. В дополнение к этому, иногда пишут, что одежда гудела, издавая необычный шум64. В отдельных источниках утверждается, что «старой женщине из Сакьи» было видение, что Сонам Цемо взлетел в воздух верхом на суке над скалой в западной части Чумика Дзинхи. При этом и святой, и его собака оставили отпечатки своих рук (и лап) на этой скале. Некоторые из них сообщают, что Сонам Цемо действительно умер в Чумике Дзинкхе, в то время как другие утверждают, что он скончался в старой библиотеке Горума, первом здании, построенном его дедом в Сакье, где хранились рукописи на санскрите. Таким образом, подобно пустым одеждам из приведенной выше истории или полым отпечаткам лап на скале Чумика, финальное повествование о Сонаме Цемо оставляет после себя ощущение полного исчезновения своего главного героя. Мне думается, что это было связано с тем, что первоначально он не был включен в списки учеников своего отца, и поэтому никто даже не подумал записать точное место его кончины. Поэтому, несмотря на его талант и преданность традиции, потребовались усилия гораздо более поздних наставников сакьяпы, восстановивших его наследие и выведших Сонама Цемо на свет из тени, отбрасываемой его отцом и младшим братом.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Самым впечатляющим из произведений, посвященных жизнедеятельности Дракпы Гьелцены, является его собственная работа с записями религиозных снов под названием «Сны владыки» (rJe btsun pa’i mnal lam). В ней он подробно излагает содержание снов, которые видел в возрасте семнадцати (1164/65), восемнадцати (1165/66), девятнадцати (1166/67), тридцати шести (1183/84, после смерти Сонама Цемо), сорок восьми (1195/96), шестидесяти (1207/08) и шестидесяти шести (1213/14) лет96. Некоторые из них были аллегорическими, как например, сон в возрасте сорока восьми лет, который он считал пророчеством о себе и своих учениках. Другие были в большей степени мифическими или даже содержали доктринальные наблюдения. Ниже приводится описание первой части сна, который он видел в возрасте шестидесяти шести лет:
«[Белтон Сенге Гьелцен пишет:] Обычно, когда Джецун [Дракпа Гьелцен] видел сон, он встречался со своими учителями, чтобы прояснить различные сомнения, которые у него возникли:
В очередной раз, в возрасте шестидесяти шести лет, я увидел сон на рассвете по прошествии шестого числа девятого месяца, который является последним месяцем осени. Я встретился с Великим ламой (Саченом) и задал вопрос, и его ответ прояснил многие мои сомнения относительно пути. Затем он сказал: “Итак, что ты думаешь? Что лучше: тело наслаждения (sambhogakaya) Будды или его явленное тело (nirmanakaya)?”
Я ответил, что в основном Победоносный бык (то есть Будда) источает явленное тело на благо других, так что в действительности в эманациях Будды нет места ни добру, ни злу. Если это проявление кажется хорошим или плохим, то это просто магическое представление, а в таком случае не лучше ли тело наслаждения?”
Он ответил: “Сын, именно так! Ты понял!”»97
Далее в этом же сне Сачен появляется в окружении восьми великих бодхисатв, демонстрируя таким образом свою сущностную идентичность с Шакьямуни и восемью архатами, с одной стороны, и мандалой Хеваджры и восемью богинями, с другой, а в итоге растворяет их всех в себе. Мораль этого сна, не упущенная ни Дракпой Гьелценом, ни линией сакьяпы в целом, заключалась в том, что Сачен Кунга Ньингпо был образцовым наставником, олицетворявшим собой всю подлинно буддийскую традицию, будь то обеты шраваки, бодхисатвы или видьядхары, в совокупности являвшие собой тройственный обет (trisamvara), столь значимый для тибетского буддизма.
Один из снов, приобрел особую значимость для более поздних авторов сакьяпы и в семнадцатом столетии получил название «Самая короткая передача» (Shin tu nye brgyud)98. Как уже указывалось в Главе 8, формализация «короткой передачи» (Lam ‘bras nye brgyud) впервые произошла в середине тринадцатого столетия, по всей видимости, вследствие апокрифической переработки необычайно богатого текстового и медитативного материала, посвященного видению Вирупы Саченом. Однако видение Дракпы Гьелцена своего отца выглядело более осязаемым, поскольку стих, который, как считается, был ему передан, приводится Сакья Пандитой в агиографии своего дяди, написанной им сразу после смерти Дракпы Гьелцена в 1216 году99. Неясно, когда имело место указанное видение, поскольку в хронике Нгорпы пятнадцатого столетия говориться, что это случилось через тридцать шесть лет после смерти Сачена, то есть примерно в 1194/95 году, тогда как более поздние авторы настаивают на том, что данное событие произошло на пятьдесят пятом году жизни Дракпы Гьелцена (1202/3)100. А в агиографии Сакья Пандиты оно следует непосредственно за пророческим сном, имевшим место на тридцать шестом году жизни Дракпы Гьелцена (1183/84)101. Сакья Пандита сообщает, что Дракпа Гьелцен предстал перед своим отцом в божественных мирах, и что старый наставник сначала отпустил собравшихся там других своих учеников, а затем произнес:
«Сын, послушай меня, я собираюсь обобщить все разъяснения Дхармы, как она есть!
Настоящий мастер бодхичитты
Сначала займет свое место в абсолютной реальности,
А затем схватит в горсть элемент ветра.
Он со знанием дела порождает огненные переживания психического тепла,
Так чтобы вязкая бодхи[читта] потекла по центральному каналу,
И укротит элемент земли и другие элементы.
Столкнувшись лицом к лицу с пятью формами мистического знания,
Он обретет статус бессмертия!»102
Это краткое изложение учений на деле является частью более обширного утверждения, согласно которому кхоновская линия превосходит все другие линии передачи ламдре, поскольку в их линии духовность передается по самому короткому пути, избегая промежуточные поколения. При этом сама линия передачи с временем приобрела следующий вид: Вирупа > Сачен Кунга Ньингпо > Дракпа Гьелцен > Сакья Пандита > Пхакпа > Хубилай-хан. Поэтому неудивительно, что к концу тринадцатого столетия, когда сакьяпа уже утвердила свое первенство в политической и духовной жизни Тибета, кхоновская версия ламдре заняла господствующее положение в Центральной и Восточной Азии.
Дракпа Гьелцен умер в возрасте шестидесяти девяти лет, а до того у него была еще одна череда снов и видений, в которых предсказывалось его будущее и время его кончины. В возрасте тридцати шести лет он мечтал, что в конечном счете переродится в *Суварне – небесной сфере, расположенной на невообразимом расстоянии к северу от нашего мира – в качестве вселенского завоевателя *Гунапарьянты. Сакья Пандита пишет, что к концу жизни Дракпу Гьелцена посещали дакини и герои, которые подтверждали, что он развил духовность единства между внутренними и внешними качествами взаимозависимого происхождения в том виде, как это понимается в ламдре. Множество раз у него были такие видения, и множество раз Дракпа Гьелцен отправлял обратно небесных героев и дев, каждый раз настаивая на том, что он еще не готов перейти в чистые сферы. В конце концов, он не смог больше откладывать смерть и ушел в земли блаженства. Сакья Пандита отметил, что, хотя о его кончине возвестили духовные существа, после его смерти наступили времена несчастий. Ведь говорят, что
«… когда такое Великое существо уходит в нирвану, все накопленные им заслуги, разделенные между живыми существами, полностью истощаются. Все территории, не испытовавшие при жизни прежних людей пагубных лет, внезапно оказываются под воздействием мороза, града, сильных ветров и чудовищных дождей. Различные виды живых существ будут тяжело поражены всевозможными болезнями. Мир станет непригодным для жизни из-за социального хаоса и инфекционных заболеваний»103.
Вплоть до самой своей кончины в 1216 году Дракпа Гьелцен считался некоторыми тибетцами земной эманацией наставника пяти будд бодхисатвы Манджушри. Со смертью четвертого и последнего сына Сачена эпоха наставников-мирян в качестве глав престижных монастырей, населенных монахами, по большей части ушла в прошлое. С этого времени эталоном, на который равнялись все другие формы духовности, стал только полностью ординированный монах.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Мало того, что Сонам Цемо и Дракпа Гьелцен были близки по возрасту и связаны общей судьбой, но и в своем творчестве они действовали тандемом как истинные братья. Это можно признать беспрецедентным явлением в тибетской литературной жизни, и, возможно, в дальнейшем ничего подобного никогда не встречалось вплоть до совместной работы в семнадцатом столетии ньингмапинцев Ургьена Тердака Лингпы и Ло-чена Дхарма-шри. Не вызывает сомнений, кто был лидером в этих отношениях, поскольку Сонам Цемо сильно рисковал, погружаясь в неизведанный мир Сангпу Нейтока и оставляя своего брата работать с членами окружения Сачена. А Дракпа Гьелцен, похоже, считал себя ведомым, признавая ведущую роль своего брата и неоднократно заявляя о своем долге перед ним как братом и учителем. Тем не менее, было бы заблуждением как-либо принижать младшего брата перед старшим, поскольку Дракпа Гьелцен прожил почти на тридцать лет дольше своего старшего брата и в течение этого времени продолжал пополнять литературное наследие, сохранявшееся в монастырях сакьяпа до середины двадцатого столетия. Их совместное влияние на литературный облик сакьяпы выглядит просто подавляющим. К примеру, наставники из нгорпы говорили мне, что настоятель их элитного монастыря в Цанге был обязан знать наизусть четыре основополагающих произведения: одно Сонама Цемо, одно Сакья Пандиты и два Дракпы Гьелцена104.
Это не означает, что работы двух братьев были настолько похожи, что их невозможно было отличить, хотя каждый из них порой дополнял, а иногда и продолжал тему другого, придерживаясь при этом как его стиля, так и содержания. Однако, если произведения Сонама Цемо отличались особой заботой о соблюдении индийских стандартов стиля и вниманием к нормам стихосложения, а работы Сакья Пандита были известны своей неоконсервативной приверженностью индийской ортодоксальности, то сочинения Дракпы Гьелцена славились своей легкостью для понимания и доступностью105. Действительно, из всего наследия сакьяпы двенадцатого и тринадцатого столетий единственными произведениями, сохранившимися в памяти тибетского народа, являются песни постижения, сочиненные Дракпой Гьелценом, и «Сокровищница благонравных высказываний» Сакья Пандиты (Sa skya legf bshad gter) (этакий тибетский «Poor Richard’s Almanac»). Я видел их довольно свежие современные издания и слышал, как тибетцы декламируют стихи из обоих этих произведений.
Самой сложной задачей, за решение которой взялись эти братья, была комплексная адаптация ламдре к реалиям тибетской действительности. Как мы уже знаем, «Коренной текст *маргапхалы» представляет собой узкоспециализированное, во многом загадочное и при этом детально формализованное изложение внутренних йогических систем, являвшихся ключевой составляющей культуры сиддхов раннесредневековой Индии. Более того, все девять циклов практики (lam skor dgu), изначальным держателем которых был Дрокми и которые в таком виде передавались членами клана Кхон, отражали именно этот вид йогической техники. Данные системы возникли в среде, проникнутой культурой странствий и личных прав на источники духовности, поэтому в процессе развития они без труда порождали такие явления, как «безумная» линии преемственности Падампы или радикальные поступки ламы Жанга Ю-драк-пы. В целом, культура сиддхов редко способствовала развитию сильных буддистских институтов, поскольку это являлось прерогативой институционального эзотеризма. Это более позднее движение создавало и поддерживало свои институции посредством сакрализации иерархических отношений и саманта-феодализма в ритуальной системе буддийской мандалы и обрядах посвящения для вхождения в такие мандалы. Хотя системы сиддхов также использовали мандалы, их конечной целью было уничтожение, оставление практикующим, деконструирование или же изменение первичного смысла этих представлений, поскольку в их понимании они являлись прямым отображением институциональной идеологии, которую сиддхи считали низшей по отношению к своим собственным внутренним йогическим процессам и порождаемым ими психическим способностям.
В противоположность этому система тибетских аристократических ценностей была нацелена на защиту институционального долголетия, поскольку в сознании тибетцев еще были свежи вспоминания о хаосе начала периода раздробленности. Тем не менее, принимая на вооружение йогические системы, кланы получали огромную выгоду, поскольку их религиозный престиж, харизматичная сложность, а также привносимый ими образ могущества и авторитета проецировались на всех их последователей из числа членов данного клана. Кроме того, тибетцев всегда приводили в восторг повествования о безумных поступках и чудесных явлениях, поэтому можно сказать, что магический компонент религиозной жизни уже настойчиво стучался в двери консервативной Сакьи. Однако, процесс адаптации требовал, чтобы любое поведение, способствующее институциональной нестабильности укрощалось, пресекалось, ниспровергалось, интерпретировалось нужным образом или просто отвергалось. Это «институциональное одомашнивание» было осуществлено с помощью нескольких очень мощных средств, которые мы далее рассмотрим в порядке их значимости.
Наставники ламдре считали, что главная роль в учении принадлежит агиографиям, поскольку жития святых праведников помимо прочего содержат в себе и описания йогических практик. Агиография Сарорухаваджры за авторством Сачена является одним из самых ранних сохранившихся жизнеописаний этого индийского святого подвижника. Сонам Цемо контекстуализировал изучение Дхармы в свете общепризнанного повествования о жизни и деятельности Будды, а также посвятил одну из своих работ индийской линии передачи Амогхапаши106. Кроме того, он является автором короткой, но очень значимой для традиции агиографии Бари-лоцавы, с которым он сам никогда не встречался. Совместно с Дракпой Гьелценом им также были записаны самые ранние из сохранившихся до ныне генеалогий старой династии и ранняя генеалогия клана Кхон107. Дракпа Гьелцен тоже преуспел в искусстве составления жизнеописаний: его повествование о жизни и деятельности Вирупы стало основополагающим вариантом этой истории, с которым впоследствии сопоставлялись все остальные подобные произведения. Помимо этого, его перу принадлежат довольно обширные материалы о Канхе и линиях передачи Чакрасамвары, а также заметки о сиддхах и их практиках. Отдельно следует отметить, что работы Дракпы Гьелцена представляют собой настоящий кладезь любопытных сведений об Индии тех времен108. Он также является автором наиболее полного раннего списка распространения общин Восточной винаи (sde-pa/tsho) по провинции Цанг начиная с десятого века, а также описания связей этих групп с монашескими сообществами Индии109. Что касается линии ламдре в Тибете, то Дракпа Гьелцен представил предварительные наброски историй о Дрокми, Сетоне и Жанге Гонпаве (см. перевод «Хроники Тибета: линия наставников» в разделе 5.2 данной книги), а также написал первую часть повествования о жизни своих деда и отца.
Агиографии, сопутствующие специализированной литературе учений сиддхов, такие как, например, история Вирупы, являющаяся неотъемлемой частью ламдре, представляют этих йогинов личностями, преисполненными враждебности по отношению к небуддистам и предающимися различным развлечениям, но в тоже время считают их монахами, причем даже в тех случаях, когда ортодоксальные буддистские священнослужители изгоняли их из своих монастырей. Видимо по этой причине в сакьяпинских агиографиях в конечном счете все же все наступает торжество гражданских добродетелей. Авалокитешвара обуздал Вирупу, имевшего дурную славу разрушителя индуистских священных мест, и заставил его прекратить эту деструктивную деятельность. Гаядхара, солгавший Го-лоцаве о своей личности, в конце концов все же был разоблачен. Дрокми, не в силах выплатить свой долг Гаядхаре, заручился помощью Зура Шакьи Джунгне, обменяв одно из очень значимых учений на чистое золото.
К этим социальным и повествовательным факторам можно добавить тот факт, что ламдре не имело обязательной привязки к какой-либо конкретной мандале. В комментариях Сачена признается, что данный текст можно использовать как с мандалами Чакрасамвары, так и Хеваджры, хотя он и не во всем согласуется с йогическими системами, предписанными этими тантрами. На самом деле, популярность во второй половине одиннадцатого столетия кратких содержательных наставлений по медитации отчасти объяснялась тем, что эти тексты позиционировались как более целенаправленные и в некотором смысле превосходящие по своей действенности сами тантры. Таким образом, тантрические мандалы просто служили учебными пособиями, своего рода инструментами на пути медитации и практик, связанных с низшим посвящением. В противоположность им, йогические трактаты представали траекторией освобождения, летящей звездой, которая уносила йогина прямо в центр космоса. Грандиозные схематические представления визуализируемых внешних мандал могли способствовать вступлению йогина на путь бодхисатвы, но только формы высшей йоги являлись для него проводником в оплот самого Ваджрадхары.
Но для того, чтобы ламдре окончательно укоренилось в Сакье, его было необходимо встроить в некую церемониальную сферу, где были бы четко сформулированы ритуальные требования и поведенческие ограничения, налагаемые на практикующих это учение. Согласно хронике четырнадцатого столетия, самое первое собрание текстов ламдре появилось на свет в результате того, что Сачен поместил свой заключительный комментарий к «Коренному тексту *маргапхалы» под названием «Ньягма» вместе с несколькими короткими медитативными работами в специальный книжный шкаф из козьей шкуры, запиравшийся на замок. По этой причине, это изначальное собрание текстов стало называться «Саг-шубма» (Sag-shubma, Ящик из козьей шкуры)110. Сачен, вероятно, был знаком с подобным собранием, хранившимся у его наставника Жанга Гонпавы, однако, традиция отрицает, что Сачен когда-либо получал данные материалы, хотя в действительности эта группа текстов могла быть преподнесена ему вдовой Жанга Гонпавы.
Как бы то ни было, на данный момент мы не располагаем достаточными свидетельствами, которые бы позволили нам оценить традицию, основанную на материалах «Ящика из козьей шкуры». Однако, в собрании сочинений наставников сакьяпы сохранилась еще одна подборка медитативных произведений Сачена, что служит подтверждением практики Сачена составлять сборники своих текстов. Речь идет о «Четках из драгоценных камней, драгоценном собрании наставлений сакьи» (dPal sa skya pa’i man ngag gees pa btus pa rin po che’i phreng ba), включающем в себя сокращенные описания сорока девяти практик, который в общих чертах был рассмотрен в Главе 8111. Уже намного позже времен Дракпы Гьелцена традиция отказывалась признавать значимость этого весьма специфического сборника, однако, результаты исследований одиннадцати комментариев, приписываемых Сачену Кунге Ньингпо, указывают на то, что некоторые из этих сокращенных описаний практик, судя по всему, были инкорпорированы в его экзегезу «Коренного текста *маргапхалы»112. Также вполне очевидно, что это собрание сорока девяти текстов имело определенную значимость и для Дракпы Гьелцена, поскольку он, основываясь на прецеденте своего отца, составил свой собственный сборник, состоящий из тридцати двух коротких текстов113.
В буддистских медитативных традициях такого рода сборники имели давнюю историю и по факту являли собой изложение в сжатой форме основной сути канонических материалов. Особое внимание таким компендиумам уделялось в медитативных системах, где часто наблюдалось объединение ритуальных, медитативных и экзегетических материалов в единый текст, имевший чрезвычайную значимость для данного направления. Более того, другие линии передачи также оказались вовлечены в подобные процессы, и именно в эти времена по тем же самым причинам кадампа начала составлять свою собственную «Книгу кадампы» (hKa’ gdams glegs ‘ham)114.
Независимо от того, какие ранние сборники материалов ламдре существовали в действительности, для нас самым ранним из них является сохранившаяся до наших времен «Желтая книга» Дракпы Гьелцена. На наше счастье, этот текст дошел до нас в том виде, как он был задуман его создателем, поскольку состав и порядок следования частей в «Желтой книге» соответствует краткому «Содержанию компендиума» (gLegs ham gyi dkar chags), помещенному в ее начало. Дракпа Гьелцен так сформулировал свою цель написания «Содержания»: «Для того, чтобы исключить увеличение или уменьшение [количества] работ, включенных в этот том, я написал это оглавление»115. Для своего сборника Дракпа Гьелцен привлек материалы из нескольких источников, а название «Желтая книга» является ее обиходным прозвищем, возникшим из-за того, что оригинал рукописи был завернут в желто-золотистую ткань116. Сам Дракпа Гьелцен с юмором признает свою леность, проявленную им при создании «Желтой книги»: только когда половина первой ее версии была случайно утрачена, он, наконец, собрался и закончил «Содержание», причем главным побудительным мотивом для него стали постоянные просьбы об этом его заносчивого, невысокого, толстого, но очень умного ученика Шакья-драка117. Поскольку его автокомментарий к своему стихотворному рассуждению о нераздельности существования и нирваны (Rin chen snang ha shlo ka nyi shu pa’i rnam par ‘grel pa) датирован 1212 годом и упоминается в его же «Содержании», то оно, должно быть, было составлено где-то между 1212 годом и кончиной Дракпа Гьелцена в 1216 году. Таким образом, «Желтая книга», как это указано в «Содержании», являлась итоговой работой всей его жизни, которую он посвятил обучению ламдре.
Из всех известных мне материалов «Содержание» Дракпы Гьелцена действительно является самой ранней работой подобного рода. По своей сути это самодостаточный, составленный в виде отдельного текста перечень коротких произведений, объединенных в единое целое в соответствии с неким духовным планом и обретших неоспоримую аутентичность благодаря тому, что посредством их реализуются его сокровенные идеи. Позднее в Тибете было продолжено создание тщательно проработанных каталогов подобных компендиумов. К примеру, они присутствуют в работах кхамских писателей конца девятнадцатого и начала двадцатого столетий Джамьянга Лотера Вангпо и Конгтрула Лотро Тайе, чьи высказывания о ритуальных сборниках и принципах их организации являются весьма поучительными118. Однако, если говорить о начале тринадцатого столетия, то для тех времен эта работа Дракпы Гьелцена явно казалась новаторской.
На самом деле «Содержание» полностью не исключает незначительные корректировки самого сборника, хотя в нем и содержится утверждение, что целью его создания было предотвращение подобных действий. Оно включает в себя высказывание, согласно которому можно не обращать внимания на тексты разделов IV и VIII, что, по всей видимости, и происходило на практике. Однако, соблюдение этих ограничений явно не входило в планы более поздних редакторов. Все современные издания «Желтой книги» далеки от того, чтобы следовать заветам Дракпы Гьелцена, и на самом деле содержат гораздо большее число материалов, чем он предписывает в своем «Содержании», причем точный перечень текстов, входящих в состав сборника, является предметом споров, как минимум, с семнадцатого столетия119. Каким бы ни были состав и порядок следования материалов в различных рукописных и печатных версиях, в «Содержание» указывается на обязательное присутствие следующих разделов:
|
Категория
|
Порядковый номер текста
|
Страницы в LL II
|
|
I. Содержание «Желтой книги»
|
1 автор Дракпа Гьелцен
|
1-8
|
|
II. «Коренной текст» и «Ньягма»
|
2 – 1 припис. Вирупе; 1 автор Сачен
|
11-19, 21-128
|
|
III. gsal ba’i yi ge nyi shu rtsa gsum
|
24: 13 автор Сачен (плюс «Асенгма» становится 14); 10 автор Дракпа Гьелцен
|
128-91
|
|
IV. gsung ba’i yi ge dum bu bcu bdun (присутствует не все)
|
17: автор Сачен; 2 автор Сонам Цемо; 12 автор Дракпа Гьелцен
|
191-292
|
|
V. lam bring bsdus
|
2 автор Сачен
|
292-99
|
|
VI. gzhung shing chen po bzhi
|
4: 2 или 3 автор Сачен; 1 или 2 автор Дракпа Гьелцен
|
300-32
|
|
VII. rtogs pa bskyed pa’i chos lnga
|
5: 4 или 5 автор Сачен; 1 или ничего автор Дракпа Гьелцен
|
323-44
|
|
VIII. dpe chung (присутствует не все)
|
9: 6 автор Сачен; 3 автор Дракпа Гьелцен
|
481-581
|
|
IX. bla ma brgyud pa’i lo rgyus
|
2 автор Дракпа Гьелцен
|
581- 99
|
Благодаря «Содержанию» мы можем представить данный сборник в виде совокупности девяти крупных разделов, игнорируя при этом включения из более поздних материалов120. Первый раздел – это само «Содержание» (I). Далее следует «Коренной текст *маргапхалы» и его комментарий «Ньягма» (II) (такое соседство, возможно, стало одним из ключевых факторов, способствующих устойчивой популярности «Ньягмы»)121. Следующий крупный раздел (III) включает в себя двадцать три короткие работы, разъясняющие отдельные части «Коренного текста *маргапхалы» и заканчивается «Асенгмой» – кратким изложением «Коренного текста *маргапхалы». Во многих из этих коротких работ раскрывается сущность отдельных дискуссий, описанных в комментариях Сачена, а также объясняется, как данные комментарии были созданы. Тринадцать из этих работ принадлежит Сачену, и их можно довольно легко идентифицировать и отличить от сочинений его сына122.
Следующий раздел (IV) содержит семнадцать наименований работ, семь из которых не представлены в нынешнем издании. Эти семь произведений посвящены всестороннему посвящению, практике процесса зарождения, тантрическим обетам, тантрическому пиршеству, жертвоприношению хома и ряду других вопросов. Дракпа Гьелцен утверждал, что их можно либо включить в данный сборник, либо использовать отдельно, поскольку они подходят как для начинающих, так и для продвинутых учеников123. В начале списка этих семнадцати работ находятся два самых влиятельных трактата сакьяпы: стихотворный текст Дракпа Гьелцена и его же комментарий к точке зрения на нераздельность существования и нирваны (‘khor ‘das dbyer med), основанный на принципах совершенно отличных о тех, что придерживаются, к примеру, ньингма или же экзегеты «Гухьясамджа-тантры»124. В его трактовке эта взаимосвязь структурируется посредством процесса завершения (sampannakrama) системы ламдре, в которой внутренним мандалам ваджрного тела отводится доминирующая роль в отождествлении неволи и освобождения. Начиная с шестнадцатого столетия и далее глубоким анализом одного из ответвлений этой системы занималась сакьяпинская подшкола цар-па (Tsar-pa), и их работы считаются одним из ценных вкладов сакьяпы в эзотерическую доктрину125. Вслед за первыми двумя произведениями следуют тексты, относящиеся к конкретным вопросам практики, а также четыре кратких обсуждения, посвященных прояснению психофизических препятствий, три из которых написаны Саченом126.
Раздел V содержит работы, конкретизирующие идею среднего и сокращенного пути, о которых лишь только упоминается в конце «Коренного текста *маргапхалы». Шестой раздел (VI) состоит из «четырех великих центральных столпов». Здесь в общих чертах излагаются наиболее важные теоретические соображения, не вошедшие в материалы о нераздельности существования и нирваны. Поскольку большинство из них приписывается Сачену (однако, насколько точно они принадлежит его перу неясно), мы уже рассмотрели их в Главе 8. Седьмой и восьмой (VII и VIII) разделы возвращают нас к конкретным практикам, которые описаны в «Коренном тексте *маргапхалы» лишь частично. Сюда относятся наставления по сексуальным практикам и практикам психического тепла, а также многие тексты, которые перечислены в «Содержании», но исключены из нынешнего издания. Три текста Дракпы Гьелцена, включенные в эти разделы, демонстрируют нам экзегетические устремления их автора127, который не оставляет попыток использовать общепризнанные священные тексты в качестве обоснования практик, присутствующих в «Коренном тексте *маргапхалы». Однако, вопреки своим намерениям он лишь демонстрирует нам, что некоторые практики могут быть внедрены в канон только посредством выдающейся интерпретационной эквилибристики. Наконец, раздел IX содержит агиографические материалы, касающиеся истории Вирупы, а также описание деятельности Дрокми в Индии и Тибете, которые были переведены в Главе 5.
Как уже упоминалось выше, в разделе IV признается, что некоторые его материалы подходят и для начинающих. В их число входят работы, посвященные мандале «Хеваджры», ее обрядам инициации, а также связанным с ними ритуалами, т.е. то, что было необходимо ламдре для стабилизации ее институциональной базы в соответствии с эзотерическими принципами. Сачен уделял повышенное внимание медитативным наставлениям (sadhana) и в особенности тем, что относились либо к линии передачи «Чакрасамвары» Канхи, либо к мандале «Хеваджры» Сарорухаваджры. Последнее Сачен, похоже, считал эталонным материалом по медитации «Хеваджры». Нет сомнений, что этой же оценки придерживались и его предшественники в линии передачи ламдре, и можно смело предположить, что мандала Сарорухаваджры начала тесно ассоциироваться с ламдре еще во времена Дрокми. Судя по всему, Сачен создавал тексты посвящения для «Хеваджры», в которых были полностью учтены специфические особенности ламдре, поскольку его краткие тексты по этой же тематике присутствуют не только в «Желтой книге», но также встречаются и в других материалах, принадлежащих перу Сачена128. Большинство из них посвящено вопросу представления тела в виде мандалы, наблюдаемой практикующим в процессе завершения, и лишь изредка они затрагивают внешнюю формальную мандалу, используемую в процессе зарождения. Хотя некоторые из этих работ рассматривают вопросы интеграции ламдре во всеохватное институциональное движение, похоже, что Сачен так и не создал единого унифицированного текста посвящения или специального ритуального руководства, которые можно было бы использовать для этой цели.
Однако, ко второй половине двенадцатого столетия сакья, по всей видимости, уже представляла собой совершенно иной институт, и братья явно ощущали потребность в таких текстах. Как уже упоминалось ранее, самым ранним идентифицируемым текстом Сонама Цемо был краткий конспект посвящения Найратмьи (bDag med ma’i dbang gi tho yig), которое тесно связано с посвящением Хеваджры, поскольку Найратмья считается мифической супругой Хеваджры и иерофантом Вирупы. Повзрослев, Сонам Цемо начал создавать свои первые специализированные систематические тексты как для посвящения, так и для медитации на Хеваджру, основанные на принципах ламдре. В то время как тексты посвящения его отца по большей части описывали внутренние телесные мандалы и были весьма лаконичны, работы Сонама Цемо были посвящены внешней формальной мандале (phyi dbyibs dkyil ‘khor) и предлагали обширную ритуальную систему, соответствующую подходам ламдре. Похоже, что большинство произведений Сонама Цемо, связывающих ламдре с базовой ритуальной моделью, основываются на предшествующих им работах Сарорухаваджры. К примеру, в основном медитативном тексте используется четырехчастная систематизация, при которой процесс зарождения делится на четыре стадии в виде четверного ваджры (vajracatuska): служение (seva), предварительное достижение (upasadhana), достижение (sadhana) и великое достижение (mahasadhana). Эта стратегия медитации, которую использовал и Сарорухаваджра, была общепринятой моделью еще со времен «Гухьясамаджа-тантры»129.
Вклад Дракпы Гьелцена в это направление был несколько иным, поскольку он, очевидно, понимал, что, несмотря на свое сокращенное изложение, на практике четырехчастный ритуал получается довольно длинным. Похоже, что побудительным мотивом для создания им более короткой версии, а также выбора метода ее разработки, стало его стремление максимально ассимилировать ламдре в местную среду, поскольку, если бы Дракпа Гьелцен подобно Дрокми окружал себя лишь небольшой группой учеников, то маловероятно, чтобы он был заинтересован в распространении более короткого текста. В своем сочинении Дракпа Гьелцен отказался от четырехчастной структуры ритуала и обратился к его шестичастной форме. Для этого он решил использовать сравнительно малоизвестную работу, автор которой сыграл важную роль в формализации экзегетического метода ламдре: «Садангасадхану» Дурджаячандры (To. 1239), переведеную Ратнашриджняной и Дрокми. В основу медитативного текста Дурджаячандры положена идея шести стадий, описанных в четвертой главе «Ваджрапанджара-тантры», т.е. его работа опиралась на общепризнанный канонический источник130. Эти шесть стадий определяют порядок визуализаций нормативного процесса зарождения: дворец; страстное желание обрести божественное состояние; посвящение собранными перед собой «мистическими сущностями»; вкушение нектара пяти серозных субстанций; подношения Хеваджре и его свите; восхваление сопровождающими его богинями. Выбирая работу Дурджаячандры, Дракпа Гьелцен, очевидно, хотел не только подчеркнуть связь между двумя линиями передачи ламдре, но и способствовать популяризации трудов Дурджаячандры, чьи сочинения оказали весьма значительное влияние на его собственное развитие131. Это ярко выраженное предпочтение Дракпа Гьелцена способствовало тому, что шестисекторная форма мандалы Хеваджры с той поры в сакьяпе считается нормативной, следствием чего стало появление множества других разработок по данной тематике, а также возникновение некоторых спорных вопросов132.
Все эти работы в наилучшей степени отображают грандиозные усилия сыновей Сачена по созданию авторитетной текстовой основы ритуалов, необходимых для полной интеграции ламдре в институциональную среду своей традиции. Кроме того, были созданы независимые работы о подношениях торма (ячменных лепешек), широкое разнообразие наставлений по огненным жертвоприношениям, а также тексты по другим родственным ритуалам. Все эти разработки опирались на предшествующие ритуальные материалы, переведенных Дрокми или другими авторами, ассоциируемыми с линиями передачи у истоков которых стоял сам Сачен. В рамках этой деятельности подвергся обработке даже метанарратив дисциплинарного кодекса магов (vidyadhara samvara), что выразилось в составлении Дракпой Гьелценом очень пространного и авторитетного изложения четырнадцати коренных тантрических обетов и восьми дополнительных обязательств133.
Дэвидсон Р.М. «Тибетский ренессанс: тантрический буддизм и возрождение тибетской культуры»
Если целью предыдущих работ являлась интеграция образовательных методик ламдре в обширный институциональный мир ритуалистики, то эта задача была выполнена лишь только наполовину. Сакьяпинские авторы двенадцатого столетия считали экзегетическую систему такой же легитимной линией передачи, восходящей к Вирупе, хотя на деле она оказалась намного более многогранной как по своей форме, так и по своим границам. Соответственно, для клана Кхон «бестекстовое» ламдре (как его иногда называли) было важно ничуть не менее всех остальных направлений, поскольку включало в себя комментарии к Хеваджре и родственные им эзотерические писания. В рамках данного процесса братья обычно занимались всеобъемлющими вопросами, касающимися тантрического канона в целом, что подтверждается ранним каталогом тантр Дракпы Гьелцена134. Однако, на этом фоне можно выделить еще два специфических направления экзегетических устремлений братьев, дополнявших их основную деятельность: создание комментариев к конкретным тантрам, в особенности к «Хеваджре», а также развитие жанра «Основные принципы тантрического канона». Довольно интересно, что в обоих случаях Дракпа Гьелцен задумывал эти работы только как дополнение к текстам своего отца и старшего брата, однако, для традиции его произведения со временем стали эталонными, и также, как в случае с его же ритуальными текстами, по сути вытеснили труды его предшественников.
Создание тантрических комментариев является очень непростой задачей, поскольку обычно они опираются сразу на несколько источников. Тем не менее, мы видим, что тибетские линии передачи, подобные линиям клана Кхон, не щадили своих сил в деле создания экзегетических сочинений. Рассматривая это явление, мы должны понимать, что поддержка традицией процесса разъяснения своих священных текстов является очевидным признаком ее жизнеспособности. По большей части эти утверждения справедливы и для комментариев сакьяпы, а что касается происхождения ее экзегетических текстов «Хеваджры», то с ними все более или менее ясно. В качестве фундаментальной основы толкования «Хеваджры» в сакьяпе была принята «Каумудипанджика» Дурджаячандры, переведенная Дрокми и Праджнендраручи. Согласно наставлениям Дрокми, самым продвинутым его учеником в части эзотерической экзегезы был Нгарипа Селве Ньингпо, чей комментарий к «Хеваджра-тантре» до сих пор пользуется высоким авторитетом135. Сачен написал свое собственное разъяснение сложных мест в «Хеваджра-тантре», но это сочинение не для слабых духом, поскольку оно трудно для понимания и требует достаточно хорошего знания «Хеваджры»136. Комментарий Сонама Цемо 1174 года к «Хеваджра-тантре» содержит всеобъемлющую проработку идей, относящихся к герменевтическому методу тантрической экзегетики, которые он постоянно отстаивал и большую часть которых он почерпнул из более ранней работы Нгарипы137. Дракпа Гьелцен написал свой собственный комментарий к «Хеваджре» в 1204 г., т.е. через тридцать лет после создания версии своего брата, на которую он опирался в плане общей композиции и методе разделения на главы138. В этом произведении он лишь частично соблюдает индийские стандарты композиции и стихосложения, что делало его работы более понятными для обычных тибетцев.
Однако сами по себе тантрические комментарии не могли способствовать целостному пониманию пути, и одним из величайших вкладов братьев в прояснение этого вопроса стала их работа над великой картой эзотерической системы. Сачен уже приступал к этой деятельность, написав свои «Краткие основные принципы тантрического канона» (rGyud sde spyi’i rnam bzhag chung ngu), возможно, созданные им по образу и подобию более раннего текста Го-лоцавы Кхукпы Лхеце. Но со времени написания Саченом этой работы интеллектуальный климат в У-Цанге заметно изменился, и знакомство Сонама Цемо в Сангпу с новыми проблемами и интеллектуальными вызовами, очевидно, убедило его в необходимости расширения и переформулирования некоторых ключевых вопросов, особенно касающихся того, как правильно понимать чрезвычайно драматический и эмоциональный эзотерический язык тантрического канона.
Хотя незаконченная работа Сонама Цемо «Основные принципы тантрического канона» (rGyud sde sphyi’i rnam par gzhag pa) во многих отношениях является развитием идей более короткого трактата его отца, все же в какой-то мере ее можно считать самостоятельным произведением. Данный текст состоит из четырех частей, к трем из которых Сонам Цемо обратился вновь перед самой своей кончиной. Начальная глава «Основных принципов тантрического канона» начинается с обсуждения конечной цели, которой Сонам Цемо также считает уникальное состояние абсолютного пробуждения. Далее он признает, что в махаяне есть два пути, первым из которых является метод совершенств, а вторым – колесница тайных мантр. Затем Сонам Цемо переходит к демонстрации превосходства мантраяны, но делает это не так, как его отец. Он заявляет, что мантраяна не только быстрее нормативного пути совершенств, но и ведет к превосходящему его результату: состоянию будды на тринадцатом уровне Ваджрадхары. В этом утверждении нет ничего необычного, поскольку в свое время махаянисты также делали подобные заявления о своем превосходстве над более ранними школами в вопросах окончательного пробуждения. Однако, это означает, что в учении Сонама Цемо о единообразном состоянии будды присутствуют определенные манипуляции с терминологией, касающейся достижения цели, ибо как может существовать единая цель для обоих махаянских путей, когда эзотерическая система приводит к более высокому результату? Сонам Цемо также классифицирует основные наименования работ тантрического канона и подробно останавливается на «недвойственной» классификации, которую сакьяпинцы используют в своих наиболее значимых работах. В целом можно сказать, что первая главы этой работы Сонама Цемо является развитием идей более раннего произведения Сачена.
В очень короткой второй главе анализируется понятие «тантра», а начинается она с исследования самого названия, опирающегося на хорошо известные утверждения из последней главы «Гухьясамджа-тантры», согласно которым тантра – это триединый континуум основы, природы и неотъемлемости139. Затем Сонам Цемо обсуждает тройственную непрерывность (rgyud gsum), отмечая, что эта категория более подробно будет описана в (отсутствующей) четвертой главе140. Наконец, в третьей главе рассматривается такая сложная категория, как герменевтика (bshad thabs). Буддисты применяли всевозможные герменевтические методы, и Сонам Цемо, собрав воедино шесть основных систем, пригодных для тантрической экзегезы, объяснил способы их применения в соответствии со своим пониманием этого вопроса141. Данные системы включают как хорошо известные методы, представленные в «Сандхивьякарана-тантре» и использовавшиеся тантриком Чандракирти, так и те, что присутствовали в таких тантрах, как «Джнянаваджрасамуччая», «Кхасама-тантрараджа», «Хеваджра-тантра» и «Сампутатилака»142.
Помимо своей значимости в качестве основоположника жанра систематической таксономии тантры, «Основные принципы тантрического канона» также интересны по двум другим причинам, одна из которых относится к истории интеллектуальных разработок двенадцатого столетия, а другая – к уровню человеческих отношений. В интеллектуальном плане данная работа предлагает ряд аргументов, которые различные члены буддистского монашеского сообщества выдвигали против эзотерической системы (в том виде, как они ее понимали). Нет сомнений, что со многими из этих аргументов Сонам Цемо сталкивался на практике во время обучения у Чапы, поскольку у него они почти всегда сформулированы как исходящие от неуказанного «человека, практикующего совершенства» (pha rol tu phyin pa po). В совокупности они указывают на то, что вовсе не факт, что в те времена тибетцы дружно шагали в светлое мистическое будущее, а скорее нередко размышляли (как они это делали и раньше, и позже) как о содержании, так и о последствиях допуска в свою среду потенциально дестабилизирующего тантрического материала. Один из этих аргументов особенно резок в своей деконструкции эзотерической парадигмы143:
«Теперь по поводу точки зрения, в соответствии с которой мы утверждаем, что если эзотерический путь имеет множество методов и не имеет трудностей, то данный путь должен быть ошибочным: [Оппонент] Вы (тантрики) считаете средством осознания реальности множество методов по достижению высших сиддхи (таких как «процесс зарождения» и [процесс завершения], использование каналов, ветра и семени), и поэтому ваши утверждения об этом неверны. «Процесс зарождения» – это явленье формального тела Будды (rupakaya), а его реальность полностью соответствует пути совершенств. «Множество средств» – семя, ветер и каналы – также имеются и на пути тиртхиков, и как же они могут стать «средствами» [к состоянию будды]? Более того, «множество средств» для обыденных сиддхи, таких как средства для убийства живых существ и привлечения особей женского пола, просто демонстрируют враждебность по отношению к живым существам. Как вы можете видеть в них высшее пробуждение, когда даже переход в небесные сферы очень далек от такого рода поведения? Что касается вашего «пути без трудностей», то вы утверждаете, что обретение пробуждения достигается посредством блаженства. Итак, если пробуждение достигается отсутствием сомнений в отношении желаний, тогда его уже достигло каждое обычное живое существо во вселенной. Но если вы утверждаете, что достигнете пробуждения, потому что человек остается незапятнанными, если он исследует объект чувств с пониманием реальности [и не вовлекается в область желаний], то это неприкрытая санкхья, а не буддийский путь!»
Ответ Сонама Цемо на эти возражения является весьма показательным в части исходных предпосылок эзотерической системы: он вновь заявляет об иерархии сфер существования, обосновывает их проявление на разных уровнях реальности и отклоняет все возражения, поскольку используемые в них стандарты сравнения явно уступают его собственной системе. Таким образом, несмотря на их явное сходство, махаянская визуализация формального тела Будды не может быть тем же самым, что и процесс зарождения, поскольку эзотерическая система ведет к пробуждению за одну жизнь и поэтому превосходит ее. А утверждение об очевидной зависимости процесса завершения от шиваитских практик и зависимость эзотерических систем шиваизма и буддизма от теоретических структур санкхьи не может быть в полной мере верным, поскольку буддисты выполняют свои ритуалы в рамках практик принятия прибежища, порождения мысли о пробуждении и т.п. Что касается использования радикальных средств, применяемых для убийства живых существ и контроля над ними, то Сонам Цемо указывает (и ему трудно возразить), что даже махаянисты признавали, что они могут использоваться высшими существами для всеобщего блага, о чем говорится в «Бодхисаттвабхуми» Асанги, и что было применено на практике Лхалунгом Пелгьи Дордже, убившим Дарму в 842 году. По этой причине махаянисты вряд ли должны сильно удивляться эзотерическому развитию созданной ими самими доктрины. В общем и целом Сонам Цемо наглядно демонстрирует нам тот факт, что при разработке раннесредневековых систем защиты своих учений стратегия герменевтической стратификации по-прежнему являлась популярным апологетическим методом.
Человеческий аспект «Основных принципов тантрического канона» со всей очевидностью прослеживается в заключительном разделе последней из глав, завершенных Сонамом Цемо, которая посвящена экзегетическому методу. Данная глава содержит массу шероховатостей даже при том, что она, несомненно, подвергалась последующей шлифовке и свое нынешнее состояние приобрела после ее редактирования Сакья Пандитой, хотя нам и неизвестно, насколько обширными были его правки. Кроме того, заключительный раздел этой главы не заявляется в ее начале, что указывает на то, что Сонам Цемо добавил его, не возвращаясь к началу и не меняя общего плана главы. Он начинается с опровержения возражений неназванных оппонентов, протестовавших против использования этих сложных экзегетических приемов. Как минимум один из них указывал на то, что ценность данных методов весьма сомнительна из-за отсутствия у них единообразия в результатах, поскольку редко когда два эзотерических экзегета могли объяснить один и тот же раздел тантры сходным образом. Однако, Сонам Цемо непримиримо опровергает все аргументы своих оппонентов и сразу же после этого делает трогательное заявление, в котором торжественно сообщает о его преданности своей традиции и о ее верности ему. Здесь же он предлагает и краткий обзор двух линий передачи, берущих начало от Вирупы: через Домби и далее к Праджнендраручи и через Канху далее к Гаядхаре. Эта работа позволяет нам хоть на мгновение заглянуть в мир основополагающих ценностей автора двенадцатого столетия, а также проникнуться его стремлением навечно утвердить наследие своего отца.
Сонамом Цемо только анонсировал заключительную раздел, который согласно авторитетам сакьи должен был быть посвящен практике эзотерической системы, а завершен он был уже Дракпой Гьелценом в виде его работы «Украшенное драгоценностями дерево для постижения тантры» (rGyud kyi mngon par rtogs pa rin po che’i). Нам точно неизвестно, какого рода общение происходило между двумя братьями по поводу сущности намерений Сонам Цемо в отношении последней части его произведения, поскольку лишь одна строка во вступлении Дракпы Гьелцена к его работе указывает на то, что брат приказал ему написать текст на эту тему144. Также несколько вводит в заблуждение описание «Украшенного драгоценностями дерева» как четвертого раздела «Основных принципов» Сонам Цемо, поскольку этот завершающий работу Сонама Цемо текст почти вдвое длиннее его основного произведения. Из упоминаний в «Основных принципов» мы знаем, что в данной главе Сонам Цемо намеревался обсудить тройственную непрерывность, и поэтому «Украшенное драгоценностями дерево» организовано в соответствии с этой стратегией: всеобщая основа причинной непрерывности (kun gzhi rgyu’i rgyud), путь как непрерывность метода (lam thabs kyi rgyud) завершающая плодотворящая непрерывность (mthar thug gi ‘bras bu rgyud).
Однако эта всеобъемлющая структура несколько обманчива, поскольку первый раздел довольно короткий, последний раздел также имеет весьма скромный объем, в то время как материал, посвященный пути, занимает более восьмидесяти процентов общепризнанного текста, что аналогично разным размерам глав «Краткого изложения Гухьясамаджи» (gSang ‘dus stong thun) Го-лоцавы Кхукпы Лхеце. В разделе, посвященном причинной непрерывности, резюмируется идея о различных категориях людей и рассматривается принцип, согласно которому для определенных типов личностей требуются свои особые методы. Это излюбленная тема буддистских авторов с момента принятия ими на вооружение схоластического анализа, и здесь Дракпа Гьелцен лишь скромно опирается на результаты исследований своих предшественников, причем отчасти и потому, что он намеревался рассмотреть этот вопрос более подробно в разделе, посвященном пути. Раздел, посвященный плодотворящей непрерывности также опирается на знакомую почву и посвящен иерархии уровней бодхисатвы и уровню будды, а также различиям между общепринятыми идеями махаяны и эзотерической системой с ее тринадцатью уровнями. Этот заключительный раздел завершается обсуждением различных перечислений тел Будды, идеи фундаментальной трансформации (asraya-parivrtti), пяти форм мистического знания, концепции нелокализованной нирваны (apratisthita-nirvana), недвойственности и непрерывной деятельность будды на благо всех живых существ.
Однако, с разделом, посвященным пути, все обстоит иначе. В принципе, Дракпа Гьелцен мог бы просто следовать экзегетической методике своего отца, используемой в различных комментариях ламдре и опирающейся на систему с «четырьмя пятичастными структурами», рассмотренную в предыдущей главе. Но, возможно, следуя примеру Го-лоцавы, Дракпа Гьелцен решил использовать совершенно другой подход и структурировал этот объемный раздел в соответствии с характеристиками кандидата на обучение. Таким образом, будущими йогинами становились либо менее удачливые личности, следовавшие поэтапным путем (rim gyis pa), либо обладавшие проницательным восприятием, которые, вступая на путь, охватывали все его аспекты одновременно (cig char ‘jug pa). Этими же провокационными терминами пользовались и такие несхожие между собой буддийские авторитеты, как китайские чаньские наставники, Го-лоцава и Гампопа. Однако, в отличие от чаньских авторов Дракпа Гьелцен использует эту терминологию не в контексте стадии окончательного пробуждения, а при обсуждении вступления на эзотерический путь, и в этом он следует прецеденту, созданному Арьядевой. Соответственно, менее удачливый новичок мог последовательно изучать пути шравака, бодхисатвы и видьядхары, проходя каждый из них по очередности145. И наоборот, более удачливый ученик сразу приступал к практике высшей йоги, изложенной в таких недвойственных тантрах, как «Хеваджра»146.
На самом деле, большую часть данного текста занимают различные материалы, относящиеся к одномоментному вхождению, которые традиционно делятся на описание ритуала посвящения, формально подтверждающего зрелость ученика, и текст основной практики эзотерической системы, ведущей его к освобождению. В разделе, посвященном созреванию, Дракпа Гьелцен представляет очень полезный обзор основных компонентов ритуала абхишеки, практиковавшегося в его времена, из которого становится ясным, что уже в тот период у тибетцев было принято заменять реальную духовную супругу (shes rab dngos) визуализированной партнершей. В разделе, посвященном практике, он сходным образом описывает процесс визуализации мандал как следствие посвящения сосудом, процесс постижения с опорой на психическое тепло как следствие тайного посвящения и процесс постижения с использованием реального или воображаемого сексуального соития как следствие посвящения мудрости-знания.
Этот краткий обзор не в состоянии передать весьма любопытный и во многом необычный характер данного текста. Возможно, наиболее примечательной частью «Украшенного драгоценностями дерева» является длинный раздел, посвященный философским взглядам, который расположен между описаниями посвящений и практик. Под этой, казалось бы, безобидной рубрикой Дракпа Гьелцен дает довольно подробный анализ учений основных буддийских философских школ, завершая его мадхьямакой. В соответствии с духом Чапы и предпочтениями некоторых ученых его времени, он приходит к выводу, что продвигаемый Па-цап-лоцавой крайний скептицизм школы прасангики Буддхапалиты и Чандракирти не может служить опорой для ключевых идей, определяющих суть буддийского мировоззрения. В противовес этому далее он наглядно демонстрирует, что школа сватантрика-мадхьямаки Бхавьи превосходит своих более радикальных собратьев, предлагая более тонкий подход в вопросах истины147.
Почему это так важно? Дракпа Гьелцен был приверженцем системы, в которой конечной природой реальности считалось мистическое знание (jnana) – интересный и захватывающий вектор развития более поздней эзотерической системы, особенно заметный в йогини-тантрах, но которому почти не уделялось внимания во вторичной научной литературе. При этом существуют отдельные разновидности мистического знания, в частности вид мистического знания, порожденный следованием примеру во время посвящения мудрости-знания (mtshon byed dpe ye shes), или же абсолютное мистическое знание, обретаемое йогином во время достижения тринадцатого уровня Ваджрадхары (mtshon bya don gyi ye shes). Точно так же существуют различные типы кандидатов в йогины: те, кто обладает обычным мировоззрением, и те, кто накопил как заслуги, так и знания в прошлых жизнях. Эти категории должны быть зафиксированы на формальном уровне и выражены таким образом, чтобы не возникало желания деконструировать их системную сущность, поскольку корнем отношений между учеником и наставником является доверие, а не подозрительность. Трудно понять, как система прасангики с ее деспотичным отрицанием истинности всей буддийской формальной лексики могла использоваться совместно с какой-либо медитативной практикой. А вот гораздо более изощренная система сватантрики вполне удовлетворяла все возможные потребности Дракпы Гьелцена, выступая в роли интеллектуальной подструктуры эзотерической системы.
Настроив под себя эту подструктуру, Дракпа Гьелцен переходит к изложению представления о нераздельности существования и нирваны (‘khor ‘das dbyer med) – ключевого доктринального постулата ламдре. В нем он подводит читателя к идее, что воспринимаемый мир есть не что иное, как продукт его умственной деятельности, которая по своей сути иллюзорна, а иллюзорная сущность сама по себе пуста. Здесь термин «пустота» не подразумевает невозможности связывания с ним каких-либо утверждений, поскольку Дракпа Гьелцен указывает на то, что с точки зрения здравого смысла широко разрекламированное «отсутствие позиции» мадхьямаки само по себе также является позицией. Далее в процессе представления основных принципов своей эзотерической системы он продолжает опираться на ряд базовых буддийских ценностей. Одной из них является признание существования взаимосвязи между психофизическим континуумом и актом пробуждения. Подобно многим системам йогини-тантр, ламдре считает обычную систему «ум-тело» «ваджрным телом» (vajrakaya), которое уже обладает всем необходимым для окончательного пробуждения, просто оно не функционирует должным образом. Т.е. ветры, каналы, серозные субстанции, резонирующие структуры, ментальные системы и движение мистического знания уже присутствуют внутри каждого человека, однако, они в нем слабо развиты. Таким образом, Дракпа Гьелцен интегрировав эзотерическую идеологию бесконечной череды внутренних процессов в доктринальную структуру большого буддийского мира, создал устойчивую доктринальную систему, являвшую собой наилучший вариант теоретической опоры для практик ламдре. Как в этой, так и в других работах Дракпа Гьелцен не уклоняется от критики, как это сделал его брат в «Основных принципах тантрического канона»148. По ходу своего изложения Дракпа Гьелцен дает нам интересную информацию о напряженных отношениях между монастырями подобными Сакье, заявлявшими о превосходстве ваджраяны, и теми, которые ставили под сомнение эту риторику.
|
|