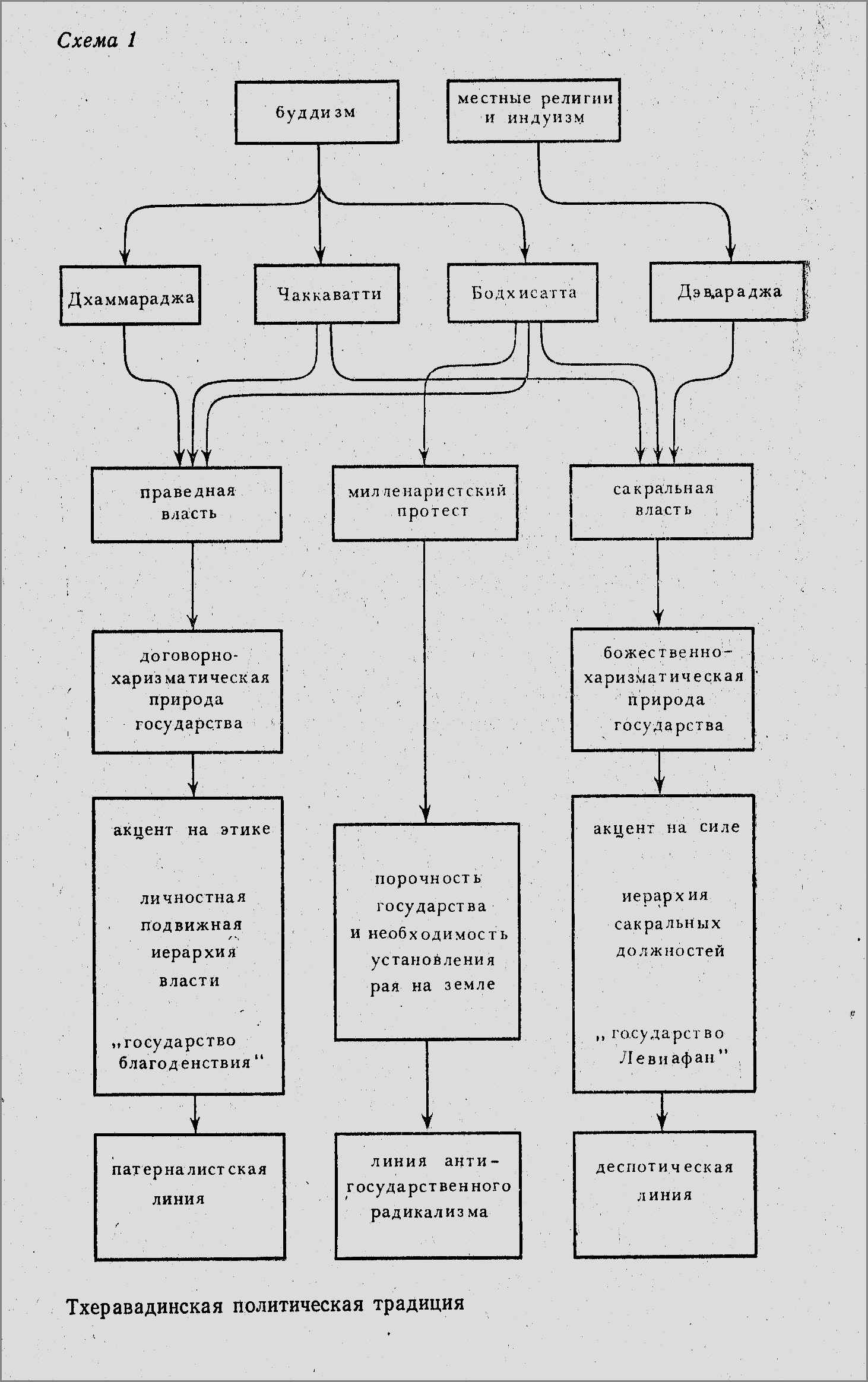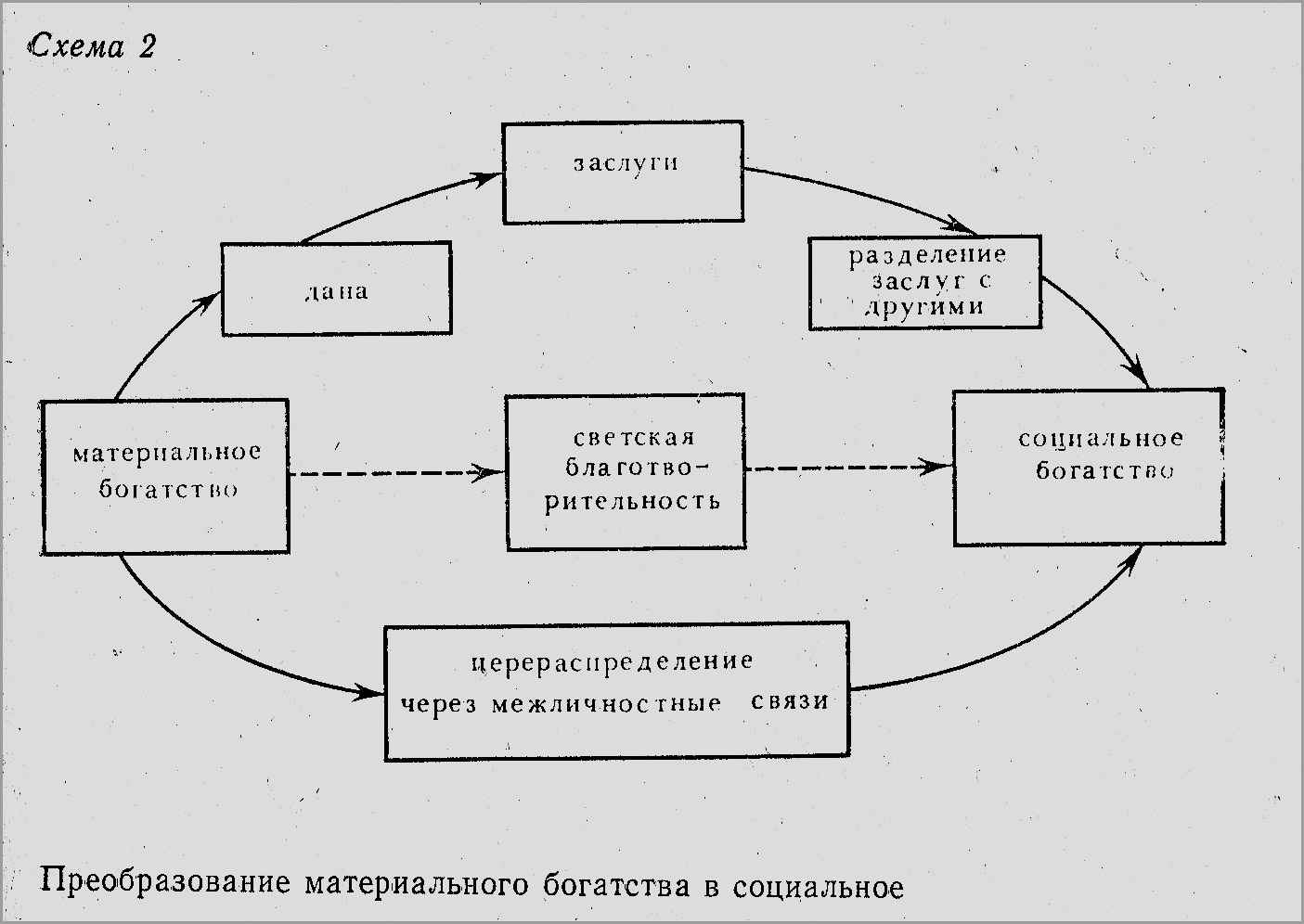····················································································································· |
<<К оглавлению книги
Содержание
§1. Политическая традиция
Элементарные основы властных отношений
Sacrum u regnum
Мораль и насилие
Буддийский милленаризм в концепции власти
Идеальная буддийская политая. «Две с половиной линии» политической культуры
Структура государства и механизм власти
§ 2. Буддизм и власть в XX в.
Буддизм и новое государство
Буддийские мотивы в легитимации власти
Новая жизнь старых ценностей
Тайская монархия и монархический принцип в буддийской Азии
Демократия и буддийская политическая культура
——————————————————————————————————-
(1) В этой главе проблематика сангхи и ее роль в политике не рассматривается (см. гл. II, § 2).
——————————————————————————————————-
§ 1. Политическая традиция
Теперь надлежит приложить матрицу буддийских социокультурных ценностей к отношениям власти. В предыдущей главе я время от времени подходил к проблематике власти, но подробно на ней не останавливался. Буддийская заслуга в ее посюсторонней, земной ипостаси трансформируется в харизму социального престижа, повышенного статуса, влияния, а отсюда один шаг до власти.
Элементарные основы властных отношений
Присутствие буддизма в элементарных отношениях власти лучше всего просматривается в традиционных средствах выявления и легитимации лидерства; поиск лидера, «большого человека» лежит в основе деревенской политической культуры [Nash, 1965, с. 275]. «Народ без лидера разоряется»,— говорит старая бирманская пословица [Gray, 1886, с. 95]. Общая тенденция состоит в том, что критерием лидерства и права быть лидером является сумма личных заслуг индивида, по крайней мере соотнесение с этим критерием кажется обязательным и преобладающим. Это дает основание говорить о буддийской меритократии. В чем состоит семиотика лидерства, каковы признаки того объема заслуг, который дает право на власть? Иными словами, на чем основана харизма власти? Ее буддийский источник — это прежде всего праведность в специфически буддийском смысле, в том числе неординарная роль в ритуальном процессе, особо крупные пожертвования (дана) сангхе, соблюдение моральных заповедей, предписывающих быть щедрым, мягким, ориентироваться на взаимность и пр. Этот имидж праведного человека связан с идеей каммического воздаяния; косвенные признаки правомочности лидерства — объем социальных связей и в меньшей степени материальный достаток, воспринимаемый, впрочем, тоже как способность к широким связям и демонстрируемый в виде религиозной щедрости.
Другой источник харизмы власти — не буддийский по своему происхождению. Он не столько культурный, сколько естественно-социальный; речь идет о наборе индивидуальных преимуществ — способностях, уме, проницательности, умениях, наконец, просто удачливости,— который закрепляет за человеком репутацию обладателя экстраординарной жизненной энергии. Этот источник связан скорее с антимистическим субстратом сознания, чем с моральными и культурными категориями; кроме того, в народном мышлении этот источник ассоциируется чаще всего с кризисными ситуациями, когда не хватает рутинных, обыденных средств легитимности и нужны чрезвычайные средства. Однако буддизму всегда удавалось «внедрять» свои значения и в этот поток мировосприятия; в результате складывался своеобразный буддийский милленаризм, включавший эсхатологическое видение и мессианство (2). Он состоял в активной вере в скорое и тотальное воплощение на земле буддийской утопии. Если, как было показано выше, суть «социализации» буддизма заключалась в превращении неотмирных ценностей в ценности мироутверждающие, то милленаризм является крайним, максималистским порывом к осуществлению этой операции. Лидер считается мессией. Такова традиция пху ми бун («человек заслуги») в Таиланде и Лаосе, вей за («наделенный мистическим знанием» — от vijja — «знание», «мудрость») в. Бирме (3). Эти люди часто становились лидерами активных вооруженных групп оппозиции. Поскольку милленаризм — это контрструктура по отношению к ортодоксальному рутинному буддизму, движения под милленаристскими лозунгами (так же как и в Европе, и в мусульманском мире) всегда были политически оппозиционными (4).
——————————————————————————————————-
(2) П. Бергер ошибочно полагает, что мессианство, милленаризм, эсхатология как более или менее единый комплекс присущи только религиям «иудео-христианско-мусульманской орбиты» [Berger, 1969, с. 68—69].
(3) О социорелигиозном типе пху ми бун и вей-за я уже упоминал в другом месте и по другому поводу. О буддийском милленаризме в Таиланде см. [Skrobanek, 1976; Tambiah, 1984], в Бирме см. [Spiro, 1970; Меndelson, 1961; 1975, с. 144—145], информация о лаосских движениях под руководством тех же пху ми бун содержалась в выступлении Б. Те на советско-французском симпозиуме по Юго-Восточной Азии [Gay, 1989].
(4) Создание вооруженной оппозиционной группы вокруг людей типа пху ми бун вовсе не неизбежно; харизма этого потенциального контрлидера может быть рутинизирована и переведена в спокойный, рациональный план праведности.
——————————————————————————————————-
Итак, два основных буддийских способа легитимации властных отношений: рационально-этический, как правило, делающий буддизм идеологией порядка, и иррационально- милленаристский, который может при известных обстоятельствах выработать на базе буддизма идеологию протеста. Разумеется, на практике оба эти способа тесно переплетены.
Конфигурация ценностей данной культурной традиции не только легитимирует, но и определенным образом оформляет «силовые отношения». За многие столетия власть в тхеравадинских обществах была насыщена значениями буддийской социальной программы. Властным отношениям здесь присущи, если ограничиться уже рассмотренными чертами, персонализм, иерархизм, преобладание парных (диадических) связей, нестабильные клиентельные группы. Эти элементы политического процесса и политической культуры отрабатывались на протяжении долгого времени; в период создания колониальных структур они ушли на второй план (кроме Сиама, где развитие было более непрерывным) и вновь вышли на поверхность во второй половине XX в., но уже в иных формах и в соединении с новыми элементами политики, бывшими частью колониального наследия и постколониальных западных влияний.
Sacrum и regnum
Sacrum и regnum, сакральность и власть, мораль и сила— таковы два главных нерва всякого общества, если в понятие «сакральное» вкладывать широкий смысл; в более узком смысле речь идет о соотношении религии и политии. О том, что это разграничение в принципе признано в буддийской культуре, свидетельствует дихотомия палийских терминов dhammacakka и anacakka — «колесо учения» и «колесо власти» («силы»). Более того, именно буддизм четко обозначил эту дихотомию: появление радикально мироотвергающей религии приводит к разграничению мира на священную сферу, где царит праведный порядок, и профанную сферу, где царит хаос «голой силы». На первый взгляд они соотносятся как свет и тьма, как знание и неведение, как путь Будды и путь мира, и выбор между ними очевиден: как Христос бросает «все царства мира сего» к подножию «плода Царствия небесного», так и Будда предпочитает «плод сотапатти» («вступления в поток освобождения») всякой власти на земле [Дхаммапада, 178]. Сама история ухода Будды из дому символизирует тот же выбор.
Важно, однако, что христианство для обозначения «Царствия небесного» не находит другого слова, кроме того, которое относится также к земной политии (пусть даже «царство» имеет переносный смысл). Не случайны также представления о «тысячелетнем царстве», о самом Христе как о «Царе Иудейском», о царских атрибутах Христа и, наконец, богатая традиция, связанная с идеей Христа-пантократора, Господина Христа, Христа-воителя (5). Небесный и земной планы пересекаются; путь к спасению мыслится во властных категориях, а путь мира обретает в рамках идеи власти сакральный смысл. То же самое удвоение можно обнаружить уже в ранних буддийских текстах. Гаутама Будда царского происхождения, но он отказывается от своего царства, тем не менее в каноне именуется Царем Царей [Sela-sutta, S. Nip.]. Согласно суттам, существу, обладающему 32 признаками (lakkhana) великого человека (mahapurisa) предназначено пойти по одному из двух путей: если он «покидает дом», то становится святым (архатом), если он «остается в доме», то становится царем, причем это равнозначная альтернатива [Vatthugatha, S. Nip.; Lakkhana-sutta, D. N. и др.] (6). Будда — Чаккаватти, «вращающий колесо», но Чаккаватти это также «всемирный правитель», с той разницей, что он вращает не «колесо учения» (dhammacakka), а «колесо власти» (anacakka) (см. [Tambiah, 1976, с. 44—45]). Категории учения и категории власти нерасторжимо переплетены: Будда призван властвовать с помощью Дхаммы, а царь призван воплощать Дхамму с помощью власти. Характеристики Будды и Великого (идеального) царя очень схожи (7). Как замечает С. Тамбайя [Tambiah, 1984, с. 331—332], в буддизме различаются два типа высшей религиозной харизмы— харизма аскета-святого и харизма праведного буддийского царя. В истории буддийских обществ есть много косвенных свидетельств взаимопересечения «священства и царства». Например, сходство архитектурных планов царского дворца и монастыря [Lehman, 1987а, с. 173—177]; употребление понятия «sima» («граница») в отношении как сферы политического влияния, так и сферы влияния божеств в ланкийском пантеоне [Obeyesekere, 1966, с. 17]; также двойное употребление понятия «варан» («мандат власти»), который выдается царем своим вассалам, а Буддой — подчиненным ему божествам [Obeyesekere, 1966, с. 12]. Все это сближает до отождествления вершины двух сфер социума — сферы сакрального и сферы власти (8).
——————————————————————————————————-
(5) С. С. Аверинцев [Аверинцев, 1988, с. 213—214] говорит о параллельности двух царств, их суммарном единстве в качестве целого «священного мира». Иллюстрацией могут служить слова императора Византии Иоанна Цимисхия (см. [Диакон, 1988, с. 55]). Об отождествлении германцами Христа с военным вождем см. [Кардини, 1987, с. 1791—183].
(6) Текст и точный перевод этой формулы см. [Самозванцева, 1989, с. 156, 167].
(7) Например, в одном фрагменте истоки царского могущества связываются с такими качествами царя, как «щедрость, самообладание, самоконтроль» [Mahasudassana-sutta, II; D. N.]. Эти качества относятся и к самому Будде.
(8) Монография С. Тамбайи так и называется: «World Conqueror and World Renouncerer» [Tambiah, 1976]. Автор подробно обосновывает тенденцию к тождеству «пути царства» и «пути освобождения», имеющую канонические истоки.
——————————————————————————————————-
Но можно говорить и о переплетении этих сфер на всем общественном пространстве снизу доверху, а не только в вершинах. «Меритократия» зиждется именно на всеохватывающей параллельности двух иерархий — иерархии власти и иерархии заслуг; каждый более высокий властный статус легитимируется с помощью закона каммы как мирское воплощение более крупного объема заслуг; действие каммы замыкается на вершине; царь обладает, согласно тхеравадинской политической культуре, наилучшей каммой (в параллельной иерархии ему соответствует камма архата, Будды) (9). В тхеравадинских обществах власть являлась тем нервом профанного мира, в котором религиозная харизма превращается в земное достояние. Все властные отношения традиционно мыслились в религиозных категориях (как соотношение религиозных заслуг) и, в свою очередь, почти все общественные отношения воспринимались как властные отношения (10). Поэтому, в частности, каждый чиновник определенного государственного ранга есть в некотором смысле «превращенный монах» соответствующей ступени иерархии сангхи и, наоборот, каждый монах, избери он путь мира, мог бы, согласно этим представлениям, достичь соответствующего властного статуса. Иерархия религиозных (моральных) статусов — смысловая, ценностная начинка бюрократической иерархии. Не случайно сходство в восприятии царского домена и храмовых земель (и их статуса); то же относится к другим категориям государственных земель, ибо чииовничество и духовенство как социальные группы воспринимаются сходно [Юго-Восточная Азия в мировой истории, 1977, с. 45]. Бюрократия предстает как политическое «духовенство», а сангха — как духовное «чиновничество». Вывод, о параллельности сакральной и светской иерархий в той или иной форме делается многими исследователями (см., например, [Kirsch, 1975, с. 189; Ling, 1983, с. 63; Zago, 1972, с. 362—363]). Этот параллелизм является краеугольным камнем концепции государства.
Уже названных особенностей достаточно, чтобы предположить, что в тхеравадинских обществах власть по определению сакральна, насыщена сакральными качествами, в отличие от католической и брахманистской традиций, где власть и государство легитимируются извне путем авторитетной санкции невластного (в идеале) сакрального института. Буддийская сангха вряд ли когда-либо выполняла роль, такого внешнего авторитета, она могла лишь ритуально подтверждать власть. Светская власть всегда была здесь выше духовной, но сама светская власть была сильнейшим образом религиозно окрашена [Юго-Восточная Азия в мировой истории, 1977, с. 13, 27] (11).
——————————————————————————————————-
(9) См. [Hung, 1970, с. 142—143]. Т. Хунг приводит примеры из бирманской хроники «Хманназан Язавин» и ланкийской «Чулавамса», в которых, царское достоинство объявляется следствием каммы, добродетельных действий в прошлых жизнях, а также цитирует фрагмент придворной бирманской книги середины XIX в. «Сасанавамса», где о царе Миндоне сказано следующее: «Праведный наш царь с помощью силы заслуг, которые он накопил в сотнях прошлых рождений, достиг величия царства» (цит. по [Hung, 1970, с. 142]).
(10) Именно в этом смысле следует понимать несколько рискованное утверждение С. Тамбайи о том, что в буддийской культуре «религия тождественна полктии, а полития — обществу» [Tambiah, 1978, с. 112].
(11) Правитель в буддизме (в отличие от шиваизма) мог считаться человеком, но обязательно приобщенным к сакральному; контраст с христианской политической культурой очевиден. Израилю надо было глубоко пережить трансцендентализацию Бога, разрыв континуума между Богом и человеком, чтобы царь Давид уже в Библии воспринимался вполне как грешный человек, заслуживающий Господнего гнева [II Царств, 12].
——————————————————————————————————-
Можно сказать, что государство ex definitio является, буддийским институтом [Lester, 1973, с. 3], истоки такого положения были показаны. В мусульманской традиции государство тоже — исламский институт ex difinitio, но (помимо других отличий по существу и по форме) во главе его стоит «наместник» (халиф) пророка, и сам пророк — только «посланник» (наби) того, кому принадлежит вся полнота власти; наконец, религиозные специалисты всегда играли в исламских государствах определяющую роль. В буддийском государстве над правителем в принципе нет «божественной власти», и сам он считается высшим религиозным специалистом: в истории тхеравадинских стран именно за монархом (а не ученым монахом) признавался высший авторитет и в религиозной экзегезе, и в интерпретации «правовых» книг (тхамматат) [Tambiah, 1976, с. 186—187; Reynolds F., 1977, с. 42]. Поэтому тхеравада по крайней мере не препятствовала характерной для всей Юго-Восточной Азии тенденции к прямому обожествлению правителя (и государственной власти вообще), хотя в концепции devaraja (бога-царя) решающую роль в конечном счете играли не буддийские компоненты, а своеобразный индианизированный синтез (махаяна, шиваизм и исконные местные представления) (12).
——————————————————————————————————-
(12) Идея бога-царя появляется — в рамках индуистской традиции — в «Законах Ману» [Singh, 1985, с. 91]. Наиболее четко она сформулирована Ж. Седесом применительно к Ангкору [Coedes, 1963]. Впрочем, сам Седес допускал, что devaraja— не личность царя, а лишь принцип царства, воплощенный в линге или образе. Есть мнение, что культ devaraja относился не к царю, а к Шиве как «царю богов» (см. [Kylke, 1978]). Во всяком случае, неверно прямо переносить этот культ на тхеравадинские политии, например на тайскую Аютхию, хотя влияние позднего Ангкора здесь было велико. То, что элементы этого культа и связанных с ним представлений были включены в концепцию власти, кажется бесспорным, как и то, что тхеравада довольно легко допускала их существование.
——————————————————————————————————-
Лучше всего специфика буддийской идеи власти выявляется при сравнении ее с классической брахманистской политической культурой, а наиболее красноречивый текст в этом отношении — «Агання-сутта» [D. N.]. Два кардинальных новшества, введенных в концепцию государства в этом канонивеском тексте, состоят в следующем: во-первых, правитель (царь) появляется, согласно зафиксированному здесь космо- и социогоническому мифу, прежде варн; во-вторых, при перечислении четырех классических варн брахманы и кшатрии меняются местами (кшатрии оказываются на первом месте) (анализ сутты см. [Tambiah, 1976, с. 14]). Для брахманистской традиции это означает глубокий переворот. Но поскольку он произошел, изменилось и соотношение sacrum и regnum, которые были сплавлены воедино в институте царской власти (при том, что появился новый источник сакрального— сангха, не имеющий специального места в политической системе). Следовательно, сделались невозможными особая политическая наука (традиции шастр или данданити), а также монополия религиозных специалистов на обладание sacrum; противостояние дхармы и артхи и проблематика «диалога» между ними (как между Кришной и Арджуной в «Бхагавадгите») утратила свое значение.
Как видно из сказанного, имманентная сакральность власти и государства выводится из духа буддийской реформы классической индийской традиции. Но есть также основания полагать, что корни этой особенности тхеравадинской политик уходят глубже в историю Юго-Восточной Азии, к периоду до принятия буддизма. Во всяком случае, сакральность власти — древняя добуддийская черта этого региона, то же относится и к добуддийской Ланке [Семека, 1969, с. 84—85]. Более того, эту черту можно распространить и на Восточную Азию, где государства, как пишет А. С. Мартынов, сакральны сами по себе, даже «без союза с сакральными учреждениями, как в Европе, Византии, Монголии и Тибете» [Мартынов, 19876, с. 6]. Что касается Юго-Восточной Азии, то здесь древний культ государства был связан с архаичными культами духов, культом священной горы; не следует забывать и о древней шиваистской концепции царства, связанной с культом линги, наиболее ярко воплощенным в древней Ангкорской империи,— переход к буддизму был опосредован в Камбуджадеше синкретически равным почитанием Шивы и Будды (с XI—XII вв.) [История Кампучии, 1981, с. 54].
Сочетание буддийской и других концепций власти приводит к тому, что власть концентрирует в себе почти всю энергию социальных связей, государство безраздельно доминирует в исследуемых обществах. Интересно, что власть как целевая установка, как объект стремлений прямо почти не осуждается в тхеравадинской традиции (в отличие, например, от мотива алчности, жажды богатства и удовольствий). Способность властвовать, оказывать влияние рассматривается как цель в себе, притом как самая желаемая цель в пути этого мира,— а отнюдь не как инструмент для достижения чего-либо другого [Piker, 1968, с. 398]. Обладать властью, быть причастным к власти, приблизиться к власти — таково общее стремление, превосходящее все прочие, ибо власть (государство, правительство, двор, бюрократия) содержит харизму, природа которой сродни религиозной (13). То, что трансцендентный монашеский буддизм отвергает как привязанность к миру, в укладе «посюсторонней» жизни превращается в высоко чтимую ценность (так же, как канонический отказ от связей превратился в высокую оценку социальных связей). Государство выступает как представитель, сакрального в сфере земных отношений.
——————————————————————————————————-
(13) А. Кирш [Kirsch, 1975, с. 188] говорит о том, что тайцы относят людей, обладающих властью, как и монахов, к более высокой категории — онг (в отличие от кхон — простых смертных).
——————————————————————————————————-
Мораль и насилие
Если власть сакральна ex definitio, то возникает вопрос, следует ли власти быть моральной, праведной или она может быть аморально насильственной, но при этом почитаться в качестве легитимной. Иными словами, не является ли собственно буддийская мораль излишним средством легитимации, без которого священная власть может вполне обойтись?
План морали и план sacrum не всегда совпадают; священным может быть действие, которое нельзя считать праведным с точки зрения абсолютных моральных требований. В буддийской традиции, однако, присутствует стремление отождествить в понятии «власть» моральное и сакральное, свести к минимуму расхождение между ними. Во всяком случае, сакральность власти всегда связывалась с выполнением власть имущим моральных буддийских предписаний; оппозиция сферы религиозного авторитета и сферы ценности» нейтральной стихии власти (Realpolitik) как изначально автономных сфер в буддийской традиции выражена гораздо слабее, чем в индуистской или христианской. В буддийской политической культуре не могли появиться Каутилья или Макиавелли. Хотя, как говорилось выше, сакральность власти имеет добуддийские корни, с момента принятия буддизма она приобретает «вкус Дхаммы» и редко уже мыслится в отрыве от Дхаммы. Даже тот факт, что в буддийском обществе область абсолютных ценностей институционально обособлена (в сангхе, в монастыре), не мешает государству быть вторым «святым местом», где дхаммачакка и аначакка стремятся совпасть.
Совпадение морали и sacrum в понятии «власть», впрочем, не абсолютно. Это видно на уровне элементарных представлений в первичных группах. Например, у кхмеров лоен, проживающих в северо-западной части Таиланда, понятие «саксит» («власть», «сила») содержит «природное качество», в котором нет ничего религиозного»; «не доброта, а сила противостоит хаосу» [Chou Meng Tarr, 1985, с. 194], т. е. внемо ральная сила упорядочивает вселенную. Вряд ли, однако, категоричность этого утверждения справедлива: одним из источников «саксита» является знание религиозной (тхеравадинской) традиции, та или иная причастность к монашеству [Chou Meng Tarr, 1985, с. 199]. Л. Хэнкс, изучавший аналогичные тайские представления, противопоставляет чисто «силовые», внеморальные понятия власти (амнаад, кхаенг, кхаенг раенг) буддийскому понятию «заслуги» (бун) по мнению Хэнкса, они имеют «такое же аморальное значение, как английское слово «power» [Hanks, 1962, с. 1254]. С.Тамбайя справедливо оспаривает это мнение. Понятия «религиозной харизмы, эффективности, влияния, силы», считает он, стоят здесь в одном смысловом ряду [Tambiah, 1976, с. 485], т.е. сила опять же обладает «вкусом Дхаммы» и не может восприниматься совершенно вне идеи заслуг.
Моральное обоснование власти обнаруживается при выявлении лидеров в деревне по их «набожности» и сопутствующим качествам (см. [Mizuno, 1973, с. 131; Ebihara, 1966, с. 186]), но особенно явственно оно прослеживается в подробной и опирающейся на ряд канонических сутт концепции Дхаммараджи — дхаммического, буддийского царя. Дхаммараджа — это правитель, руководствующийся не специальной «дхармой царя» (rajadharma), как в брахманизме, а универсальной Дхаммой Будды, снимающей все специальные различия. Джаммараджа — Чаккаватти, властная ипостась Будды. Праведность, как учат джатаки (51, 151, 521 и др.), царские хроники (бирманская «Хманнан Язавин», ланкийская «Чулавамса» и др.) [Hung, 1970, с. 142, 147], считается главным достоинством царской власти. «Десять царских добродетелей» включают щедрость, соблюдение общих моральных заповедей, незлобивость, терпимость и прочие чисто буддийские по духу черты. В отличие от «гедонистического милитаризма» «Артхашастры» [Butr-Indr, 1979, с. 165], который может оставаться внеморальным, буддийская политическая культура не мыслит себе такого царя, который был бы равнодушен к морали. Один тайский поэт XVII в. объясняет несчастья в государстве пороками царя [Sivaraksa, 1979, с. 51]. По одной из джатак (334), если правитель справедлив и благороден, все плоды, масла, мед в государстве сладки, в противном случае они становятся горькими. В конце концов моральное качество правления связывается с ходом природных ритмов [Smith В., 1978а, с. 62], причем — и это очень характерно — причиной является первое, а не второе (14). Образы праведных царей, начиная с Ашоки, настойчиво культивируются в буддийской исторической памяти.
——————————————————————————————————-
(14) О космическо-социальном синтезе в античной утопической традиции см. [Фрейденберг, 1990]. Здесь многое прямо перекликается с буддийской утопией.
——————————————————————————————————-
Абсолютное совпадение морали и власти, однако, невозможно; быть святым на троне гораздо труднее, чем в монастыре. Власть не может быть ненасильственной, и поэтому всегда существовала сложнейшая политико-психологическая проблема легитимации насилия, в буддизме тем более сложная, что власть претендует на исконную праведность. История тхеравадинских обществ знает отнюдь не меньше насилия, чем история всех других обществ. Пацифизм, выводимый из буддийской морали и распространяемый на традиционный буддийский социум,— это, как верно пишет Т. Линг [Ling, 1979а, с. 136—139], не более чем миф, не способный скрыть постоянную череду войн и жестокостей. Правда, воинственная символическая образность в буддизме не получила такого развития, как в исламе или христианстве; понятие «священная война» (джихада или крестовый поход) в истории тхеравады имеет слабые аналогии. Насилие, война, милитаризм на первый взгляд противоречат высшим трансцендентным ценностям буддизма, но не следует забывать о некоторой внутренней «воинственности» (в «земных» ориентациях), обусловленной его кшатрийским происхождением [Reynolds F., 1978, с. 137]. Насилие в сферах высшей власти, в отличие от сравнительно мягких отношений в деревенской среде, бросилось в глаза Р. Ноксу в Канди в XVII в. (см. [Anumugama, Meyer, 1984, с. 52]). Для бирманских крестьян, согласно популярной фольклорно-апокрифической максиме, государство стоит в ряду «пяти главных зол» наряду с пожаром и наводнением; государство приравнивается к природным стихиям, слепо и беспощадно вторгающимся в праведную деревенскую жизнь. Были случаи, когда цари убивали даже монахов [Spiro, 1970, с. 381]. Власть в ее стихийно-насильственном проявлении, очевидно, вызывала не столько благоговение, сколько страх; видимо, отношение в целом было двойственным, сочетающим и то и другое (15).
——————————————————————————————————-
(15) А. Тертон обращает внимание на обилие в тайском языке лексических средств, выражающих страх перед силой и поклонение ей [Turton, р, 1987, с. 109]. Л. Пай пишет о презрении к подчиненным и подобострастии-страхе по отношению к начальству как о важных составляющих «психологического опыта бирманской бюрократии» [Руе, 1962, с. 68].
——————————————————————————————————-
Как неизбежное следствие государственного прагматизма при тхеравадинских дворах всегда появлялись советники-брахманы (но не буддийские монахи!), знакомые с искусством управления; была распространена наука политики, имевшая явно брахманистское происхождение (dandaniti); складывались небуддийские культы царской власти (включая целый ритуально-символический комплекс). Это были дополнительные средства легитимации власти, делавшие насилие «справедливым», но без чисто моральной санкции (см. [Всеволодов, 1978, с. 77, 79; Краснодембская, 1982, с. 17, 21]).
Однако такие средства легитимации в буддийском обществе были недостаточны. Царям приходилось всегда заботиться о том, чтобы вернуть власти «вкус Дхаммы», который она, переступив какой-то предел, утрачивала. Для этого годились только чисто буддийские средства, из которых самыми популярными были грандиозное религиозное строительство к церемонии подношений сангхе. Чем больше насилия совершалось, тем в больших масштабах оно затем замаливалось (бирманские деспоты Байнаунг и Бодопая в этом отношении мало отличаются от Ивана Грозного) (см. [Холл, 1958А с. 186, 398—400]). Царские дана должны быть так же обильны, как и пролитая царями кровь, только тогда объем заслуг правителя может быть восстановлен. Оправданием войн была и защита буддизма: классическим и едва ли не единственным в литературе примером такого рода является прощение монахами царя Дуттхагамани за убийства, совершенные им в антитамильской освободительной войне. Этот случай, описанный в «Махавамсе», имеет значение почти мифологического архетипа (16).
——————————————————————————————————-
(16) Перевод из «Махавамсы» см. [Семека, 1969, с. 104]. Согласно мифу, содержащемуся в «Махавамсе», в копье Дуттхагамани была вставлена реликвия Будды, что само по себе прощало совершенные им убийства. О значении этого текста для ланкийской буддийской политии см. [Оbеуеsekere, 1979b, с. 285].
——————————————————————————————————-
Оправдание насилия в буддизме все же всегда было спекулятивной натяжкой, и в исторической памяти оставались цари-праведники, предпочитавшие свести насилие к минимуму и властвовать с помощью Дхаммы; классическим примером такой стратегии, безусловно, является провозглашенный Ашокой в его 13-м эдикте принцип «завоевания Дхаммой» (dhamma vijaya), а не силой. Буддийские исторические хроники, впрочем, признавали оба типа праведных героев — царя-праведника и царя-воина (см., например, противопоставление полулегендарных сингальских правителей Деванампиятиссы и Дуттхагамани в двух хрониках — «Дипавамсе» и «Махавамсе» [Clifford, 1978, с. 42—43]). Идеал, к которому стремилась буддийская политая, заключался в том, чтобы, во-первых, подтвердить сакральность (властной) силы и, во-вторых, придать этой сакральности именно буддийский характер. В буддийском мировоззрении, как уже отмечалось, имелись для этого необходимые предпосылки. Было бы упрощением считать этот идеал или исторической действительностью, или, наоборот, идеологической ширмой, скрывающей полную отчужденность и насильственность власти. Здесь тончайшая диалектика: в ткань властных отношений вплетены многочисленные смысловые и ценностные нити; зазор между моралью и насилием то увеличивается, то сокращается.
Буддийский милленаризм в концепции власти
Выше говорилось по крайне мере о трех концептуальных блоках в системе легитимации высшей (царской) власти в традиционных тхеравадинских политиях: царь-Чаккаватти (властный аналог Будды); и царь-Дхаммараджа (праведный правитель); царь-Дэвараджа (бог-царь с сильным индуистским колоритом). Еще один блок представляет правителя в качестве Бодхисатты, т. е. существа, обладающего энергией каруна (сострадания) и в будущем предназначенного стать Буддой. Этот четвертый блок тесно переплетен с тремя предыдущими, но его своебразие состоит в мессианско-эсхатологической атмосфере, которую он создает вокруг власти. Космологическая основа культа царя-Бодхисатты — вера в грядущий конец мирового «цикла Дхаммы», который наступит, согласно такому авторитету, как Буддхагхоша, через 5 тыс. лет после ниббаны Будды Гаутамы. Тогда явится Будда Меттея (ныне Боддхисатта), приход которого совпадет с (или последует сразу за) воцарением Всемирного Справедливого Правителя. Но важно то, что в буддийском космоисторическом сознании эти два образа пересекаются и стремятся к тождеству [Tambiah, 1984, с. 319], подобно тому слиянию Будды и царя, которое в каноне трактуется как изначальное. Геометрия этой идеи такова: в одной точке космоса-истории рождаются две линии — мироотрицающая, религиозно-аскетическая линия Будды и мироутверждающая, властная линия царя; линии параллельны, но в конце мирового цикла, в далеком будущем, они сойдутся (17).
——————————————————————————————————-
(17) Это только тенденция, поскольку, строго говоря, фигуры грядущего Будды и грядущего Царя различимы (см. [Skrobanek, 1976, с. 15; Sarkisiyanz, 1978, с. 90]).
——————————————————————————————————-
Мифологическое прошлое и эсхатологическое будущее во всех культурах зеркально отражают друг друга: грядущая утопия мыслится как возвращение предвечного золотого века. Это идеальное состояние начала и конца является образцом и для настоящего. Поэтому линия Дхаммы и линия царства имеют тенденцию к скрещиванию на протяжении всей истории. Отсюда проистекает представление о царе-Бодхисатте, призванном воплотить на земле райский порядок уже сейчас. Таким образом, конец мирового цикла либо приближается, ожидается «до срока», либо, скорее всего, предвосхищается: нынешний правитель уже в этом своем рождении пытается установить элементы того идеального порядка, который окончательно восторжествует в будущем.
Множество царей в истории тхеравадинских стран провозглашали себя бодхисаттами, равно как и присваивали титулы Чаккаватти и Дхаммараджа (Буддараджа) в различных их сочетаниях (титул Дэвараджа встречается гораздо реже).
Но таково место милленаризма лишь в идеологии порядка. В идеологии же конфликта он принимает иные формы и играет иную роль в политическом процессе. В тех случаях, когда дела в государстве неблагоприятны, когда есть угроза внутреннего кризиса или внешнего вторжения, когда появляются сомнения в буддийском характере правления, милленаристские ожидания усиливаются и связываются с альтернативными харизматическими фигурами. Эти харизматики часто становятся лидерами вооруженных оппозиционных движений и основой их харизмы, как правило, является убеждение в том, что они (будь то крестьянский вожак или мятежный принц) — мессии, сочетающие в себе качества бодхисатты и справедливого царя и призванные восстановить порядок в духе «буддийского царствования».
На практике эти представления служили инструментом бесчисленных узурпаций, сепаратистских и крестьянских восстаний, причем на место буддийского правителя предлагались оппозиционные кандидатуры — лидеры движений. На Ланке наиболее известные из восстаний — в 1818, 1832 и 1848 г.—возглавляли люди, объявлявшие себя претендентами на кандийский престол. Под флагом Буддараджи (Сетья-мин-буддаяза, где Сетья-мин — бирманский эквивалент Чаккаватти) вспыхивали крестьянские движения в Бирме в 1839, 1855, 1858, 1860, 1886, 1889, 1930—1931 гг. (знаменитое восстание под руководством Сая Сана, провозгласившего себя буддийским царем) [Sarkisyanz, 1978, с. 90]. В Таиланде- подобные движения (во главе с пху ми бун) происходили уже в период Сукхотаи в Аютии (лидеры — Тхамтхиан и Бун Кхван); с 1767 по 1770 гг. просуществовало государство во главе с монахом Руаном на Севере Таиланда; методически подавляемые зачатки подобных движений возникали и в XIX в. уже при династии Чакри [Skrobanek, 1976, с. 25—27] и в XX в. — в 1899, 1902, 1924, 1933, 1958, 1973 гг. [Tambiah, 1984, с. 311]. Так или иначе эти движения были связаны с кризисными ситуациями: в 1886—1889 гг. в Бирме отмечена первая резкая реакция на только что завершившееся британское завоевание; восстание под руководством Сая Сана совпало с мировым кризисом, неожиданно резко отразившимся на экономических условиях в Нижней Бирме; движение 1899—1902 гг. в Таиланде было ответом на усилия Чулалангкорна, направленные на более эффективное подчинение тайского Севера Бангкоку [Tambiah, 1984, с. 311] и т. д.
Как ни различны по сути все эти формы политического процесса, они сходны в одном — в милленаристском ожидании, связанном с концепцией двуединства линии Будды и линии власти, фигуры бодхисатты и фигуры правителя. Милленаристские представления могут питать и идеологию порядка, и идеологию конфликта, легитимировать и власть (данный режим), и смену власти (режима) (18).
——————————————————————————————————-
(18) Об антиномическом характере буддийского милленаризма см. [Wipjeyevardene, 1967, с. 39—40; Skrobanek, 1976, с. 17, 24—25; Tambiah, 1984, ft. 319].
——————————————————————————————————-
Идеальная буддийская полития. «Две с половиной линии» политической культуры
В рамках тхеравадинской культуры не было создано сколько-нибудь законченной, систематической специальной теории государства, что открывало путь брахманской политической учености ко дворам буддийских правителей. Но в тхеравадинской традиции есть яркая мифологема праведной власти царя — Чаккаватти-Дхаммараджи-Бодхисатты. Согласно этой мифологеме, верховная власть не имеет божественного происхождения (как инкарнация ведийского бога, «мандат Неба» и пр.); ее истоки подчеркнуто социоисторические (точнее, социомифологические). По известному тексту [Aganna-sutta, D. N.], имеющему множество апокрифических переложений, первоначальная земная гармония разрушена человеческими страстями, корнем которых была эгоцентрическая жажда жизни. «Грехопадение» превратило общество в хаос корысти и вражды, и тогда люди поставили над собой Правителя — самого справедливого и благородного из людей, призванного поддерживать порядок. За это ему решено было ежегодно отдавать часть доходов государства. Здесь обращает на себя внимание прежде всего мотив «избрания на царство» (19).
——————————————————————————————————-
(19) И идея в целом, и некоторые ее детали явно заимствованы в брахманистской традиции «Законов Ману» и «Артхашастры». Намеки на избрание царя есть уже в «Ригведе» [Singh, 1985]. Тот же мотив присутствует в бирманской легенде о дереве падейта (древе изобилия), символе золотого века: царь был избран, когда плоды дерева падейта стали расхищаться, когда возникло представление о «моем» [Sarkisyanz, 1965, с. 174]; тот же мотив можно обнаружить в литературе тхамматат в Бирме и Таиланде и нитигхандува на Ланке [Tambiah, 1976, с. 483]; в тайском «Трайбхум» первый царь получает кроме звания Махасамматараджа также титул ahttiya в связи с выделением ему части земель и доходов [Skrobanek, 1976].
——————————————————————————————————-
Мотив «договора» служит основой часто встречающегося в литературе определения буддийской концепций государства как своеобразного варианта «общественного договора» [Ling, 1983, с. 63; Evers, 1972, с. 105; Butr-Indr, 1979, с. 139; Hung, 1970, с. 133—134; Thaung, 1959, с. 175—176 и др.]. И хотя этот мотив очевиден, буддийский «социальный договор» не может рассматриваться как некая законченная секулярная теория или даже как особая часть такой теории. Власть отдана правителю в силу признания его личной, изначальной харизмы, выбор предопределен блеском его добродетелей, внешности и силы; и хотя прямого «небесного» происхождения власти нет, сакральный элемент просматривается уже в акте «избрания» и «договора».
Этот сакральный элемент наполняется чисто буддийским содержанием в тройной концепции Чаккаватти-Дхаммараджи-Бодхисатты. Буддийское государство оказывается в идеале не чем иным, как коллективным предприятием по всеобщему спасению, а царь— высшим гарантом успеха на этом пути (он спаситель — Бодхисатта). Трезвый прагматизм «социального договора» в таком контексте уступает место убеждению в том, что цель государства чисто религиозная и «здешний» порядок, благополучие подданных — это только условие достижения ниббаны (20). Паганский царь Алаунситу (1112—1167) обещает «построить крутой мост над потоком сансары, и все люди устремятся по нему и достигнут блаженного состояния» [Shwegugyi Pagoda Inscription]. Типичный тайский правитель Лютаи (1347—1370) ставит целью самому стать Буддой и «все живые существа увести из океана несчастий и перерождений» (см. [Hung, J970, с. 154]).
——————————————————————————————————-
(20) Похожие мысли содержатся в теократических концепциях японских буддийских учителей — Сайте (IX в.), Нитирэна (XIII в.) (см. [Игнатович, 1987, с. 156—159]).
——————————————————————————————————-
Таково высшее назначение идеальной буддийской политик, но эта конечная цель определенным образом окрашивает и каждодневную политическую практику. Какой должна быть высшая власть? На это отвечает «Махасудассана-сутта» [D. N.] (21), рисующая картину великолепного царствования образцового монарха. Не буду делать подробного разбора, выделю некоторые ключевые моменты. Во-первых, этот монарх прямо провозглашает Дхамму государственной идеологией, а буддийские моральные принципы — нормами власти (22). Во-вторых, интересы подданных он ставит выше своих, ему не чуждо то, что мы назвали бы «демократизмом в популистском духе» (23). В-третьих, он покровитель, вся его деятельность направлена на благоустройство жизни в государстве и заботу о подданных: он строит здания, разводит сады, не жалеет своих богатств, давая каждому то, в чем тот нуждается (24). Историческим воплощением этого царя-бла- гоустроителя был Ашока (до него — персонажи жизнеописания Будды — Бимбисара и Пасанади). Ашока изложил свою программу в 7-м наскальном эдикте: «Я приказал посадить баньяны вдоль дорог, чтобы дать тень людям и животным. Я приказал вырыть пруды… построить дома для отдыха». Но главным смыслом этой программы Ашока считал создание условий, чтобы «люди могли следовать Дхамме с верой и благоговением» (см. [Southwold, 1983, с. 176; Самозванцева, 1989, с. 159]). Поэтому масштабно в первую очередь его религиозное строительство. Подобных примеров в двухтысячелетней истории тхеравады множество (см. [Hung, 1970, с. 156, 166]). При всем том легендарный Махасудассана и его реальные последователи имели огромные владения, великолепные дворцы, многочисленную свиту, хорошо обученные войска, сочетая царственную благотворительность с культом роскошного царствования (25).
——————————————————————————————————-
(21) Параллельные места см. [Джатаки, 95, Mahaparinibbana-sutta, D. N.др.]. Sudassana (пали) — «великолепный».
(22) Свой дворец он называет dhammam, т. е. Дхамма (праведное учение).
(23) «Однажды… царь Махасудассана направлялся к месту отдыха со своей армией… Там… к нему приблизились брахманы и миряне и сказали: “О царь, проезжай медленно, чтобы мы могли дольше созерцать тебя!” Но царь… обратившись к своему возничему, сказал: “Правь колесницей медленно, о возничий, чтобы я мог дольше созерцать мой народ”» [Mahaudassana-sutta, 54].
(24) «Царь Махасудассана установил постоянные раздачи на берегах Лотосовых прудов — еду для голодных, питье для жаждущих, одежду для неимущих, средства передвижения для тех, кто нуждается в них, ложе для уставших, жен для тех, кто ищет их, золото для бедных, деньги для тех, кто в нужде» [Mahasudassana-sutta, 63].
(25) См. также [Balapandita-sutta, М. N.]. «Блеск царствований» — доминирующая черта концепции власти, идея устроительной деятельности выражена не столь явно. В китайской (конфуцианской) политической культуре, например, преобладает ориентация власти именно на эффективную социоупорядочивающую деятельность, гармонизацию отношений. Это чрезвычайно важный контраст.
——————————————————————————————————-
Все это позволило М. Веберу дать два весьма точных определения идеальной буддийской политик (применительно к царствованию Ашоки, которое было архетипическим для позднейших тхеравадинских государств): в одном месте он называет ее «государством благоденствия» (по аналогии с «welfare state»), в другом — «буддийской теократией» [Weber, 1960, с. 238, 241]. Действительно, центральная власть покровительствует всему народу (Вебер связывает это с «латентным демократизмом» буддизма), выступая в роли патерналистской силы, объединяющей классы и сословия, и легитимируя себя с помощью идеи единой Дхаммы (что существенно отличается от партикуляризма кастовых дхарм в индуизме). Вместе с тем это именно «теократия» в том смысле, что во главе государства стоит сакральный (хотя и не божественный) правитель, власть которого сильнейшим образом этизирована и не имеет иных принципов и целей, кроме религиозных (сотериологических). Эта модель — слепок с элементарного отношения патрон—клиент, описанного выше: моральный рационализм «буддийских добродетелей» сочетается с иррациональной сакральностыо харизматического лидерства. Разумеется, в образе правителя и в масштабах государства все эти качества достигают почти космических высот: ведь Чаккаватти — это мирская ипостась Будды, а государственная бюрократия в каком-то смысле приобретает характер религиозного института (по принципу параллельности). Такова первая — патерналистская — линия буддийской политической культуры. Блещущий великолепием, праведный царь-патрон стоит над всем народом и по этой же модели строятся патрон-клиентные отношения на всех уровнях. Этот идеальный тип не только прекрасный мифологический образ, несбыточная мечта; ведь всякая утопия есть ориентир, нормативная матрица, с помощью которой «программируется» практика. Политический идеал нельзя считать камуфляжем, идеологическим лицемерием, призванным скрывать грубый прагматизм власти. Механизм легитимации следует понимать не как внешнюю маскировку, а как внутреннее ценностное (смысловое) обоснование.
Но это вовсе не значит, что утопия может быть целиком воплощена. Насилие, как уже говорилось, было привычным делом в буддийских государствах. Реальная полития здесь наряду с патернализмом, ориентацией на всеобщее благоденствие, теократическим духом могла также быть деспотической. Это вторая — деспотическая — линия политической культуры. Она сложилась под сильным влиянием небуддийских традиций; прежде всего, это шиваистская идея devarajа, о которой речь шла выше: обожествленный правитель или, в более осторожной интерпретации, носитель божественного принципа власти — это нечто глубоко отличное от Чаккаватти-Дхаммараджи-Бодхисатты и по духу, и по существу (см. [Корнев, 1987, с. 134]), это уже потенциальный деспот (можно вспомнить роль брахманского культа при тхеравадинских дворах).
Но и сама буддийская утопия содержала, как это ни странно, семена не только покровительства, но и деспотизма. Его возможность заложена в сакральности власти ex definitio, в харизматической природе правления, в популистском духе легитимации, в тенденции к тотальному этатизму (ибо объектом забот государства является помимо прочего и духовная жизнь подданных). Еще одно обстоятельство — эластичность закона каммы. Любая узурпация власти, примерами которой изобиловала история этих обществ, автоматически удостаивалась каммической легитимации. Всякие действия верховной власти также оправданы ipso facto; знаком иссякания каммической энергии (запаса заслуг) правителя может быть только факт его падения. Это допущение произвола распространялось на политические игры при дворе и во всех звеньях аппарата.
На скрещивании этих линий и возникла деспотическая традиция как альтернатива и дополнение к патерналистской традиции. История тхеравадинских обществ демонстрирует и их динамическое сочетание, и преобладание то одной, то другой. Буддийская политическая программа предполагает и акцент на моральном государстве благоденствия, и акцент на деспотическом произволе; выбор зависит от многих исторических переменных (26).
——————————————————————————————————-
(26) Ф. Леман говорит о двух типах тхеравадинской монархии, соответствующих двум концепциям царской власти, — Дхаммараджа и Дэвараджа; вторую он называет «кхмерской» [Lehman, 1987b, с. 178].
——————————————————————————————————-
Кроме этих двух основных линий существовала и промежуточная, «половинная» линия милленаристского протеста. В отличие от двух названных моделей государственного порядка милленаристский протест можно считать моделью антигосударственного радикализма, политической оппозиции порядку. Эта модель родственна идее царя-Бодхисатты, которая есть не что иное, как «прирученный» милленаризм. Живой, «дикий» милленаризм анархичен, он, отвергает властный порядок и требует земного рая (схема 1, кликабельно).
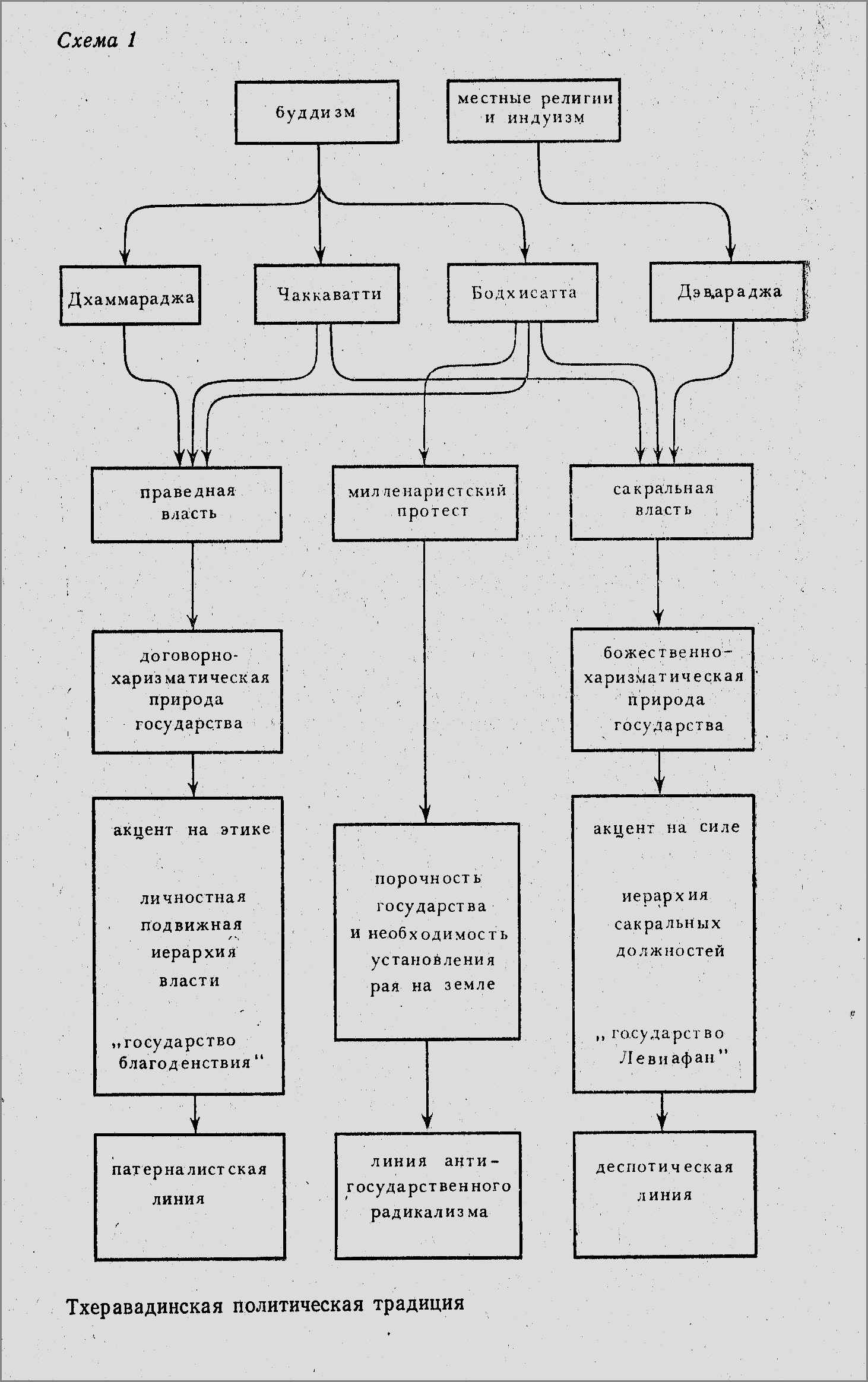
Схема 1. Тхеравадинская политическая традиция
На схеме выделены четыре основных титула буддийских царей и показаны содержание и связи в концепции власти. Буддийские источники присутствуют в обеих линиях, хотя в одной более непосредственно, а в другой — косвенно, в рамках буддийско-брахманистского синтеза. Наиболее далеко отстоят друг от друга тип Дхаммараджа и тип Дэвараджа; типы Бодхисатта и Чаккаватти — промежуточны. В предпочтительном употреблении каждого из титулов на протяжении истории была определенная логика: титул Дхаммараджа более инструментален, он непосредственно относится к характеру царственной личности и предполагает сугубо моральные, мягкие методы правления. Титул Чаккаватти подчеркивает имперское могущество, универсализм царственных претензий. Титул Бодхисатта акцентирует внимание на религиозно-утопических задачах царствования, эти же взгляды лежат в основе милленаристского протеста. Титул Дэвараджа означает божественную абсолютность власти. В истории тот или иной титул преобладал тогда, когда надо было подчеркнуть один из этих мотивов. Например, в Сиаме титул Бодхисатта (применительно к правителю) чаще употреблялся в эпоху Сукхотаи; в период Аютхии доминировала заимствованная у кхмеров идея Дэвараджи — и соответственно происходило смещение центра тяжести в сторону деспотической линии политической культуры; в период Тхонбури акцент снова делался на Бодхисатте (самообожествление Таксина в конце его царствования рассматривается как отход от нормы [Butt, 1978, с. 39—40]); в Бангкокский период титул Бодхисатта использовался довольно умеренно (и скорее уже не как титул, а для сравнения монарха с бодхисаттой [Skrobanek, 1976, с. 23]), и на первом плане стояла концепция Дхаммараджи (27). Что касается концепции Чаккаватти, то она, по-видимому, подразумевалась всегда. Конечно, все титулы-концепции, как и обе главные линии политической культуры, сосуществовали и взаимодействовали очень активно. В смене предпочтений и смещении акцентов можно обнаружить некоторые закономерности (28).
Эта своеобразная конфигурация принципов высшей власти в сумме составляет политическую культуру, заложенную в «генах» тхеравадинских обществ (29).
——————————————————————————————————-
(27) М. Хукер выделяет три принципа верховной власти в Сиаме: царь-патриарх (в Сукхотаи); Дэвараджа (в Аютхии); Дхаммараджа (начиная с Рамы I) [Hooker, 1978, с. 31]. Интересно противопоставление северотайской (чиангмайской) и «кхмерской» линий политической культуры в том же Сиаме [Wijeyevardene, 1967, с. 34]; эта оппозиция примерно соответствует двум выделенным линиям — патерналистской и деспотической.
(28) Здесь нет необходимости говорить о них. Отмечу лишь, что есть известная корреляция милленаристского компонента (с явным предпочтением титула Бодхисатта) с чрезвычайными историческими обстоятельствами. Например, претензия на роль Бодхисатты Пья Таксина (1767—1781) совпала с периодом хаоса и смены династий. Другой пример — бирманский царь Алаунпхая (1752—1760), имя которого абсолютно идентично термину «будущий Будда», тоже был основателем новой династии и возрождал государство после периода анархии.
(29) Оппозиция двух линий или двух традиций политической культуры не должна рассматриваться как приложение к азиатской истории новоевропейского политического спора. В европейской политической мысли, начиная с Ж. Бодена, Н. Макиавелли и Т. Гоббса, власть противопоставляется тому, что мы называем гражданским обществом, в виде безразличного к средствам Государя, Левиафана или, по М. Веберу, аппарата, обладающего монополией на применение насилия. Вторая линия европейской политической культуры — это теория общественного договора Дж. Локка и Ж-Ж. Руссо, а также теория естественного права. Выше я иногда пользовался этими аналогиями. Возможно, что на глубоком уровне существует метакультурный инвариант подобного противопоставления жесткой и мягкой линий. Вместе с тем очевидно, что патернализм буддийской политик столь же отличается от теорий в руссоистском духе, сколь не похожи друг на друга юго-восточноазиатский деспотизм и рационалистический идеал сильного государства.
——————————————————————————————————-
Структура государства и механизм власти
До сих пор речь шла в основном о мировоззренческой «подкладке» тхеравадинских политий, или о концепции власти; теперь необходимо остановиться на том, как именно эти государства функционировали.
Внешняя сторона дела заключается в следующем. Буддизм в целом и его отдельные элементы-символы служили опорой политической интеграции в противовес раздробленности и сепаратизму. Способность к объединению заложена в универсальном характере буддийского мировоззрения и этики, в их надкастовости и надсословности. Чрезвычайно .важной предпосылкой интеграции является и концепция универсального монарха (Чаккаватти), стоящего в «центре вселенной» и потому идеологически преодолевающего множественность местных очагов власти; эта концепция служит обоснованием имперского типа интеграции. Вместе с тем уже в идее вселенского правителя заключено своеобразие, определяющее и специфику интеграции в целом. Это прежде всего преимущественно символический характер царской миссии: Чаккаватти возвышен почти до божественного сана, он воплощает в себе не столько государственный, сколько религиозный принцип; он не столько правит, сколько блещет своими добродетелями и великолепием своего царствования; не эффективный порядок в государстве, а поддержание собственной образцовости — его главная задача и всеми признаная, подлинная функция власти. Буддийский монарх обладает не столько «харизмой должности», сколько «личной харизмой»; генеалогические, династийные корни царствования играют меньшую роль, что всегда давало повод для конфликтов в вопросе наследования (см. [Tambiah, 1985, с. 236]). Важно и то, что Чаккаватти, согласно концепции власти, находится в прямых отношениях со всем народом (своеобразный буддийский популизм), независимо от сословных делений, и не только не является вершиной какой-либо устойчивой социальной пирамиды (кастовой или подобной ей), но, наоборот, в каком-то смысле снимает (как и его alter ego — Будда) «вечные» различия, уравнивая всех своим монаршим «отцовством». Еще одна особенность заключается в отсутствии идеи территориального суверенитета и, значит, в нечеткости государственных границ, что явно контрастирует с европейской или китайской традициями. Царь — правитель народа, подданных, а не территории, и его богатства исчисляются отнюдь не землями, а людскими ресурсами [Hooker, 1978, с. 31].
Таким образом, оказывается, что верховная власть буддийского образца не может служить ядром устойчивой структурной интеграции политии, хотя, безусловно, она обладает средствами ее символической интеграции. Поэтому для реальной интеграции было совершенно необходимым заимствование видоизмененных брахманистских принципов, т. е. того, что составляло вторую линию политической культуры с ее развитым культово-ритуальным орнаментом, элементами политической теории и политического действия. Именно эту вторую линию можно считать источником бюрократической государственности, иерархии должностных рангов, командного принципа в управлении, зачатков аппаратной дифференциации и т. д. В некоторые периоды эта интеграция «сверху» достигала довольно высокой степени — например, в Кандийском царстве (в государственном устройстве которого было использовано и кастовое деление), в Аютхии с XV в., в Сиаме в XIX в., в государстве Конбаун в Бирме в XVIII— XIX вв. Наибольшей детализацией, имеющей индо-раннекхмерские истоки, отличалась тайская политическая традиция; она была заложена со времен административных реформ Грайлока (1448—1484), который ввел (или оформил) систему рангов и наделов (сакди на), создал довольно стройный управленческий аппарат и кодифицировал обычное право (тхамматат). Раме I, составившему три столетия спустя новый правовой кодекс, было на что опереться (30). Эта уникальная для буддийских стран традиция политической интеграции сыграла свою роль в становлении нового Таиланда.
——————————————————————————————————-
(30) О сравнительно высокой «технической» утонченности и разработанности китайского права см. [Hooker, 1978, с. 27; Lee, 1978, с. 176—177].
——————————————————————————————————-
Вместе с тем следует помнить, что в тхеравадинских обществах государственно-бюрократическая структура всегда имела серьезные ограничения, не дававшие ей развернуться во всей полноте. Таким ограничивающим и, так сказать, размягчающим фактором, кроме прочих, был буддизм, буддийская политическая культура. Я имею в виду два момента. Во-первых, саму концепцию буддийского царствования со всеми ее особенностями; эта концепция вносила в государственный порядок рыхлость и нестабильность именно потому, что в ее основе лежала идея личной харизмы с сильными морально-религиозными интонациями, а не безличные структурные принципы, относящиеся к «прагме» государственного управления. Во-вторых, всю систему значений буддийской социальной программы. Всякая формально-административная иерархия, какой бы строгой и стабильной она ни казалась, была насыщена именно тхеравадинскими ценностями личностными (неформальными) диадическими патрон- клиентными связями. Эта модель, образцовая связка, элементарная ячейка социума функционирует повсюду, в том числе и в государственном аппарате.
Есть иерархия внешняя, формальная, и есть внутренняя текучая иерархия, т. е. постоянная скрытая динамика лидеров и клиентов. Государственная власть, если говорить о существе дела, оказывается рассредоточенной в патрон-клиентных отношениях между вельможами центрального аппарата (или членами царской семьи) и провинциальными чиновниками (или членами верхушки отданных в кормление уделов); нить этих связей тянется дальше и достигает уровня отдельных деревень. В чиновнике аппарата важен не столько чин, сколько его личная роль клиента по отношению к определенному вышестоящему лицу и патрона в отношении определенных нижестоящих лиц. Таким образом, четкая формальная иерархия (даже такая броская и с виду строгая, как в Аютхии и Канди) оказывается в значительной степени фасадом, за которым скрыта подвижная, изменчивая иерархия вертикально построенных властных групп. Она подвижна потому, что клиентельные связи нестабильны по самой своей природе. Этим же объясняется вечная нестабильность тхеравадинских политий, центробежные напряжения, чередование правящих клик, смена вассальных (провинциальных) лояльностей и т. д.(31).
——————————————————————————————————-
(31) Описание этой политической реальности в Бирме см. [Lieberman, 1984], в Таиланде см. [Tambiah, 1976, гл. 8]. Схожая система была в Камбодже: «Привилегии в феодальной Кампучии не были строго наследственными… С приходом к власти каждого нового сдатя весь порядок внутри преах вонгса менялся, как и их доходы. Чиновный аппарат также часто менялся… Кроме того, новые начальники сами подбирали себе подчиненных, а это повышало мобильность кадрового состава аппарата» [История Кампучии, 1981, с. 106—107]. С. Тамбайя обращает внимание на мало исследованную сторону такого тайского института, как кром. Считается, что это что-то вроде департамента, или русского приказа XVII в. Но кром имеет и другую коннотацию: это лидер со своими последователями, слугами, сторонниками; такая структура крома отражала обычный тип групповых связей. Как только пай (благородный) назначался монархом на должность в тот или иной кром, его клиенты из простолюдинов — пхрай сом — автоматически подключались к тому же крому, т. е. группа личностных связей уже в готовом виде встраивалась в административную систему [Tambiah, 1976, 152—153].
——————————————————————————————————-
С. Тамбайя предложил для этого особого рода имперских образований термин «галактическая полития» (на примере Сиама) [Tambiah, 1976, с. 70—71] (32). В ее основе лежит космология мандалы — ядра с концентрическими кругами, где ядро символизирует столицу, круги — административные провинции (первая, ближняя периферия), затем — вассальные княжества (дальняя периферия); вассалы — это почти независимые правители, «излучающие» отраженный (от императора) свет. В центре — Чаккаватти, который как «универсальный монарх» не претендует на контроль над территорией мелких правителей и не стремится их уничтожить; последние суть тоже суверенные правители, но только с меньшей сферой влияния (менее интенсивным «излучением»). Собственно, статус центра в этой игре получает тот правитель, чье «излучение» в данный момент наиболее интенсивно. Распределение сфер влияния в административных провинциях (на ближайшей периферии, где контроль центра относительно выше) происходит в конечном счете также через пожалования крупным вельможам кормлений, со временем обретающих значительную феодальную самостоятельность. Каждое из зависимых образований представляет собой «реплику» центра, повторяет его модель, и вокруг этих малых центров складывается сходная структура влияния в духе мандалы, но в меньшем масштабе.
——————————————————————————————————-
(32) Эта полития «галактическая» потому, что царь окружен своими вассалами — мелкими царьками, подобно тому как Солнце окружено планетами.
——————————————————————————————————-
Во всей этой политической архитектонике заложены, как нетрудно догадаться, семена вечного сепаратизма или, наоборот, узурпации власти в центре (со стороны царских родственников, провинциальных правителей, вассалов). Экономической опорой центра был контроль, во-первых, над рабочей силой (а не над территорией!), а значит, над поступлением в казну аграрных продуктов (риса прежде всего) и, во-вторых, над морской и речной торговлей (33). Ослабление этого двойного экономического могущества сопровождалось ослаблением имперской власти, силы «излучения» центра, что сразу же вело к многочисленным мятежам и узурпациям. Если продолжить аналогию с источниками света, то государства этого типа можно назвать, как это делает С. Тамбайя, «пульсирующими политиями» (Tambiah, 1985, с. 261, 269].
Описанная модель, по-видимому, традиционно была характерна для всей Юго-Восточной Азии, кроме китаизированного Вьетнама, и потому вряд ли она строго причинно связана именно с буддийской политической культурой; однако есть основания полагать, что последняя в некоторых своих чертах (концепция Чаккаватти, подвижный клиентельный характер зависимости и пр.) легко вписывается в эту модель (34).
——————————————————————————————————-
(33) Х.-Д. Эверс утверждает, что доходы от внешней торговли в государствах Юго-Восточной Азии отнюдь не были побочными, не служили дополнением к доходам от аграрного производства, как это представляется по стереотипу азиатской деспотии. Сила и слабость государства зависели от сочетания двух этих одинаково важных источников [Evers, 1987].
(34) Г. Обейесекере не согласен с тем, что модель «галактической политии» заложена в буддийском каноне [Obeyesekere, 1979а, с. 636]. Но С. Тамбайя находит в каноне не прямой прообраз Аютхии, а только некоторые «свернутые» возможности, которые раскрылись в конкретные периоды истории. Что касается более широкого регионального распространения этой модели, то достаточно привести слова О. Уолтерса [Wolters, 1982, gf с. 16]: «Карта ранней Юго-Восточной Азии, сложившаяся из доисторической сети небольших поселений и обнаружившая себя в исторических источниках, представляла собой ковер часто взаимопересекающихся мандал или “кругов царства”. В каждой из мандал — один царь, отождествляемый с божественной или “космической” властью, претендующий на личную гегемонию над другими правителями… На практике мандала (санскритский термин, используемый в индийских руководствах по политическому : управлению) представляла собой отдельную и часто нестабильную политическую ситуацию в туманно очерченном географическом районе без фиксированных границ… Мандалы расширялись, сужались… и т. д.». Следует признать, что для Шри Ланки, в силу ее островного положения, модель «галактической политии» менее характерна.
——————————————————————————————————-
Предпринятое в этом параграфе описание «буддийской темы» в политической традиции тхеравадинских стран позволяет выделить некоторые ценностно обоснованные принципы власти, вошедшие в историческую память и психологический опыт народов этих стран. Насколько уникальна буддийская модель власти? По ходу изложения я иногда делал сравнения с иными политическими традициями; по-видимому, многие из описанных черт можно считать не чисто буддийскими, а общевосточными или даже универсальными.
Например, сакральный колорит государства и власти — вообще очень древняя и всемирная черта. Собственно, только в иудео-христианской традиции, воспринявшей важные античные ценности, сложились ментальные предпосылки для более дифференцированного восприятия сакрального и политического как двух сравнительно самостоятельных сфер. Позднее в христианизированной Римской империи и особенно в варварских государствах наметилось возвращение к сакрализованной политии, но в Новое время произошел окончательный разрыв, подготовленный опытом драматической борьбы за инвеституру и рецепцией античности; византийско-православную культуру эта тенденция затронула, впрочем, гораздо слабее. В классическом брахманизме та же тенденция наметилась довольно рано, но в конце концов была «свернута». На Дальнем Востоке исходная сакральность политик почти не ставилась род сомнение. Таким образом, в. этом пункте буддийская полития не исключительна, и о сакральности власти можно говорить как о сохранении весьма раннего и универсального общественного архетипа (35).
——————————————————————————————————-
(35) Об азиатских разновидностях этой идеи см. [Mabbett, 1985].
——————————————————————————————————-
Другим примером является структура имперской организации «галактической политии». Здесь тоже очевидны всемирные параллели. Государство, где центр «излучает» свет, а периферийные образования в точности повторяют собой, в уменьшенном виде, функции, цели, структуры центра, напоминают устройство очень ранних «сегментных государств» [Southall, 1953, гл. 9], а в какой-то мере и организацию средневекового феодального вассалитета с заложенной в ней диалектикой центростремительности и сепаратизма.
Но, фиксируя небуддийские параллели, нельзя забывать о неповторимости буддийской политической традиции. Конкретно ценностное содержание сакральной власти здесь совершенно специфично; то же можно сказать об имперской структуре и заложенных в ней принципах. Несмотря на созвучия или совпадения в деталях и частностях, буддийская политическая традиция уникальна как целое, как единая композиция — так же, как неповторима южнобуддийская (тхеравадинская) культура в ее мировоззренческой целостности.
В XX в. за внешне хаотичным потоком событий проглядывают многие черты этой своеобразной политической традиции.
§ 2. Буддизм и власть в XX в.
Буддизм и новое государство
Среди компонентов колониального наследия важнейшим представляется новый для Азии тип государства, многие черты которого уже глубоко усвоены и стали вполне «азиатскими». Главные из этих черт: территориальная интеграция; единый рациональный экономический механизм; национальный принцип, лежащий в основе государственного единства; дифференцирование управленческой компетенции как по сферам, так и по рангам-должностям (бюрократия западного типа); механизм выборного представительства; институт политических партий и межпартийное соперничество; идеологизация политики, «программный» характер государственного управления; представление о власти как о единой системе институтов и действий, противопоставленность государства гражданскому обществу и выделение политической деятельности в качестве самостоятельной профессии. Складывание указанных черт сопровождалось чисто теоретическим влиянием соответствующих политико-правовых и общественных концепций. Представить современные государства Азии без этого сегодня уже невозможно.
Однако традиция западной государственности приобрела в Азии весьма специфическую форму, и основную причину этого следует искать в ценностной и символической сфере. Западная модель была в целом чуждой, лишенной семантического оправдания. Поэтому уже в колониальное время государство «повисало», либо держась исключительно на военном господстве, либо иногда, само того не желая, подстраиваясь к восточному контексту. Но тогда этот процесс не мог зайти далеко. Иначе говоря, государство западного типа не могло получить символического строя, который имел прочную культурную санкцию и упорядочивал все «человеческое пространство» (36).
——————————————————————————————————-
(36) Анализируя британскую политику умиротворения (pacification) Бирмы в конце XIX в., М. Аун-Твин признает установление порядка, но отказывает ему в осмысленности с точки зрения бирманского понимания власти [Aung Thwin, 1985].
——————————————————————————————————-
С начала XX в. осознание отчуждения стало нарастать. В тхеравадинских странах все явственней становилась «буддийская альтернатива», в политическом дискурсе все чаще звучали буддийские аргументы, возрождалась буддийская политическая символика. По мере того как в английских колониях (Цейлон, Бирма) распространялась идея home rule, на поверхность все больше выходили традиционные нормы и принципы властных отношений. Правда, самоуправление было вручено подготовленному для этого вестернизированному корпусу civil servants, которых вряд ли можно считать типичными носителями местной политической традиции.
Взрыв произошел после обретения независимости, во время пика «буддийского ренессанса». Так, на Ланке «буддийский ренессанс» привел сначала к некоторому падению влияния местных божеств, но способствовал тем самым не только религиозной, но и политической интеграции. Активные паломничества к буддийским святыням — один из ярких примеров этого символического объединения государства [Gombrich, 1971b, с. 111]. В середине 50-х годов на Ланке с победой партии Соломона Бандаранаике на выборах в 1956 г. произошла кардинальная смена правящих слоев: взамен вестернизированной христианской элиты к власти пришла сингальская буддийская элита, по словам Г. Обейесекере, вооруженная сингало-буддийским «мифом», идеей единой нации и соответствующей религиозной символикой (например, в стране появились тысячи статуй Будды) [Obeyesekere, 1979b, с. 311]. Так, за сменой властвующего истеблишмента угадывается глубокая перестройка символического порядка. Можно сказать, что именно во второй половине 50-х — начале 60-х годов Шри Ланка пережила деколонизацию, но этот радикальный поворот произошел внутри западногенной политической системы без нарушения парламентского механизма, без ликвидации сложившихся государственных форм. Следовательно, суть поворота заключалась в ценностной легитимации нового типа государства.
В Бирме аналогичный взрыв «буддизации» политического процесса также пришелся на 50-е годы. Последствия войны, развитый радикализм, гражданская война создали хаос, которому была противопоставлена идея единства, опирающегося на буддизм [Smith D. 1965, с. 147]. Как и на Ланке, внутренний смысл «буддизации» политик заключался здесь в легитимации опыта колониального государственного управления с помощью традиционных семантических средств. Несмотря на сопротивление этнорелигиозных меньшинств, фактор буддизма играл при У Ну важную интегрирующую роль. Полного укоренения западной демократической модели не произошло; однако и «бирманский социализм» 60—80-х годов можно считать, как будет показано далее, определенным синтезом нового (тоталитарного) типа интеграции и варианта доколониальной политической культуры.
Сходную функцию выполнял буддизм в Камбодже при Нородоме Сиануке. Буддизм Сианука был лучшим средством объединения и духовной опорой государства. Принц воплощал черты буддийской харизмы, которая преодолевала разрыв офранцуженной элиты и широких слоев кхмеров-буддистов [Bechert, 1966, т. II, с. 229]; харизма Сианука, как и харизма У Ну и Соломона Бандаранаике, была тем рычагом, с помощью которого новые независимые государства осознавали себя легитимными, морально и религиозно «правомочными». Для утверждения по-новому интегрированных самостоятельных государств этот «взрыв буддийской идентичности» в политике — своего рода духовное освобождение, хотя и на сравнительно короткий период,— был, по- видимому, необходим. С точки зрения последствий этого взрыва можно выделить два взаимосвязанных момента: с одной стороны, появляется государство, которое мощью своих политических средств подтверждает факт восстановления культурной традиции, т. е. происходит возрождение самобытности с помощью средств государственности нового типа; и наоборот, традиция, как уже говорилось, используется для легитимации государственной власти, т. е. происходит обоснование нового государства с помощью самобытных культурных средств.
Еще одно важное новшество — появление «буддийского национализма», что для ортодоксальной тхеравады неприемлемо; ведь последняя на первый взгляд всегда делала акцент на универсализме и преодолении этических границ на всем пространстве, попадающем в сферу влияния царя-Чаккаватти. И все же было бы неверным полностью отказывать буддийской культуре в «чувстве национального», в ощущении этнической обособленности (37). Малые традиции тхеравады всегда обладали именно этнической спецификой. Ислам с его культом принципиально надэтнической уммы гораздо более активно отвергал национальную идею; в буддийском же мире она усваивалась проще. Например, ланкийский буддизм перед лицом тамильской угрозы с самого начала приобрел отчетливо сингальские черты (см. вывод X Бехерта на основе анализа хроник-вамс [Bechert, 1966, т. I]) «Буддийский национализм» в зачаточной форме можно обнаружить в тайской, бирманской, лаосской и кхмерской истории; очевидно по крайней мере противопоставление канонического универсализма (свойство Большой палийской традиции) и тенденции исторических хроник отстаивать буддийское первородство каждой из этнических религиозных традиций [Ling, 1983, с. 60-73] (38).
——————————————————————————————————-
(37) Р. Тэйлор утверждал, что, поскольку буддизм (в отличие, например, от конфуцианства) не создал национальных форм, национализм в Бирме XX в. принимал чисто европейские формы [Taylor, 1987, с. 162].
(38) См. также хроники (кроме «Махавамсы» и «Дипавамсы» на Ланке), «Джинакаламали» (XVI в.) в Таиланде, «Хманнан Язавин» и «Сасанавамса» в Бирме (XIX в.). То, что буддизм был всегда привязан к конкретному государственному образованию с доминирующим этносом, подтверждается тем, что в ходе межэтнических войн воюющие армии без тени сомнений разрушали монастыри на территории противника [Tambiah, 1976 с. 162]. Ср. свидетельства о «буддийском национализме» в трех соперничащих корейских царствах — Когурё, Пэкче и Силла [Волков, 1985, с. 125].
——————————————————————————————————-
В XX в., однако, в свете процессов деколонизации, идея сопряжения религиозного и национального достигла настоящего накала, перекрывая не очень удачные попытки основать некое наднациональное буддийское единство, подобное панмусульманскому. «Буддийский национализм» сыграл роль мощного фактора новейшей государственной интеграции.
Но буддизм в большинстве случаев не мог стать стабильным фактором политического единства в силу неспособности тхеравады выработать прагматическую теорию политического управления и политической структуры. Поэтому, выполнив роль символического обоснования новой государственности, буддизм уходит на второй план, уступая место другим факторам интеграции. Идея нации начинает превалировать над идеей буддийской нации, усиливается поток секулярного национализма, предпочитающего ассоциировать себя с различными заимствованными социополитическими идеями: с социализмом (в Бирме, начиная с «Добама Асиайон» в 30-е годы и затем в 1962 г. при «бирманском социализме»); с коммунизмом (в Лаосе, начиная с зарождения «Патет Лао» и в Камбодже с 70-х годов); с либерализмом (в Шри Ланке с середины 60-х годов).
История буддийских политий второй половины XX в., несмотря на интеграционные усилия, сохраняла традиционные черты «галактического» типа. Хотя нестабильность и «пульсация» объяснялись отчасти и новыми причинами (среди которых геополитические занимают не последнее место), все же можно говорить об определенном, может быть, скрытом влиянии политической традиции. Интеграция так и не стала исчерпывающей, абсолютной в рамках сложившихся границ. Как и прежде, центр время от времени то усиливал, то ослаблял свой контроль над территорией. Современным аналогом старого сепаратизма стало повстанческое движение. В Бирме на протяжении уже более 40 лет сфера влияния вооруженной оппозиции то сужается, то расширяется в такт с «пульсацией» центральной власти; в Лаосе и Камбодже победу коммунистических сил можно рассматривать по аналогии с традиционным типом узурпации, столь характерным для доколониального политического процесса.
Пример Таиланда, на который я до сих пор не ссылался, представляется совершенно особым: это длительная и в целом стабильная государственная интеграция нового типа, для которой характерно непостоянство внутренней политической жизни, не угрожавшее, однако, единству государства; это сочетание удивительной преемственности с глубокими переменами. Особенности тайской политической культуры, как наиболее «технически» оснащенной и эластичной, уже были отмечены. Не случайно уже в XIX в. началась кардинальная трансформация политики. Кроме всего прочего тайская культура оказалась сравнительно открытой и восприимчивой к западному влиянию (интеллектуальная открытость Монгкута и Чулалонгкорна, осознание ими необходимости военной модернизации, снятие экономической изоляции по договору 1855 г.—«Bowring Treaty», активная дипломатия). Можно сказать, что Сиам открылся Западу раньше, чем тот попытался насильственно его открыть, и тем самым создал определенные гарантии для противодействия экспансии. И хотя сохранение независимости было в конечном счете исторической случайностью (какие бы геополитические соображения ни приводились на этот счет), со второй половины XIX в. Сиам постепенно и неуклонно превращается в интегрированное сильное государство, сочетающее традиционные и западные политические формы.
Для данного исследования решающее значение имеет то, что становление новой тайской государственности происходило без разрушения буддийского символического строя и, более того, тхеравада сознательно использовалась как фактор интеграции. Для утверждения самобытной независимой политики здесь не требовалось интенсивного «буддийского ренессанса» как некоего чрезвычайного легитимирующего средства. Монгкут и Чулалонгкорн стремились к «религиозному абсолютизму» — созданию единой и послушной духовной иерархии, унификации и огосударствлению культуры, очищению и управляемой модернизации доктрины и ритуала (вспомним роль секты Тхаммают),— который стал идеологической опорой и политического абсолютизма. Интеграция тайского Севера в начале XX в.— классический пример такой политики; эта интеграция сопровождалась духовным подчинением самобытной чиангмайской (тхеравадинской) традиции с ее независимой сангхой, особыми ритуалами, своим священным диалектом, доминирующей и связанной с монархией бангкокской религиозной традицией. Через 60 лет этот стереотип двойного — духовного и политического — подчинения повторился на Северо-Востоке (буддийские миссионерские движения «Дхамматхута» и «Дхаммачарик» (39). Чулалонкгорн оставил (он умер в 1910 г.) совсем новое государство, настоящую абсолютную монархию с сильным центром, бюрократически консолидирующим почти всю территорию. С. Тамбайя говорит в этой связи о трансформации «галактической» политии в «радиальную» [Tambiah, 1985, с. 281].
——————————————————————————————————-
(39) Сходная программа интеграции окраин (провинций Ратанакири и . Мондолькири) в 60-е годы проводилась с участием сангхи в Камбодже К; [Бектимирова, 1981, с. 113].
——————————————————————————————————-
При Вачиравуте (1910—1925) появилась новая конфигурация символов государства, были сформулированы три принципа: chat, satsana, mahakesat (нация, религия, монархия) (40); в этой формуле зафиксировано появление тайского национализма; буддизм же, как и в соседних странах, оказался прочно связанным с национализмом, а монархия институционально закрепила эту связь. Такое триединство создало в Таиланде в чем-то уникальную (для Азии) по прочности политико-идеологическую конструкцию. Революция 1932 г. отдала приоритет первому принципу — нации и дополнила его идеей национального развития (kaan phathana prathet), что предполагало прежде всего принятие конституции (ratatamanun) — фактически четвертый принцип, политику таизации, дальнейшее укрепление армии, курс на капитализм, народное представительство. Монархия из абсолютной стала превращаться в конституционную и начала играть роль символического стабилизирующего института [Reynolds F„ 1977, с. 274; Tambiah, 1976, с. 472—473]. Буддизм (satsana) тем не менее оставался одним из важнейших интеграционных факторов, хотя и уступал по своему значению комплексу «нация — развитие».
——————————————————————————————————-
(40) Та же триада стала позднее основой идеологии кхмерского Сангкума (jati, sasana, mahaksatr).
——————————————————————————————————-
На протяжении всего XX в. апелляция к буддизму как символу единства и фактору легитимности государственной власти не подвергалась сомнению по существу. Буддизм по- прежнему духовная основа национальной самобытности независимо от того, какие режимы — более демократические или более авторитарные (военно-олигархические) — находятся у власти. Буддизму привержены все политические силы за исключением, естественно, коммунистов и мусульман. Находясь в прочной ассоциации с монархией, буддизм в XX в. выполняет важнейшую роль в ценностно-символическом обосновании нового типа государственности. Таиланд в отличие от других тхеравадинских стран демонстрирует преимущества, связанные с трансформацией на основе культурной и политической преемственности.
Буддийские мотивы в легитимации власти
Можно привести бесконечное множество примеров того, как буддийские символы и ценности окрашивали политическую жизнь в Южной и Юго-Восточной Азии в XX в., но я ограничусь только их кратким обзором.
Во всех пяти тхеравадинских странах в разные периоды для внешнего оформления власти в той или иной степени использовались буддийская символика и ритуалистика. В Таиланде это связано с сохранением монархии и в первую очередь бросается в глаза: в 1957 г. после некоторого спада в 30—40-е годы была восстановлена внешняя церемониальная сторона буддийско-монархического комплекса. По распоряжению нынешнего монарха Пхумипола по всей стране возводились статуи Будды; был возрожден ритуал первого плуга (в начале агросезона); церемония катхин, (дарение монашеских роб) сопровождалась грандиозной процессией на царской каравелле; монарх ежегодно лично менял покрывало на статуе Изумрудного Будды и т. д. Сходная картина наблюдалась в Луангпхабанге до ликвидации монархии в Лаосе в 1975 г. В Бирме власть Ба Мо — главы созданного японцами и продержавшегося менее двух лет независимого государства.— была украшена традиционным монархическим «орнаментом» [Всеволодов, 1978, с. 177—178]. Речи и дела У Ну были подчеркнуто религиозны, он даже лично возглавлял церемонию по приему реликвий с Ланки и из Индии [Всеволодов, 1978, с. 192]. Сианук в 1957 г. сам привез в Камбоджу реликвии с Ланки [Бектимирова, 1981, с. 64]. В церемонии инаугурации ланкийского президента Джаявардене в 1978 г. использовались кандийские буддийские атрибуты [Katz, Sowle, 1987, с. 437].
Правительства тхеравадинских стран, подобно правителям старых государств, не жалели средств на покровительство буддизму и сангхе; здесь угадывается традиционный стереотип накопления заслуг за дарения (дана). Режим У Ну демонстрировал в этом смысле поразительную щедрость: были созданы специальный орган — Совет «Будда Сасана», общество по пропаганде буддизма, Палийский университет; j в 1956 г. был созван грандиозный Всемирный Собор; изданы канон с комментариями целиком, самый крупный палийский словарь и т. д. (см. [Rajavaramuni, 1987, с. 74]). Подобно прежним монархам, У Ну построил в Рангуне огромную пагоду Кабаэй, благоустроил существующие религиозные сооружения. Огромные личные подарки сангхе делали кхмерские правители Нородом Сианук и Лон Нол (Бектимирова, 1981, с. 32, 133—135]. Расходы на религию тайского диктатора Сарита Танарата были не менее крупными, хотя он и не вел речи о «буддийском государстве». Первый премьер-министр независимой Шри Ланки Д. С. Сенанаяке в начале 50-х годов выступил инициатором крупномасштабных ирригационных проектов, при этом он прямо ссылался, на великого царя-социоустроителя Паракрама Баху II [Leach, 1973, с. 39]. Эта инициатива имела явно символический подтекст. Хорошо известно, что покровительство религии оказывал Соломон Бандаранаике. Руководители государств хотят выглядеть праведными и, беря за пример модель традиционной политики, стремятся подвигнуть подданных к моральному совершенствованию и даже спасению: так, ланкийские правительства активно способствовали паломничеству к святым местам [Gombrich, 1971b, с. Ill]; в Таиланде государство оплачивает чиновникам временное пострижение в сангху на период Поста [Mehden, 1986, с. 80; Lester, 1973, с. 188]; в Бирме поощряется занятие государственных служащих медитацией [Swearer, 1981, с. 62].
Удивительно сходна с традиционной моделью и деятельность государства по очищению буддизма; в государственном радении о чистоте доктрины и строгости монашеской дисциплины всегда был не только прагматический (контроль над сангхой как экономической силой и идеологическим институтом), но и ритуальный мотив: действия по поддержанию классической подлинности духовной традиции не что иное, как ритуальное подтверждение религиозной подлинности самой власти. Тайская династия Чакри с начала XIX в. контролировала внутреннюю жизнь сангхи, периодически меняя; ее административное устройство; после 1932 г. эта функция перешла к конституционным правительствам, причем каждый новый режим стремится изменить структуру сангхи и организовать ее по своему подобию. Чулалонгкорн учредил в ордене бюрократическую иерархию (Акт 1902 г.); после 1932 г. правительства «демократизировали» сангху (Акт 1941 г.); Сарит Танарат ввел в сангхе жесткий авторитаризм (Акт 1962 г.); в связи с демократическим взрывом в- 70-е годы была сделана попытка провести новую реформу (Акты 1974 и 1976 гг., которые так и не были приняты).
Буддийские средства легитимации столь удобны и авторитетны, что к ним прибегают не только умеренные и традиционалистские режимы, но и более радикальные силы, эксплицитно отвергающие религию как таковую. Интересно проследить отношение лаосских коммунистов к буддизму и сангхе: активные контакты с буддистами в эпоху повстанческой борьбы «Патет Лао» и особенно в 1974—1975 гг. в период пребывания коалиции у власти, использование буддизма как канала для популяризации социализма, ужесточение политики, прямой партийный контроль, упразднение сект и создание единого Союза лаосских буддистов, приравнивание монастырей к кооперативам после прихода к власти в 1975 г. [Stuart-Fox, 1983, с. 447], смягчение и новые поиски буддийской легитимации с 1979 г. [Stuart-Fox, Buckuell, 1982; Stuart-Fox, 1983, с. 450—452] (41).
——————————————————————————————————-
(41) Интересно, что в народной интерпретации наводнения и засухи 1976-1978 гг. отчасти были следствием нелегитимности правительства [Stuart-Fox, 1983, с.242].
——————————————————————————————————-
Бирманские коммунисты отнюдь не всегда и не целиком были чужды буддизму, хотя бы из тактических соображений [Всеволодов, 1978, с. 223]. Режим «бирманского социализма», резко отвергший буддизм, в 80-е годы возвратился к буддийской легитимации. В Камбодже после трех лет жестокого подавления буддизма при «красных кхмерах» официальное отношение к нему явно меняется начиная примерно с 1981 г. в лучшую сторону, а коммунистический лидер Хенг Самрин лично участвует в церемонии посвящения монахов [Бектимирова, 1987]; в новой конституции, принятой в 1989 г., буддизм уже в четвертый раз (в конституциях 1947, 1955 и 1972 гг.) объявляется государственной религией.
Все разнообразие форм, в которых тхеравада «просвечивает» в политическом процессе, перечислить невозможно. Она, например, эксплицитно присутствует в концепциях-программах политических сил. Хотя идея социализма сыграла в этих странах в XX в. весьма заметную роль, в большинстве случаев социализм (как и марксизм) вплетался в буддийскую идейную ткань (или наоборот) и декларировался как «буддийский социализм». Это было при У Ну в Бирме, при Нородоме Сиануке в Камбодже, при Соломоне Бандаранаике в Шри Ланке. Дж. Р. Джаяваржене (ланкийский премьер и президент в 1977—1988 гг.) выиграл в 1977 г. на выборах с программой «Дхармишта» — «Общество, построенное на Дхамме», и провозгласил преемственность своей политики «буддийскому социализму» Соломона Бандаранаике [Katz, Sowle, 1987, с. 437]. В этом сочетании оба слова удачно помогали друг другу: слово «буддийский» делало социализм доступнее, ближе, легитимнее, «социализм» возвращал (в то время) буддизму новизну и актуальность. В этом словосочетании есть и еще один подтекст: оно представляет собой сакрализацию чисто профанной программы (а значит, и желаемого общества); в конечном счете — это скрытый способ легитимации правления. То же относится к словосочетаниям «буддийская демократия», «буддийская экономика» и пр. (42).
——————————————————————————————————-
(42) Здесь я обращаю внимание только на внешнюю сторону дела, не касаясь самих доктрин, которые подробнее будут рассматриваться в другом месте. В целом к 80-м годам прямая стыковка в идеологии буддийского и заимствованного как метод идеологического творчества потеряла свою эффективность и встречается редко.
——————————————————————————————————-
В этом столетии буддизм был далеко не единственной ценностно-символической системой, обладающей легитимирующим авторитетом в политическом процессе; его теснили такие мировоззренческие компоненты, как идеалы модернизации (развития), социализм (социальная справедливость), Демократия, свобода, законность и т. д. Однако буддизм сохранил по крайней мере два преимущества. Во-первых, в отличие от всех новых систем (концепций, теорий, отдельных символов) буддизм был подлинно индигенным, национальным наследием и потому только он обладал способностью оправдать власть с точки зрения «вечной», исторической судьбы государства, т. е. мог поставить политическое сегодня в сакральную плоскость незыблемой исторической традиции. Во-вторых, тхеравада, в силу ее нормативной мягкости и неразвитости социополитической доктрины предъявляет сравнительно мало требований к конкретному строю политической программы, к конкретным способам ее осуществления. Ислам, конфуцианство, христианство с их изощренной и «проговоренной» политико-культурной традицией гораздо четче детерминируют политическую мысль и властные действия тех, кто ищет в них свою легитимность. Буддийская легитимность другого рода: она, как уже говорилось, преимущественно символическая, поэтому ее могут использовать с одинаковым успехом и без «технических» трудностей политические силы, совершенно различные по своим ориентациям. С. Тамбайя остроумно сравнивает легитимирующую- функцию буддизма с зонтом, который в принципе может покрыть всякую программу [Tambiah, 1973, с. 59].
Новая жизнь старых ценностей
Предыдущий раздел в этом параграфе был посвящен разнообразным формам внешней легитимации власти с помощью буддийских символов и символических действий. Все это разнообразие относится к феноменальной стороне вопроса. Появляется соблазн считать всю совокупность подобных фактов только легковесной «игрой ценностями», не имеющей отношения к реальным закономерностям политики; но такой взгляд представляется упрощенным и совершенно неприемлемым. Ближе к истине другой подход: правящая элита ради достижения своих целей манипулирует символами. Разумеется, элемент манипулирования присущ всякому процессу политического господства. Однако интерпретация взаимосвязи между символами власти должна быть более тонкой, тогда и тезис о циничном манипулировании массовым сознанием покажется поверхностным.
Во-первых, для того чтобы символы были эффективными, общество или его часть должны быть к ним предрасположены, т. е. исторически должна сложиться определенная семантическая ситуация, при которой предлагаемые политиками символы или символические действия воспринимаются как значащие, или, другими словами, наделенные смыслом; если последний соотнести с «должным» (и противостоящим хаосу) порядком вещей, он сделает власть легитимной. В этом случае люди, подчиняясь власти и участвуя в ее осуществлении, найдут удовлетворение и психологическое равновесие. Кризис легитимности состоит в том, что символический строй политии утрачивает смысловое оправдание и, следовательно, власть становится «отчужденной».
Во-вторых, тезис о манипулировании огрубляет структуру мотиваций самой правящей элиты, сводя их во всех случаях к циничному лицемерию, призванному обеспечить ей массовую поддержку. В действительности политические ценности элиты (и отдельных ее групп) в той или иной степени соотносимы с семантической ситуацией в целом и подчинены общим ее закономерностям.
В политической культуре, сложившейся на религиозной почве, необходимо различать не только внешнюю игру символов и действий, но и глубокий пласт культурных значений, связанных с социальной программой религии. В конце концов оценка власти как легитимной или, наоборот, как лишенной легитимности, зависит от того, насколько сам внутренний механизм власти укладывается в массовые стереотипы властных отношений. Яростное вторжение буддийских политических символов в повседневную жизнь тхера- вадинских обществ в 50—60-е годы объясняется тем, что сложилась определенная семантическая ситуация, наполнившая эти символы мощной энергией. Демонстративная, поддержка сангхи, строительство пагод, трепетное предвосхищение 2500-летия ниббаны Будды в 1956 г. не были просто выдумками элиты в ходе борьбы за власть, а отражали «ренессанс» всей традиционной системы значений, всего традиционного механизма власти. Но можно говорить и об определенной смене политической модели: на примере Шри Ланки 50-х годов видно, как ценностный конфликт (конфликт социальных программ) совпал с политическим конфликтом между двумя группами элиты, из которых одна (колониально-католическая) была в конце концов заменена другой (сингало-буддийской) (см. [Hung, 1970, с. 365]).
Преодоление разрыва между практикой постколониальной власти и семантической ситуацией «буддийского ренессанса» было также судью символологии У Ну и Нородома Сианука. В этот же ряд можно поставить поиски буддийской легитимности тайской элитой в 80-е годы и лидерами «Сарводаи» в Шри Ланке (см. [Масу, 1983]). Это движение оказалось в тени в разгар межэтнической войны. При всем их различии исходная предпосылка была одна — усилившаяся социально-политическая асимметрия в обществе, обусловленная быстрой модернизацией, которая не имела, по-видимому, адекватного ценностного обеспечения. Сфера религиозной харизмы и сфера властных отношений теснейшим образом взаимодействуют, приближаясь или отчуждаясь и реагируя друг на друга. Здесь следует вспомнить ценностные алгоритмы: обмен дара на заслугу, превращение заслуги (харизмы) в престиж — влияние — власть (43).
——————————————————————————————————-
(43) Один из примеров глубокого взаимодействия религиозной харизмы и власти описан С. Тамбайей [Tambiah, 1984, с. 335—347]. Автор говорит о культе амулетов, имеющих хождение в Бангкоке и освященных лесными святыми Северо-Востока, но на чисто внешнем аспекте — оберегающей роли амулетов с изображением Будды и святых — не останавливается. Есть два уровня в проблеме амулетов. Первый — идеологический, «прозрачный». Отшельник передает сакральную энергию (харизму) через амулет его обладателю. Второй — более скрытый; это уровень общественных отношений. Обладатели амулетов собирают, передают, дарят, продают амулеты, используют их (а на самом деле заключенную в них харизму). Для того, чтобы превратить их в чисто мирские ценности: успех в коридорах власти, в торговле и предпринимательстве, в любовных похождениях и в патрон-клиентных связях. Амулеты перестают быть только религиозными знаками, они превращаются в скрытое имущество, используемое для ; «манипулирования, подчинения, контроля над своими ближними в нескончаемой драме социальных отношений» [Tambiah, 1984, с. 335]. Амулеты из области буддийской этики смещаются в прагматическую область торговли и прибыли (купля-продажа на рынке, тиражирование и т. д.), а также следствием нелегитимности правительства распределение власти: самые ценные и «исторически» значимые амулеты оказываются в руках власть имущих и наиболее богатых горожан.
——————————————————————————————————-
Итак, мы подошли к самому главному: скрытой жизни традиционной социальной программы в современной политик. Речь идет об уровне элементарных властных отношений, об анатомии власти. Каковы бы ни были внешние формы и как бы ни бросались в глаза политические новшества, утвердившиеся широко и повсеместно,— буддийские значения дают о себе знать.
Приведу несколько, примеров. Бирманская провинция в середине 50-х годов рассыпалась на сферы влияния местных лидеров— бо, сочетавших опору на собственные вооруженные отряды с излучением харизмы «сильного человека» (патрона), которую они, кстати, подтверждали религиозными дана. Столичная партийная элита искала контактов с бо, и вся партийная аффилиация строилась по этим патронажным линиям, тянувшимся из столицы в провинции. За покровительство наверху местные лидеры отвечали поддержкой на выборах [Taylor, 1987, с. 267]. До начала 60-х годов (партии были запрещены, Не Вином в 1964 г.) кретьянское волеизъявление на выборах целиком зависело от личной приверженности крестьян местным патронам [Nash, 1965, с. 76, 79]. Так, за фасадом многопартийного парламентаризма скрывались, как и в старом обществе, персоналистские иерархические связи. Однопартийный режим Не Вина, по своему историческому месту был уже открытым (хотя и неполным) отрицанием демократических институтов и возрождением принципов традиционной бюрократии, пронизанной личностными отношениями (44).
——————————————————————————————————-
(44) То, что режим Не Вина представлял собой почти тотальное возвращение к традиционному типу государственности, сейчас не вызывает сомнений. «Демократический» период (1948—1962) был во многом продолжением колониальной государственности. 1962 год в перспективе «большого времени» был отрицанием всего периода западного влияния, возвратом к доколониальному периоду. Этой концепции придерживается Р. Тэйлор [Taylor, 1987]. М. Аун-Твин даже считает, что подлинная независимость была получена Бирмой не в 1948 г., а в 1962 г. [Aung Twin, 1989]. Сходные мысли содержались в моей статье «Независимая Бирма: проблема ориентации» (см. [Агаджанян, 1984]). Но необходимы оговорки. Во-первых, период правления У Ну с его «буддийским ренессансом» следует считать первым актом возврата, подготовившим второй акт — традиционализацию 60—80-х годов. Во-вторых, о полном возврате не может быть и речи, скорее, как уже не раз отмечалось, можно говорить о процессе традиционного осмысления (индигенизации) общественных новшеств. Ошибочно считать, что общество в течение 100—150 лет находилось in vitro.
——————————————————————————————————-
В соседнем Таиланде, если говорить об уровне grass-roots, несмотря на его богатый опыт «демократической политики», бюрократию, в которую еще Чулалонгкорн вкладывал рациональный безличный принцип, картина окажется сходной: крестьяне мало доверяют политикам (т. е. людям, находящимся в партийно-представительной орбите политической системы); они по-прежнему используют патронажные (личное обращение к патрону) каналы для достижения своих целей [Turton, 1987, с. 89]. Везде роль лидера, обладающего сильной энергией покровительства, остается решающей; например, в крестьянских организациях (типа деревенских профсоюзов) все зависит от лидера — тхии пхоенг («некто, на кого можно опереться»), и относятся к нему как к защитнику [Turton, 1987, с. 110]. Истинный лидер — он, а не избранный представитель. Тот же тип связей характерен и для местных органов власти: как и прежде, на местной сцене доминируют две роли — phujaj и phunoj («большой человек» и «малый человек») [Mulder, 1969, с. 23]. Но перемены затрагивают и эту традиционную сеть, вековая эволюция политии оставляет свой след; А. Тертон приводит такой пример: богатый и влиятельный чиновник проигрывает на выборах молодому кандидату, получившему современное образование в городе (и даже не связанному с бизнесом) [Turton, 1987, с. 90].
О том, что традиционные значения и нормы укладываются в новые институциональные рамки, свидетельствует бирманская судебная система 70—80-х годов (аналогии, по-видимому, можно найти и в других странах). Современный суд как самостоятельный институт в принципе является заимствованным новшеством. Западные процедуры, оставшиеся от британских судов, сохранены, но наряду с ними используются традиционные по духу методы арбитража, поиск консенсуса основан на сугубо личностных отношениях судьи, истца и ответчика. Идея разделения власти нарушается сплошь и рядом: местные и региональные апелляционные суды перегружены несудебными функциями, а народные советы (органы власти) постоянно выполняют функции судов (особенно по судебным тяжбам) [Taylor,. 1987, с. 339]. В конце концов и власть судьи, и власть членов совета — это влияние конкретной личности, которая использует его, когда к ней обращаются с соответствующей просьбой.
Клиентелизм в Шри Ланке также адаптируется (но не явно) к бюрократической системе по-новому интегрированного государства. Здесь он связан с кастово-родственными отношениями. Местные кланы — пелентийя — выполняют фактически функции местной администрации; по традиции: они непостоянны и существуют до тех пор, пока его члены контролируют власть. Другая ипостась клиентелизма связана с контролем над каналами распределения публичных. благ: государство выступает как высший патрон-благодетель, и функции «благодетельствования» передаются вниз по ступеням иерархии. В систему включаются и местные- выборные парламентарии [Meyer, 1977, с. 104—105].
Перемены в политической системе Шри Ланки после принятия новой конституции в 1972 г. фактически превратили бюрократические структуры колониального образца в формальность, реальная же власть осуществляется через каналы личного влияния членов правительства и депутатов парламента; в 80-е годы большинство важнейших позиций в частном секторе были доступны лишь тем, кто мог воспользоваться политическим патронажем [Gombrich, Obeye- sekere, 1988, с. 98].
Вся система политического управления, и прежде всего государственная бюрократия, в тхеравадинских странах сохраняет черты традиционной социальной программы; С. Тамбайя выделяет среди них решающую роль иерархического статуса во внутрибюрократических связях, персонализм, «ориентацию на безопасность», т. е. не на достижение определенной управленческой цели, а на сохранение места в системе [Tambiah, 1976, с. 490]. Иными словами, власть — самоцель. Дж. Буннаг делает вывод, что в тайском аппарате все (или многое) делается в обход официальной процедуры, через патронажные связи и чиновники не рассматривают обращений, если они не подкреплены личными (притом обязательно устными) рекомендациями [Bunnag, 1973, с. 9]. (Предпочтение, отдаваемое устным контактам, подчеркивает ведущую роль личностных связей.)
Все тайские партии, замечает Н. И. Калашников, действуют на патронажной основе, то же касается профсоюзов, обязательно имеющих патронов среди предпринимателей [Калашников, 1987, с. 148]. Само собой разумеется, что такая система связей подвижна и нестабильна, непостоянна даже партийная принадлежность (перебежки из партии в партию перед каждыми новыми выборами [Калашников, 1987, с. 169] (45). На самом верху политической системы, как и в провинции, доминируют клиентельные группы: речь идет о «кликах», составляющих ядро «групп переворотов» (начиная с 1932 г. в Таиланде было 15 удачных и неудачных попыток переворотов, что свидетельствует о сильной нестабильности политического процесса, при структурной стабильности [Калашников, 1987, с. 22]). Эти «клики» носят название «кхана» (так же обозначаются неформальные патрон-клиентные группы внутри сангхи). Главы правительств, партий и государств опираются не столько на формально-демократические или формально-бюрократические нормы власти, сколько на сложную сеть личных контактов на всех уровнях (например, Не Вин, как пишет Р. Тэйлор, в 50-е годы, еще до прихода к власти, постепенно усиливал свои позиции в армии, поддерживая личные связи с сотнями людей) [Taylor, 1987, с. 367].
Следует еще раз подчеркнуть, что новые формы и принципы власти усваиваются и перевариваются (по крайней мере в Шри Ланке и особенно в Таиланде). Но не потому ли происходят эти изменения, что их опосредуют значения старой социальной программы, хотя и сохраняется некоторая стабильная поступательность (46?)
——————————————————————————————————-
(45) Сингальские «патриотические организации» демонстрируют такое же непостоянство: у них отсутствуют устойчивые платформы, их деятельность основана на клиентельном принципе [Matthews, 1988, с. 630—632].
(46) Н. И. Калашников пишет, что, несмотря на неэффективность основанной на патернализме бюрократии, в тайской политике действует уже «отлаженный механизм поддержания баланса власти и авторитета… различных бюрократических клик» [Калашников, 1987, с. 34]. Но персонализм данного типа, как и вся конфигурация политических значений в целом, кажутся неэффективными с точки зрения западной политической культуры. Совсем иначе обстоит дело в тхеравадинских обществах, где персонализм (разумеется, в определенных исторических условиях) может быть гарантией «отлаженного механизма поддержания баланса».
——————————————————————————————————-
В современных политиях в тхеравадинских странах при всех очевидных новшествах сохраняется выработанная веками политическая модель. Выше говорилось о двух основных линиях политической культуры — патерналистской и деспотической, подвижное сочетание которых и составляет эту модель. В политических режимах 50—60-х годов в Бирме, Шри Ланке, Камбодже преобладала патерналистская линия со многими чертами буддийской политии: преобладание морального над институциональным в государственном курсе; неотделимость буддизма от секулярной политики (ибо сама власть религиозно окрашена); ориентация государства на социальное благоденствие и «справедливость» в распределении (в этом пункте и напрашивался буддийско-социалистический синтез); личная харизма лидеров государств с элементами мессианства (или институционализованного милленаризма) (47); личностные, патерналистские отношения на всех уровнях властной иерархии при их внутренней нестабильности. Деспотическая линия явно преобладала в Бирме после 1962 г., в Камбодже и Лаосе (особенно в 70-е годы), в Таиланде в отдельные периоды (при Пхибуне, а также до и сразу же после демократического взрыва 70-х годов). Черты этих режимов: та же роль харизмы в правлении, но скорее с насильственно-прагматическим, чем с моральным акцентом; неконтролируемость власти как сакральной ex definitio; предпочтение, отдаваемое тоталитарным концепциям и символам власти (например, наиболее радикальным и этатистским традициям в социализме).
——————————————————————————————————-
(47) Соломон Бандаранаике был объявлен Чаккаватти, а после смерти — бодхисаттой (грядущим Буддой) и местным божеством одного из районов. С образом бодхисатты связывалась и личность У Ну.
——————————————————————————————————-
Я назвал периоды преобладания той или другой линии, но были и периоды взаимодействия. Даже в тоталитарных претензиях режима Не Вина можно обнаружить черты, которые вполне укладываются в схему буддийской теократии (несмотря на эксплицитный отказ от буддизма до 80-х годов): «Философия» правящей партии, вообще не лишенная, как уже говорилось, буддийских красок, ставила задачу «улучшения духовной жизни человека» — это новая редакция традиционной государственной заботы о моральном совершенствовании и спасении подданных [Лу хнин павунчин, 1963, с. 45; Smith D., 1965, с. 144]. Власть самого Не Вина была окрашена патернализмом, он пытался казаться обладателем харизмы праведности. Эти же черты прослеживаются в лаосской и кхмерской политике 80-х годов.
Но наибольшего равновесия между мягкой и жесткой линиями удалось достичь в Таиланде, его основы были заложены еще в XIX в. энергичными монархами династии Чакри. Создавая единую национальную государственность, Монгкут и Чулалонгкорн не были против сравнения (но не отождествления) царей с бодхисаттами и в свою официальную титулатуру включали оборот «избранный всем народом». Вачиравут образу царя-бодхисатты предпочел образ воинственного властителя, стоящего над воинственным народом, как того требовала атмосфера первой мировой войны [Skrobanek, 1976, с. 23, 56].
Наиболее яркое воплощение сочетание обеих линий нашло в режиме Сарита Танарата, который Н. И. Калашников так и называет — режим «деспотического патернализма» [Калашников, 1987, с. 48]. Но и во всех прочих странах тхеравады проскальзывают элементы обеих субтрадиций политической культуры. То, что сейчас в исследованиях, посвященных восточной политике, принято называть «демократией» и «авторитаризмом», имеет, по-видимому, традиционные прообразы; по крайней мере для буддийского региона, предпосылки соотношения двух вариантов власти были заложены в прошлом.
Что касается традиции оппозиционного милленаризма, питающего идеологию конфликта, то и она была продолжена в XX в. Примером могут служить ряд крестьянских движений в Таиланде и Лаосе, во главе которых стояли «люди заслуги», и восстание 30-х годов в Бирме (48). Во второй половине века милленаризм обернулся догматическими и радикальными движениями, связанными с коммунистической идеологией. Мессианство, изначально присущее марксизму, в вооруженной борьбе компартий нередко имело буддийские милленаристские обертоны. Подобно лесным отшельникам, культивирующим радикальную аскезу в полном удалении от профанного мира, вооруженные повстанцы обрекали себя на изоляцию в джунглях, которая символизировала (не только для них самих) первое условие моральной чистоты в противовес «увязшему в пороках» профанному обществу. Неотмирность отшельника, ищущего святости, и неотмирность повстанца, желающего насильственно устроить «святой» общественный порядок,— варианты одного и того же ментального и поведенческого архетипа.
——————————————————————————————————-
(48) Интересно, что вся атмосфера 30—50-х годов в Бирме была пронизана ожиданием религиозного откровения: в книгах тех лет бирманские саядо пророчили скорый приход Сетья-Мина (Справедливого Царя). Собственно, Сая Сан (лидер восстания начала 30-х годов) был одним из них.
——————————————————————————————————-
Показателен в этом отношении сингальский радикализм, заявивший о себе в 1971 г. вооруженным восстанием, которое проходило под марксистскими лозунгами. Буддийские милленаристские элементы весьма гармонично сочетались с генаризмом (по имени Че Гевары). Мятежники занимались буддийской медитацией, вели аскетическую жизнь и культивировали строгую этику. Интересно, что после амнистии 1977 г. многие из бывших участников восстания влились в «Сарводая» — мирное созидательное движение в духе программы общинного развития, от начала до конца проникнутое буддийскими идеями [Масу, 1983; Katz, 1987, с. 167]. Но эхом восстания 1971 г. были и появившиеся в 80-х годах организации типа десапреми (патриотические группы), вчастности сверхрадикальная «Джаната Вимукти Перамуна» (см. [Matthews, 1988, с. 627]).
Так, старые ценности, вплетаясь в ткань современных событий, вносят в них первичный смысл, и только в русле преемственности политических традиций эти события могут быть до конца объяснены.
Тайская монархия и монархический принцип в буддийской Азии
На Ланке последняя Кандийская династия была упразднена в 1815 г.; бирманская монархия прекратила свое существование в 1886 г.— с окончательным установлением британского господства; в Камбодже в 1955 г. Сианук отрекся от престола в пользу отца, в 1960 г. после его смерти получил титул главы государства, а в 1970 г. при Лон Ноле страна была провозглашена республикой; в Лаосе с приходом к власти коммунистов в 1975 г. монархия была ликвидирована. Сохранилась она только в Таиланде, с 1932 г. как конституционная.
С точки зрения политической культуры буддийских стран исчезновение монархий в четырех странах кажется колоссальной переменой. Монархический принцип — неотъемлемая часть буддийского политического мировоззрения. В идеологических спорах XX в. часто звучала мысль о том, что буддизм не отдает явного предпочтения монархической или республиканской форме государства (попытку текстуального и теоретического обоснования этих взглядов см. [Butr-Indr, 1979, с. 138]) и что ранний буддизм даже предпочитал республиканское устройство. Однако в действительности вся буддийская политическая традиция строилась вокруг смыслового двуединства «буддности» и царской власти, вокруг концепций «праведного царя» и «универсального правителя». Высший властитель единствен, как единствен Учитель. В идее царства и личности царя сконцентрированы основные духовные источники буддийской власти: харизматическая энергия, предназначенная для передачи всем подданным; высшая эталонная моральность; воля к социоустроению; безусловное право на «легитимное насилие».
Поэтому ликвидация монархий была радикальным и болезненным событием: рушился тандем светского и духовного авторитета (царской власти и буддизма), нарушался традиционный символический строй власти.
Однако ни в Бирме, ни в Шри Ланке после восстановления независимости, ни в Камбодже и Лаосе сейчас вопрос о прямом возрождении монархии не ставился и не ставится всерьез. Вместе с тем сам монархический принцип исподволь проник в постмонархические режимы, смягчив шок от необратимой потери привычного института. Монархизм, т. е. вера в единого патрона-деспота, возносил к власти новых «монархов». Пример Бирмы в этом отношении наиболее показателен: без сильного преувеличения можно сказать, что и У Ну и Не Вин продолжили ряд доколониальных царей: в правление первого преобладали патерналистские черты, второго— деспотические (49). Другие формы эта преемственность приняла в Лаосе: упразднение монархии в 1975 г. было» смягчено тем обстоятельством, что брат монарха Суфанувонг стал президентом, сам монарх Шри Саванг Ваттхана — советником президента; принц крови Вонг Саванг возглавил Верховное народное собрание [Stuart-Fox, 1983, с. 445—446].
——————————————————————————————————-
(49) Р. Тэйлор видит возрождение монархического принципа в факте концентрации власти у верхушки Партии бирманской социалистической программы [Taylor, 1987, с. 363]. «Можно полагать,— пишет Д. Стейнберг,— что двор был заменен Партией бирманской социалистической программы, а царь Тибо — генералом Не Вином (который в конце концов женился на внучке Тибо)» [Steinberg, 1985]. Наблюдательность антрополога позволила С. Беккер увидеть «тоску по монархии» в убранстве недавно построенной пагоды Алайнасин (недалеко от Рангуна): в интерьере доминирует фигура Сарасвати-богини, считающейся в современной сектантской эзотерической литературе (вей-за) матерью будущего царя и/или его невестой; кроме того, в храме много царских атрибутов [Bekker, 1989, с. 55].
——————————————————————————————————-
Тайская монархия сыграла выдающуюся роль в истории XIX—XX вв. Ее сохранение и трансформацию можно считать символическим воплощением того «изменения с преемственностью», которое было содержанием новейшей тайской истории. Собственно говоря, именно монархия создала интегрированное и способное выжить государство, ориентированное на модернизацию. Роль монархии в этот период даже нельзя назвать традиционной, для тайского общества это было новое явление. После 1932 г. (конец абсолютизма, принятие конституции) монархия, как это ни покажется парадоксальным, в чем-то приблизилась к традиционному типу легитимации и заняла традиционное место в политической системе: она потеряла инициативу в модернизации и приобрела символические, идеологические функции (50). Если в первой трети века этот институт обладал всей полнотой власти, то позднее он стал высшей духовной инстанцией. И в том и в другом случае монархия была неотделима от буддизма, этот прочный блок был источником ее силы и стабильности; если до 1932 г. монархия не только обладала духовно-символическим авторитетом, но и располагала абсолютными властными функциями, то после переворота (революции) Приди Паномионг, возглавивший его, провозгласил монархию чисто буддийским институтом (51).
——————————————————————————————————-
(50) И в Аютхии, замечает С. Тамбайя, правитель воплощал символические функции, а реальные, «рутинные» властные функции находились в руках упарата (совета министров и военных вельмож) [Tambiah, 1976, с. 489].
(51) «Царь своими добродетелями, своим презрением к удовольствиям и совершенством своего самообладания, должен показывать своему народу, что он — цветок лотоса (т. е. бодхисатта) … что он достоин быть высшим моральным руководителем народа» (см. [Skrobanek, 1976, с. 463]).
——————————————————————————————————-
Сохранение монархо-буддийского союза оказалось впоследствии исключительно выигрышным не только для самой монархии, но и для тайского политического процесса в целом. То обстоятельство, что монархия ассоциировалась с доминирующей системой ценностей, с символами духовной преемственности и национального консенсуса (а тхеравада была в этом смысле незаменима), постепенно возвращало ей и реальные политические функции. Но теперь (в отличие от начала века) это были уже функции, не определяющие движение, а стабилизирующие его.
Новые функции стали вполне очевидны при Сарите (1957—1963), резко возвысившем символический авторитет монарха [Tambiah, 1976, с. 501]. В последующие десятилетия особое место монархии в политической системе оформилось окончательно; во время кризиса 70-х годов монарх оказался наиболее влиятельной фигурой, к нему апеллировали все враждующие силы, включая демократическое студенчество [Калашников, 1987, с. 71, 103] (портреты Пхумипола наряду с изображениями Будды всегда появлялись на демонстрациях и в студенческом кампусе) [Reynolds F., 1978с, с. 141].
Сейчас монархия обладает уникальной возможностью снова стать центром выражения самосознания народа, «буддийски ориентированной гражданской традиции», важным фактором консолидации и развития [Reynolds F., 1978, с. 107]. Н. И. Калашников пишет о «переходе в руки трона высших контрольных функций в политическом процессе» в 80-е годы. У монархии, говорит он, двоякая роль: во-первых, символическая, во-вторых, стабилизирующая [Калашников, 1987, с. 127, 176] (52). Так или иначе, потенциальные возможности влияния достаточно велики, но многое зависит от царствующей личности (как это всегда и было по традиции). Пхумипол как личность недостаточно активен, но отнюдь нельзя исключить усиления политического веса монархии с воцарением более энергичного человека.
——————————————————————————————————-
(52) Н. И. Калашников сравнивает тайскую монархию с японской и западноевропейскими современными монархиями и говорит о сходстве их функций [Калашников, 1987, с. 176]. Это, на мой взгляд, не совсем точно. В отличие от Западной Европы и, по-видимому, от Японии, где сама демократическая система имеет политические механизмы разрешения конфликтов (без помощи монархии), Таиланд в конце XX в. еще не может обойтись без участия монархии в критических ситуациях.
——————————————————————————————————-
В чем же причина этого потенциального влияния? Что позволило монархии играть в новейшей истории Таиланда такую важную роль? По-видимому, одно из естественных объяснений заключено в буддизме как ценностной основе института монархии. Монархия остается напоминанием о буддийской политии, хранилищем сакрального строя политической традиции. Ее религиозный фундамент обеспечивает монархии непререкаемую легитимность (в отличие от всех новейших политических сил), монархия, в свою очередь, только фактом своего существования придает легитимность всей политической системе в целом и отдельным правящим режимам в частности. Такая легитимирующая санкция необходима самой конституции, парламенту, гражданским бюрократам, наконец, армии, пользующейся огромным влиянием в послевоенном Таиланде. Как организация, основанная на принципе насилия, армия особенно нуждается в высшей сакральной санкции.
Высказывается мнение, что монархия превратилась в единственное и универсальное средство традиционной легитимации потому, что кризис религиозности ослабил другое такое средство — буддизм [Калашников, 1987, с. 126]. Иногда утверждают, что монархия является теперь национальным, а не религиозным символом. Но если посмотреть на проблему с точки зрения скрытых буддийских ценностей, оставшихся в тайском мировоззрении на уровне коллективного бессознательного, то можно предположить, что легитимирующая энергия, способность выражать национальный консенсус и исполнять контрольные функции сохранены монархией именно потому, что она сконцентрировала в себе буддийскую харизму и остается символом согласия в отношении базовой традиционной системы значений. Масса крестьянства наделяет монархию сакральностью потому, что эта масса по-буддийски религиозна. Возвышение монархии при Сарите было связано со всеобщим ощущением того, что имя монарха «не должно связываться с грубой материей политической борьбы, вульгарностью, характеризующей предвыборные кампании, поведение политических деятелей и вмешательство военных в политическую жизнь» ([Калашников, 1987 с. 57], см. также ссылку на [Morell, Chaianan 1981, с. 64]). Это было не только элементом монархической пропаганды, но и действительным фактом. В массовом сознании монархия сохранила «семантическую чистоту» в отличие от современных, нетрадиционных форм политического процесса (особенно демократической политики и в меньшей степени — от более легитимной в традиционном смыслебюрократииК которые неизбежно несли бремя определенной ценностной чуждости и беспочвенности. Буддийский ценностный субстрат (иногда только имплицитный, а порой совершенно очевидный) — по-видимому, важнейший источник нынешнего значительного, хотя и исторически обновленного, влияния царской власти.
Демократия и буддийская политическая культура
Модернизация в Азии всегда, понималась прежде всего как овладение «техникой» демократии. Можно сказать, что в незападном мире демократия признана почти всеми как модель оптимального политического устройства. Однако ценности и институты демократии могут быть усвоены только в том случае, если они «переведены» на язык данной политической культуры. Усвоение нельзя свести ни к традиционному оформлению западной модели, ни к демократическому оформлению восточной традиции: взаимодействие имеет и формальную и содержательную стороны. Усвоение происходит по мере того, как заимствованная идея демократии оживляет цепочку старых значений, хранившихся в культурной памяти и удачно состыкованных с принципами народовластия, выборного представительства, верховенства закона и т. д. Поэтому демократия всякий раз приобретает неповторимый облик и не копирует буквально какой бы то ни было западный прототип (53).
——————————————————————————————————-
(53) О теоретическом осмыслении демократических процессов в Азии см., например, [Somjee, 1979; Nash, 1984; Darling, 1979; Эволюция, 1984, гл. VIII; Зубов, 1990].
——————————————————————————————————-
Во всех буддийских странах элементы демократии были в разной степени опробованы. Шри Ланка — одна из наиболее развитых демократий в Азии; в Таиланде демократические институты менее устойчивы и независимы, однако современную тайскую политическую систему уже нельзя представить себе без них; Бирма знала демократическую политику до 1962 г., позже, с введением конституции 1974 г., электоральные институты были восстановлены, однако не играли серьезной роли в принятии решений, с 1988 г. многопартийная система стала формироваться заново. Лаос и Камбоджа также имеют некоторый демократический опыт: в Лаосе первые партии были созданы в 1947 г., до 1975 г. действовало Национальное собрание, а в 1988 г. после тринадцатилетнего перерыва были проведены выборы; в Камбодже представительные институты функционировали при Сиануке и были восстановлены в 80-е годы.
Остановимся на традиционном обосновании демократических ценностей, что, как уже говорилось, является необходимым условием усвоения демократии. Аргументация в пользу демократии в буддийских странах так или иначе сводилась к напоминанию об эгалитарных мотивах в буддийском духовном строе. Выше этот вопрос уже затрагивался, когда речь шла о «латентном демократизме» раннебуддийской проповеди, снимавшей аскриптивные социальные различия с помощью идеала мироотказа. Эгалитарный архетип монашеской организации например, был излюбленным доводом в пользу «исконной предрасположенности» буддийского общества к демократии [Sarkisyanz, 1978, с. 91; Hung, 1970, с. 126—140] (54).
——————————————————————————————————-
(54) Т. Хунг уделяет значительное внимание вопросу о «демократическом происхождении буддизма». Он находит корни этого демократизма в добуддийской традиции государственности в Индии — в образованиях типа гана, которые, по его мнению, можно считать примером республиканского правления. Мегасфен, указывает Т. Хунг, относил образования такого типа к демократиям. Далее автор приводит свидетельства «республиканского устройства» государства Шаккиев (и ссылается на Т. Рис Дэвидса, сравнивавшего раджей из рода Шаккиев с римскими консулами и греческими архонтами). По крайней мере в двух фрагментах палийского канона (в «Дигха Никая» и «Ангуттара Никая») Будда восхищается политическим устройством племени вайджиев, основанным на всеобщем обсуждении государственных дел, поиске консенсуса, законопослушании и соблюдении этических и культовых норм.
——————————————————————————————————-
Э. Саркисьянц подробно рассматривает и другие «буддийские аргументы», в частности идеи У Ба Инна, считавшего, что демократия — это «страница, вырванная из книги буддизма» [Sarkisyanz, 1965, с. 193—194]. В этот же ряд можно поставить утверждение некоторых идеологов об истинном равенстве в деревенской социальной организации, о древнем принципе выборности (не только в каноническом «избрании на царство», но и в обычаях избрания местных властей), о наличии в старой политической культуре буддийского варианта «общественного договора».
Иного пути осмысления демократии, кроме как через старые понятийные средства, просто не было: даже в тех случаях, когда демократию обосновывал вполне европейскими понятиями выпускник Оксфорда, ему приходилось ссылаться на политическую традицию своей страны, тем более когда он обращался к широкой аудитории. Необходимо было создать миф о буддийском демократизме, к которому, как к стволу, могла бы быть привита европейская демократия и такой миф был создан.
Классический пример выборочного прочтения традиции – это когда все внимание акцентируется на одной линии как единственно подлинной. Взятая вне контекста, она неизбежно теряет свое содержание, действительно становится «страницей, вырванной из книги». В идеологических построениях за демократию выдается то, что на самом деле является патерналистским харизматическим правлением, и излишне говорить, сколь велика разница между ними. Буддийские демократы, желая нащупать в традиции ствол демократии, на самом деле натыкаются на патернализм; именно в этом состоит синтез старых и новых форм политики. Поэтому все буддийские демократии в XX в. имели (и, по-моему, будут иметь) патерналистский характер. Парламент — это орган волеизъявления всех слоев, которым государство (ассоциируемое с исполнительной властью) покровительственно дарует от своих щедрот; в какой-то степени это всеобщая ассамблея подданных, о благе которых, по старому стереотипу, заботится «государство благоденствия». В контексте политической культуры сам принцип выборности также несколько меняет смысл. Выборы — это подтверждение лояльности электората своим патронам на всех уровнях, акт признания лидерства, имеющего харизматические и патерналистские источники (как в концепции Mahasammata — «признанного правителя»; sammata, перешедшее в бирманское тамада, означает «президент», «республика»).
Кроме этих нюансов (впрочем, весьма существенных) в буддийской социальной программе есть элементы, которые трудно увязать с демократией западного типа и которые делают тайский или бирманский тип демократии очень своеобразным. Я имею в виду иерархизм, о котором забывают демократы нашего столетия, предпочитающие видеть только «дух равенства». Чувство иерархии в буддийском социуме очень сильно. Равенство в сангхе — это теоретическая посылка отрицательного равенства в мироотказе, сменившегося на практике иерархией рангов и авторитета. Закон каммы выстраивает личные заслуги в иерархическом порядке, ставя моральную стратификацию в основу межличностных отношений. Правда, иерархия в буддийской социальной программе персоналистична и не является жесткой и неподвижной структурой с заданными раз и навсегда социальными позициями. Но каммическая предопределенность (груз прошлых рождений) исключает такую важную ценностную предпосылку демократии, как идея accidence of birth, а значит, и изначальное равенство «прав человека» (человека вообще и любого человека в частности) (55). Вряд ли можно утверждать, как это делает Д. Смит, что буддизм демократичен, ибо он индивидуалистичен [Smith D., 1969, с. 137]. Выше говорилось, что индивидуализм имеет в буддийском мировоззрении особый смысл. Можно допустить следующее: предрасположенность к демократии состоит в том, что персоналистский акцент тхеравады (акцент на личных заслугах) смягчает иерархию, вносит в нее мобильность; но при том, что в счет идут, казалось бы, только личные заслуги человека, «завершенного» индивида в этой социальной программе все-таки нет; нет индивида, сознающего себя центром интересов, атомом ответственности, электоральной единицей, субъектом правотворчества. Личные заслуги индивида тесно взаимосвязаны с личными заслугами других; сам индивид не мыслит себя иначе, как во взаимосвязи (как правило, иерархической) с другими. Индивидуальное демократическое действие не может быть свободным от этих связей.
——————————————————————————————————-
(55) Газета «Бирма» [The Burman, 13.12.1956], превознося равенство, демократию и социализм, все же замечает, что закон каммы нельзя игнорировать и различия между людьми должны оставаться.
——————————————————————————————————-
Наперекор «чистой демократии» работает также деспотическая линия (отождествляемая с нынешним авторитаризмом) в политической культуре. Для этой линии характерна высокая концентрация власти в исполнительных институтах, жесткое бюрократическое соподчинение, преклонение перед властью как таковой, независимо от ее программных установок и целей, отсутствие четко очерченной границы между сферой компетенции государства и гражданским обществом. Осознание того, что в политической культуре есть такая линия, существует. Так, С. Суксамран находит в каноне (в «Агання-сутте») семена как демократии, так и авторитаризма (см. [Jackson, 1987]). Другой тайский ученый, П. Джиракрайсири, расслаивает буддийскую традицию таким образом: «Типитака» (канон) содержит в целом демократическое миросозерцание, в апокрифах же и комментариях начинают доминировать авторитарные ноты [Jackson, 1987]. Эти оценки показывают, что дискуссии о демократии касаются не только собственно политического наследия, но и культурного наследия в широком смысле; сама высокая доктрина перечитывается в политических целях, потому что к ней восходят «предельные значения» всей культуры, включая политическую.
Следует остановиться на одном парадоксе, с которым сталкивается любое общество, в котором идет становление демократии. Смысл демократии, провозглашаемый правящей элитой, состоит в вовлечении в орбиту политического действия всех членов социума. Постепенно в эту орбиту втягиваются все новые и новые слои, и каждый следующий, более массовый, естественно, оказывается более традиционным по своим ориентациям. Демократизация начинает выталкивать на арену активной политики (через выборы, митинги и т. д.) у; массу традиционалистски настроенных людей и вместе с ними всю сумму старых значений, символов и норм поведения. «Традиция» становится столь активной, что может захлестнуть политическую сцену.
Демократизацию следует отличать от демократии, в какой-то момент она начинает тормозить формирование демократии. Демократизация политической воли может быть повышением активности традиционалистской политической воли; это своего рода традиционный «ответ» на «вызов» демократии. Выход на политическую сцену широких слоев общества в Шри Ланке в 60-е годы привел к «буддийскому ренессансу» и возрождению традиционных черт политии и лишил власти прозападную либеральную элиту. Демократия, впрочем, устояла, но эта вышедшая из культурной революции демократия обрела устойчивую самобытность. Выше уже говорилось, как демократический процесс в Бирме в середине века выплеснул на поверхность методы и формы старой политической культуры. Установление военного режима стало традиционным ответом общества на вызов демократии: демократические формы были встроены в старую деспотическую модель с патерналистским оттенком. Неудавшаяся демократическая революция 1988 г. в Бирме, несмотря на часто звучавшие западные либеральные лозунги, оживила свойственные старой политической культуре нестабильность, патронажный принцип формирования властных групп (бесконечное дробление партий и пр.). В Таиланде периоды демократизации были и периодами «таизации» демократических институтов.
Можно сказать, что демократизация — это по существу противоречивый процесс постепенного складывания самобытных форм демократии. Н. И. Калашников пишет, что крестьянство рассматривает выборы как религиозный ритуал, как выражение почтения богатым и влиятельным людям. Большинство таев недостаточно ясно представляют себе смысл партийно-представительной системы, считая парламентскую демократию игрой; в то же время бюрократическое администрирование обладает в их глазах несомненным авторитетом и реальностью. Тем не менее это отношение меняется, демократические институты вживаются в политический организм: выборы 1979, 1983 и 1986 гг. стали в сознании народа нормальным способом разрешения кризисов. Однако, замечает Н. И. Калашников, парламентаризм в Таиланде «может успешно функционировать лишь на консервативной, связанной с патерналистскими традициями элитарной основе» [Калашников, 1987, с. 39—41, 171, 174]. Интересные наблюдения, так сказать, изнутри провинциальной политики приводит А. Тертон. Он указывает на организационную нечеткость местных партийных структур, безусловное доминирование влиятельных людей, тратящих большие средства на выборную кампанию и, как правило, безраздельно владеющих поддержкой электората [Turton, 1987, с. 31, 86]. О решающей роли личности лидера (тхии пхоенг) в рутинной политической практике уже упоминалось. Собственно, «политическое участие» (вне связи с клиентельными обязательствами) для массы деревенских избирателей имеет мало смысла; часто они считают так: «политики интересуются ими, только чтобы победить на выборах» (к местным патронам это не относится) [Turton, 1987, с. 89].
Буддийская демократия предполагает высокий престиж и доминирование бюрократической администрации, удержание исполнительной властью законодательных функций. Парламент в такой демократии — это в основном средство публичной демонстрации государственного патернализма. Партийные и парламентские аффилиации строятся на основе личной приверженности лидеру того или иного уровня со стороны группы его клиентов; формальная (внеличностная) структура демократических институтов, например партий, не играет серьезной роли; идеологическая (программная) основа солидарности всякой группы политического действия (фракции, партии) также, как правило, уступает по своему значению личностному принципу в группообразовании. Демократические институты распадаются на иерархические цепочки личностных связей, идущие от парламентских скамей к отдельным местным группам избирателей, причем мотивом волеизъявления последних служит не столько согласие с программой или осознанный «интерес» (в западном смысле слова), сколько лояльность в отношении конкретных людей (что, собственно, и отвечает их «интересам»). Демократическое соревнование состоит, в сущности, в соперничестве вертикально ориентированных потоков личностных связей. Свойство демократического процесса такого типа — нестабильность, непрочность аффилиации, что отражает подвижность групповых границ и непрочность групповой солидарности в самом обществе. Смена власти демократическим путем представляется здесь в виде ротации иерархических потоков, пронизывающих общество снизу доверху (по сути авторитарная смена власти — переворот, перестановка в пасьянсе элитных групп — ведет к схожим процессам).
В буддийской демократии существенную роль всегда играет личная харизма ведущих политических деятелей (большую, чем харизма должности — office charisma). В избирательных кампаниях и в функционировании выборной власти чрезвычайно высока вероятность популистской ориентации, установления прямых плебисцитарных отношений между харизматическим лидером и электоратом, отождествления программы с национальным консенсусом. (Это характерно для олигархических и диктаторских режимов.) В такой демократии моральная функция власти выдвигается на первый план в политических платформах и в массовых оценках лидеров и партий. В целом демократические институты и нормы не становятся структурным центром политической системы; таким центром остается бюрократия, власть которой, несмотря на бесчисленные внутренние перестановки, обладает безоговорочным авторитетом и легитимностью (а значит, и правом на насилие); реальная власть сосредоточена не столько в парламенте, сколько в бюрократических кулуарах.
Сказанное не означает, что демократия обречена играть второстепенную роль и к тому же всегда быть непрочной, что она останется всего лишь хрупким фасадом политической системы и в будущем. Более правдоподобным представляется ее укрепление и дальнейшее вживание в существующую систему, даже если допустить наступление новых периодов ужесточения и этатизма. Вопрос не в том, быть или не быть демократии, а в том, какой именно ей быть? С моей точки зрения, то, что мы за неимением другого термина (в силу неизбежной неточности нашей терминологии вообще) называем демократией, представляет собой самобытное следствие самобытных ценностно-институциональных условий. Формируется такой политический строй, который является сплавом западной и постбуддийской политических традиций.
<<К оглавлению книги
Содержание
Материальное в буддийской культуре
Богатство — не порок. Элементы практической этики
Праведное богатство
Значение богатства и смысл экономических отношений
Буддизм и новые экономические роли
Идея «буддийской экономики»
Буддийские ценности и экономическое развитие
В этой главе будет предпринята попытка применить к сфере экономики исследовательскую процедуру, схожую с той, которая была применена в предыдущей главе к проблематике власти. Речь идет о приложении основных значений тхеравадинской социальной программы к отношениям, связанным с производством и распределением материальных благ. В мою задачу не входит исчерпывающий анализ экономической истории, принципов функционирования современных экономических систем. Этот анализ должен вестись в строгих политэкономических категориях или с использованием эконометрических методик; я, так же как и в случае с политикой, беру только ту плоскость экономики, которая пересекается с религиозной жизнью или — более широко — с культурной, семантической системой, действующей в обществе. Важно понять ту оценочную структуру, с помощью которой люди той или иной культуры осмысливают материальные условия своего существования; их представления о должном порядке производства и потребления благ; мотивации, лежащие в основе их экономических действий; специфические формы, в которые облекаются эти действия.
Выделение экономики как самостоятельной области человеческой культуры, которое кажется естественным для современного западного человека, выглядит определенным произволом применительно к незападным обществам (по крайней мере, традиционным). Выделение экономических отношений из всей суммы общественных связей — особенность западного менталитета Нового времени, когда хозяйство стало наделяться и теоретически и в массовом сознании такими закономерностями, которые в значительной степени независимы от прочих сфер жизни, и когда сложился тип homo economicus, ориентированный на материальное преуспеяние. То, что западноцентристскому мышлению кажется универсалией, есть на самом деле превращенная в схему уникальность западной культуры последних трех-четырех столетий.
Современная экономика тхеравадинских стран совсем не то, чем она была двести и даже сто лет назад. Можно выделить четыре фактора, влияющих на экономическую реальность. Во-первых, колониальное наследие или колониальный фактор; с его действием связано складывание современного сектора, основ внутреннего рыночного механизма, введение планового государственного регулирования экономики и, как следствие,— урбанизация, появление новых социальных
групп, новых видов экономической деятельности, новых (западогенных) ценностных ориентаций. Во-вторых, включение экономик этих стран в мировое хозяйство с вытекающими отсюда последствиями. В-третьих, выработка государствами собственного экономического курса. В-четвертых, влияние традиционных экономических значений. На последнем факторе следует остановиться подробнее, ибо, как мне кажется, традиционные «смыслы» способны кое-что объяснить в экономической жизни буддийских стран.
Материальное в буддийской культуре
Символическая образность раннебуддийской проповеди, на первый взгляд принципиально аскетична, что резко отличает буддизм от ислама и конфуцианства. Это религия одинокого странника, не обремененного ничем, кроме самого необходимого. Владения монаха — это роба из грубого материала, чаша для подаяний и несколько элементарных предметов быта в маленькой сумке, переброшенной через плечо. Святые архаты — существа, «питающиеся радостью» [Дхаммапада, 200] подобно христианским «птицам небесным»: они духовны и совсем бесплотны.
Еще важнее этих образов бесплотности сама стройная, логика освобождения. Корень страданий — привязанность к этому миру, а привязывающая сила — желание, жажда жизни, жажда наслаждения (танха). Мир иллюзорен, следовательно, иллюзорно и наслаждение. Исток страданий — внутреннее ложное чувство, а не внешние объекты, его вызывающие. Освобождение есть избавление от внутренней установки сознания — установки испытывать удовольствие, а не отрицание самих вещей, чреватых удовольствием. В буддийской культуре нет агрессивного неприятия материальных предметов как таковых, в них не содержится никакой «субстанции соблазна» (ибо они не имеют субстанции вообще). Более того, мифологическая образность Будды и ступеней религиозного совершенства, как это ни странно, перегружена атрибутикой божественной роскоши, зримого, яркого блистания. В чем же тогда состоит бесплотность? В том, что уничтожена привязанность. Если ты исключил желание обладать, чем-либо, то само обладание уже не опасно и не вредит твоему совершенствованию.
Этот нюанс высокой эзотерики, возможно, облегчил то- резкое смещение акцентов, которым сопровождался процесс нисхождения, социализации доктрины. Неотмирный монашеский идеал ниббаны в массовом восприятии был заслонен законом каммы, по которому наградой за заслуги служило .лучшее рождение, мыслимое во вполне земных красках, в гедонистических категориях. Конечно, принцип равнодушия и непривязанное при таком повороте дела был отчасти предан забвению: верующий возжелал удовольствия. Но это вожделение парадоксальным образом увязывалось с духом доктрины: удовольствие в будущем есть следствие равнодушия к удовольствиям в настоящем; чем более полно ты отрекаешься от привязанности, тем больше заслуг ты накапливаешь и, следовательно, можешь рассчитывать на рождение в более высоком земном статусе, измеряемом объемом власти, богатства и удовольствий. Боги буддийской мифологии, ведущие райскую жизнь и абсолютно беззаботные, представляют собой апофеоз этой доктринальной традиции.
Если говорить о мирском буддийском мировоззрении, то материальное благополучие и право на удовольствие рассматриваются как естественные награды за праведность. Благополучие и удовольствия допускаются и не осуждаются, поскольку корень зла — не в них самих, а только в привязанности, отказом от которой праведник их заслужил. Отсюда следуют две возможные установки. Первая — сдерживание желания, равнодушие к материальному в этой жизни, ибо это будет вознаграждено земными радостями в следующем существовании. Примером данной установки может служить пострижение в монахи в надежде обрести новый статус по выходе из монастыря (как было показано, эта надежда не лишена практических оснований). Вторая установка — неограниченное пользование материальными благами в этой жизни, ибо моральное право на это ты заслужил своей прежней праведностью. Здесь, однако, проявляется сдерживающий эффект первой установки — страх потерять в будущем свое нынешнее благополучие. Неизбежно соединяясь, эти установки приводят к раздвоению, которое испытывает каждый буддист. Разрешают его все по-разному. Но каков бы ни был выбор, рельефно проступает следующая черта: материальное лишено самостоятельной ценности, оно всегда соотносится с моральными категориями; оно только дополнительный атрибут религиозного совершенства, или его инобытие. Поэтому на почве буддизма не могла сложиться система практических светских средств, в том числе ценностных и интеллектуальных, нацеленных на преумножение материальных благ. В глубинах буддийской традиции, по-видимому, не было мировоззренческих звеньев, аналогичных тем, которые кальвинисты или квакеры извлекли из Священного Писания и ранних христианских апокрифов. Между прочим, и в допротестантском христианстве можно найти некоторые черты трудового рационализма: уклад жизни монашеских орденов предполагал упорный физический труд и хозяйственную деятельность, что отличало их от буддийской сангхи.
Выше не раз отмечалось, что в буддизме собственно мирская мораль регламентирована необстоятельно и рыхло. Это касается и аскетической традиции: отказ от удовольствия, богатства, роскоши возможен только на монастырской стезе, в миру аскетические предписания выражены гораздо слабее (по контрасту с христианством) (1). Мирянину не рекомендуется добиваться наслаждений, приумножать их, но он свободен наслаждаться тем, что получено им по заслугам; ему только следует определенными действиями подтверждать свою непривязанность.
——————————————————————————————————-
(1) Это обстоятельство заметил М. Вебер, не видевший в буддизме «посюстороннего» аскетизма, а значит, и рациональной экономической этики . [Weber, 1960, с. 216—217].
——————————————————————————————————-
Проблему материального можно свести к следующему: материальное не предается гонению, не объявляется «мерзостью», «суетой» или «тленом»; нет также его настойчивого культивирования; оно просто иллюзорно, фиктивно; к нему нельзя методически стремиться, и в то же время обладание им морально оправдано и высоко оценивается как каммическая награда; однако такое оправдание предполагает способность равнодушно наслаждаться им («потреблять» его), но не ревниво «цепляться» за него или сознательно и систематически увеличивать его объем («создавать» его).
Богатство — не порок. Элементы практической этики
Значение богатства в буддийском мировоззрении антиномично и может быть понято только с учетом различия между максималистской и умеренной стратегиями спасения. С точки зрения высшего идеала освобождения богатство кажется несовместимым с праведным путем. Речь идет об отрицании даже не богатства, а собственности вообще. Согласно доктрине anatta (отсутствие самости), под сомнение ставится обладание чем-либо, обессмысливается само понятие «мое» (mamata) [Sarkisyanz, 1978, с. 88; Stuart-Fox, Buckii- ell, 1982, с. 70]. Всякое обладание (владение, собственность) чревато привязанностью к миру, оно вносит в «я» иллюзорное качество субстанции, онтологизирует его, в то время как в действительности «я» — только безостановочный поток ощущений. Буддийские святые в «Дхаммападе» могут возликовать: «О! Мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет» [Дхаммапада, 200]. Во многих фрагментах мудрец-отшельник прямо противопоставляется собственнику-домохозяину (gahapati) (2).
——————————————————————————————————-
(2) См., например, Muni-sutta [S.-Nip. I. 12]. Образ «дома» (gaho) символизирует вообще «путь этого мира», привязанность к миру, и наоборот, «бездомность» (anagariyo, anagaro) — символ пути к ниббане.
——————————————————————————————————-
Было бы странно, если бы религия спасения обошлась без этого антисобственнического мотива. Другое дело, что возможны разные интонации этого протеста. В каноническом буддизме подчеркивается порочность стремления к богатству как внутренней установки. Но эта установка допускает «равнодушное» обладание. Здесь нет категоричного отказа богатому в шансах на спасение (ср. в христианстве образ богача и «игольного ушка» [Мф.: 19, 24]). Зато тому, кто «жаждет полей, вещей, золота, коров и лошадей, слуг, женщин, связей», гарантировано страдание [Kama-sutta, S. N.. IV, 1]. Страсть к материальному не может быть удовлетворена «даже ливнем из золотых монет» [Дхаммапада, 186]. Стратегия накопления собственности и путь к ниббане противоположны по своей направленности [Дхаммапада, 75] (3).
——————————————————————————————————-
(3) «Ибо одно средство ведет к приобретению богатства, а другое — к Ниббане: зная это, бхиккху, ученик Будды, не возрадуется почестям, но возлюбит одиночество». В другом месте [Дхаммапада, 355] говорится: «Богатство убивает глупого, а не тех, кто ищет другого берега. Желая богатства, глупый убивает себя, как других».
——————————————————————————————————-
Буддийскую каноническую критику инстинкта обладания нельзя считать чисто эзотерической и не влияющей на массовые установки и нормы поведения. Отрицание субстанционального качества в «я» и «моем», «незавершенность» индивида ведут к ослаблению чувства собственности; для идеи «священной и вечной собственности», составляющей одну из гарантий полноценности индивида, одно из его внутренних прав, в буддизме нет мировоззренческой почвы. Материальные блага столь же текучи и непостоянны, как и все в этом: мире, следовательно, нынешний уровень обладания, как и неожиданная потеря или приобретение благ, воспринимаются з конечном счете как данность.
Однако сказанное не имеет отношения к жесткой причинности, это только опосредованно действующие ценностные векторы, допускающие отклонения и исключения. Более того, их действие может «превращаться», совершать неожиданные повороты. Например, тот факт, что в мирской тхеравадинской морали нет явного табу на богатство и восславления «праведной бедности», представляется исключительно важным. Закономерность обладания (в силу его моральных истоков), если речь идет о мирском богатстве, снимает каноническое требование аскетизма, которое обращено к монаху и отшельнику. Богатство убивает глупого (неведующего — aviddasu), но оно безвредно для того, кто познал его тщету. Отношение к богатству даже иногда проникнуто пиететом, тем большим, чем явственнее богатый выказывает признаки непривязанности к благам.
В тхераваде можно обнаружить некоторые примеры психологического оправдания мирской бедности (4), но в целом бедность непопулярна, явное предпочтение отдается богатству. Если монаху по определению надлежит жить в материальной бедности, то мирянину во всех смыслах лучше и праведнее не испытывать нужды. Это не только житейское убеждение, но и недвусмысленный вывод из мирской тхеравадинской идеологии, в частности идей в духе «срединного пути». По крайней мере идея «срединности», отвергая излишнее богатство, рекомендует всячески избегать и бедности. Оптимальный уровень обладания определен целью самообеспечения, и хотя, как будет показано ниже, восприятие этого уровня может быть подвижным, ясно по крайней мере одно: мирянину надо избегать бедности.
——————————————————————————————————-
(4) Небогатые буддисты убеждены, что именно масса бедных верующих является духовной и материальной опорой религии [Southwold, 1983, с. 72; Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 356].
——————————————————————————————————-
В этом пункте появляется необходимость в практической экономической морали. В буддизме она разработана скудно, в немногочисленных текстах есть лишь отдельные элементы, которые прочно сплетены с общими моральными принципами межличностных связей. Однако о них следует упомянуть. Домохозяин Дханья, спорящий с Буддой, рисует привлекательную картину зажиточности, и хотя в итоге он вынужден признать абсолютную ничтожность своего достатка в сравни нии с неотмирным «плодом освобождения», его преуспеяние косвенно мыслится как образец праведного ведения земных дел (5). В «Сигалавада-сутте» [D. N., III, 31] говорится, чего следует избегать, чтобы не промотать собственность: потребления спиртного, привычки слоняться по улицам в неподобающее время, частого посещения увеселений, увлечения азартными играми, связи с дурными людьми, лени. Растрата собственности называется одной из «опасностей» (в сущности, важнейшей), которые таит в себе недолжное поведение. В другом тексте Будда предупреждает о горестях, которые приносит бедность: бедняк влезает в долги, попадает в зависимость, разоряется. Свобода от бедности и поддержание достатка на твердом уровне считаются необходимостью: «С помощью собственности, полученной благодаря энергии… должными ненасильственными способами, можно осчастливить себя, своих родителей, детей и жену… слуг, работников, друзей, знакомых и других… можно делать надлежащие подарки родне, гостям, приносить дары умершим и божествам, платить налоги властям и также, ради получения заслуг, делать подношения монахам» [A. N., III.— Цит. по: Butr-Indr, 1979, с. 83].
——————————————————————————————————-
(5) Вот что говорит Дханья: «Я сварил мой рис, я надоил коров… мой :Дом добротен, очаг растоплен… [в моем хозяйстве] нет слепней… коровы пасутся на сочных лугах… жена моя послушна, не распутна, мы долго живем с ней, она привлекательна, и я ничего плохого не слышал от нее… Я живу на свой заработок… И дети мои со мной, они здоровы… Столбы вбиты прочно, веревки сплетены из травы муньга, новые и ладные, и коровы не смогут разорвать их» [Dhaniya-sutta, S. Nip. I, 2]. Пафос этой сутты состоит в том, чтобы доказать преимущество Благородного Пути даже в сравнении с образцовым земным путем. Такое доказательство ценнее, чем обличение отъявленных грешников — насильников, богачей-расточителей и пр.
——————————————————————————————————-
Еще в одном фрагменте канона содержатся прямые рекомендации практического обустройства земной жизни: нужна энергичность (utthanasampada), чтобы любое дело — будь то земледелие, скотоводство, торговля, ремесло — выполнялось с усердием и умением; нужна рачительность (arakka- sampada), чтобы уберечь владения от всякого ущерба; нужны добрые дружеские связи (kalyanamittata) для прочной гарантированной взаимопомощи; наконец, надо вести умеренную жизнь (samajlvita), т. е. сообразовывать доходы и расходы [A. N., IV.— Цит. по: Butr-Indr, 1979, с. 85 86].
Все эти примеры иллюстрируют признание буддизмом житейских добродетелей и мирской установки на «небедность», на гарантию от бедности. В свете этого собственность кажется не только реабилитированной, но и необходимой. В идеологической полемике XX в. эти и подобные им фрагменты текстов выискивались и группировались с особой тщательностью теми, кто пытался нащупать в буддизме аналогии западного экономического реализма. Оспаривая западноцентристскнй тезис о «неэкономичности» всех других культур, в частности о равнодушии буддизма к материальному достатку, по-западному образованные буддийские реформисты ссылались на элементы практической хозяйственной морали, которые они обнаружили в ранних текстах (потому что хотели обнаружить). Они не ограничивались иллюстрациями установки на «небедность», а стремились усилить экономическую интерпретацию текстов, находя в них даже мотивации к обогащению, к накоплению богатства (6). Буддхадаса объявляет даже желание бедных обогатиться морально оправданным, ибо состояние бедности — «неестественно» (концепция «естественности» — prakati) [Buddhadasa, 1987, с. 118].
——————————————————————————————————-
(6) Так, например, интерпретирует собранные им тексты С. Бутр-Индр [Butr-Indr, 1979, с. 84].
——————————————————————————————————-
Следует, однако, воздерживаться от интерпретации приведенных фрагментов таким образом, что тхеравадинская культура содержит внутренние основы для рациональной (в западном смысле) экономической морали или даже для устойчивого инстинкта собственности. Редкие вкрапления мирской и хозяйственной этики тонут в общей массе текстов, настойчиво твердящих о пагубности всякой привязанности. Нужна более тонкая интерпретация: по-видимому, в тхеравадинской социальной программе содержится иной тип экономической рациональности, иные способы оправдания собственности и богатства, к которым нельзя подойти с западными ценностными мерками. Тот факт, что собственность и богатство допускаются и отчасти даже сакрализуются в мирной практике, еще ни о чем не говорит; важно уяснить, как именно понимаются источники легитимного праведного богатства.
Праведное богатство
Как уже говорилось, неотмирные значения преломились в мирском буддизме таким образом, что материальные владения индивида прямо не осуждались, а известный уровень «небедности» даже был признан необходимым. Богатство само по себе окружено авторитетом, на котором лежит печать сакральности. Почему? Первым и самым простым аргументом является закон каммы: богатство есть награда за большой объем заслуг (ранее накопленных или ныне удерживаемых). За иерархией благосостояния (владений, доходов и пр.) стоит иерархия объемов заслуг (7) (то же, что и в случае с властью). Эта аргументация консервативна по своему духу, она обосновывает существующее соотношение хозяйственных сил; в то же время она легко post factum узаконивает любой поворот колеса экономической фортуны. Впрочем, в массовом восприятии камма приобретает привкус непредсказуемой судьбы, в которой моральное начало ослаблено, появляются другие, практические объяснения богатства: труд, старание и т. д. (8). Закон каммы — слишком общий и универсальный, чтобы вспомнить о нем в каждом конкретном случае, но общий ценностный фон, на котором решается проблема богатства, им задан.
——————————————————————————————————-
(7) См. [Reynolds С., 1976, с. 206] (на примере трактата «Трайбхум»). В середине XX в. крестьяне считали, что размер урожая зависит от количества заслуг владельца [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 354].
(8) У кхмеров лоэн, например, богатые предпочитают связывать свое богатство с трудом, а не с судьбой; бедные же, напротив, объясняют свою бедность скорее судьбой, чем леностью и неумением работать [Chou Meng Tarr, 1985, с. 205].
——————————————————————————————————-
Самого факта моральной «заслуженное» богатства, однако, недостаточно. Он должен быть публично подтвержден. И здесь вступает в силу одно непременное условие: владелец обязан демонстрировать свою непривязанность к богатству, т.е. всячески доказывать, что само желание обладать им обуздано, подавлено. Естественной и наиболее популярной формой такой демонстрации в тхеравадинских обществах всегда являлись религиозные подношения (dana). В передаче и перераспределении заслуг через дана состоит один из фундаментальных принципов буддийской социальной программы, и следование ему втройне ожидается от богатого.
В уже приведенном фрагменте из «Ангуттары Никаи» подношения сангхе перечисляются в ряду надлежащих, праведных расходов. В истории тхеравадинских обществ это был главный способ сакрализации собственности и богатства, непременная статья бюджета и sine qua non образа жизни вообще. Богатство высоко оценивается потому, что его обладатель в большей степени способен делать дана. В сущности, это и право, и обязанность богатого. Об этом «религиозном обложении» богатства говорят на все лады и буддийская литература (старая и современная), и антропологические исследования [Reynolds С., 1976, с. 206; Hung, 1970, с. 92—94; Mulder, 1969, с. 8]. Объем религиозных подношений—главный критерий праведности богатства (9). Беседуя с Рамой III, ученые монахи говорят, что моральный человек, обладающий богатством, имеет возможность много тратить на религиозные цели и получить за это много заслуг [Reynolds С., 1976, с. 206] (10). В богатстве нет ничего зазорного, если использовать его на строительство пагоды, ремонт монастыря, финансирование буддийских праздников или церемоний, содержание монахов.
——————————————————————————————————-
(9) С. Бутр-Индр приводит известный текст из «Самьютты Никая» и «Ангуттары Никая», где постепенно, в духе буддийской неторопливой логики выясняется оптимальное сочетание двух параметров — источников богатства и расходов богатства. Начинает Будда с худшего варианта (сочетания неправых источников и неправых расходов), а заканчивает так: «Тот, кто приобретает богатство законными и ненасильственными способами и, делая так, сам получает удовольствие от него, делит его с другими, совершает религиозные пожертвования, пользуется им без жадности и страсти, оберегая себя от нападок и опасностей…— тот достоин похвалы в четырех отношениях и не заслуживает порицания в четырех отношениях» [Butr-Indr, 1979].
(10) Вопрос Рамы III был такой: может ли человек, обладающий одной монетой, получить столько же заслуг, сколько и обладатель 100 или 1000 монет?
——————————————————————————————————-
Дж. Макдермотт приводит фрагмент из канонической «Петаваттху», смысл которого состоит в том, что лучший дар сангхе — это дар бедняка, хотя и скромный, но от чистого сердца [McDermott, 1984. с. 34] (11). Все же этот мотив кажется исключением, даже если допустить, что он вполне в духе доктринального интенционализма. Что же касается религиозной практики, то факт прямой зависимости полученной заслуги от абсолютных размеров пожертвований непреложен: по наблюдениям антропологов, чем беднее семья, тем большую долю своих накоплений она старается тратить на религию (материалы, касающиеся деревни, см. [Pfanner, Ingersoll, 1962], города см. [Bunnag, 1973, с. 164]) (12). Если так, то богатый имеет безусловное моральное превосходство: в кон- ще концов у него куда больше возможностей быть «непривязанным».
——————————————————————————————————-
(11) Ср. аналогичный мотив в евангельской притче о вдовьей лепте [Мар. 12, 42; Лук. 21, 2]. Многие бедные буддисты, как уже отмечалось, считают свой вклад в подношения сангхе решающим.
(12) По подсчетам М. Нэша, расходы богатой семьи на религию составляют 14% всех расходов, среднезажиточной — 4%, бедной — 2% [Nash, 1965, с. 160]. Оба варианта, однако, не противоречат представлению о том, что заслуги зависят от абсолютных цифр (независимо от доли). К такому заключению пришел М. Спайро, обследовавший бирманскую деревню [Spiro, 1970, с. 110]. Ему вторит Н. Малдер, проводивший наблюдения в Таиланде: 100 батов, кем бы они ни пожертвованы, дают гораздо больше заслуг, чем 1 бат [Mulder, 1969, с. 8].
——————————————————————————————————-
Если в силу тех или иных причин возрастает семейное или индивидуальное богатство, то первое естественное его приложение — религиозные пожертвования. Бирманский монах-идеолог У Тиласара в 1923 г. обосновывал всякое накопление именно как источник дарения сангхе [Sarkisyanz, 1978, с. 91] — вполне в духе столетней давности ответа монахов тайскому правителю (который был приведен выше), но уже под влиянием пробивающихся новых экономических установок XX в. Суть в том, что всякое новое богатство должно быть легитимным, и лучший способ сделать его таковым —- традиционное, праведное распоряжение им (или его частью). Религиозная экономика мгновенно реагирует на рост нового богатства: быстрое развитие торговли и ремесел на Ланке в IV—V вв. н. э. и, как следствие, появление новых слоев и нового богатства сразу же отразились на религиозных дарениях. Возник новый массовый тип — дарения средних слоев, затмивших обычные царские и вельможные [Семека, 1969, с. 59] (13). Резкий рост частных подношений можно было наблюдать в Бирме в 20—30-е и особенно в 50-е годы, когда в результате колониального и постколониального расслоения формировались частные состояния [Taylor, 1987, с. 181]. Некоторый экономический подъем конца 70-х —начала 80-х годов также сопровождался увеличением дарений [Lubeigt, 1987, с. 65, 70].
——————————————————————————————————-
(13) В Бирме схожие явления наблюдались в XIII—XIV вв., после периода явного преобладания царских дарений.
——————————————————————————————————-
Приведу еще несколько наблюдений о связи накоплений и религиозных трат. Отсутствие сбережений у лаосских крестьян объясняется не столько отсутствием «материализма» в их хозяйственных установках, сколько высоким уровнем дана [Stuart-Fox, Buckuell, 1982, с. 70—71]. Бирманские и тайские крестьяне в 60-е годы тратили на религию значительную часть накоплений, превышающих обычный уровень доходов [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 345]. Десять среднего достатка хозяев в бирманской деревне, у которых спросили, куда бы они потратили выигранные в лотерею деньги, ответили: на дарения сангхе, на церемонию шинпхью (посвящение мальчиков), на церемонию катейн (дарение монашеских роб) и на ремонт своих усадеб. Все, кроме последнего, относится к религиозным расходам (кстати, ни один не упомянул вложение в хозяйство в том или ином виде) [Муа Than, 1987, с. 83].
В годы, когда появляются «лишние деньги», дорожает церемония шинпхью [Nash, 1984, с. 31]. Чем богаче бирманец, тем более дальние (а значит, и дорогие) маршруты религиозных паломничеств он выбирает: если есть такая возможность, ею надлежит воспользоваться [Lubeigt, 1987, с. 55] (14). Еще один интересный и новый пример: в Бангкоке состоятельные люди организуют мунитхи — денежные фонды покровительства монастырям [Bunnag, 1973, с. 108—111]. Общий алгоритм дарений таков: не тратить сверх того, что допускает здравый смысл [Mulder, 1969, с. 12], но из сумм сверх уровня необходимого самообеспечения значительную часть жертвовать, тем самым «зарабатывая» заслуги и сакральное богатство, выказывая праведную «непривязанность».
——————————————————————————————————-
(14) Таким образом, появляется и некоторый стимул к накоплению, который все же не так велик, как у мусульман Юго-Восточной Азии, мечтающих совершить хадж [Ling, 1979b, с. 113].
——————————————————————————————————-
Подношение сангхе — не единственный способ доказать праведность богатства. Есть также своего рода косвенные дана — религиозно окрашенное перераспределение материальных средств среди мирян, т. е. нечто вроде светской благотворительности. В основе ее лежит представление о разделении заслуг с ближним. Отдавая часть того, что у тебя в избытке, ближним, ты тоже показываешь свою «непривязанность» к благам. Есть ли в буддийской традиции светская благотворительность? Н. Малдер, к примеру, не находит ее [Mulder, 1969, с. 103]. По мнению Р. Моуля, филантропия в тхераваде, в отличие от христианства, не развита [Mole, 1973, с. 83]. Дарение сангхе, замечают Р. Гомбрич и М. Спайро, приносят несравненно больше заслуг, чем светское дарение (скажем, нищему), и это делает последнее в принципе не очень популярным [Gombrich, 1971b, с. 248; Spiro, 1970, с. 467].
Есть, однако, и противоположные мнения. Дж. Буннаг пишет, что человеку обещана заслуга не только за прямые дана, но и за материальную помощь в миру; сейчас богатый таец, чтобы выглядеть праведным, скорее выстроит школу или больницу, чем монастырь или пагоду [Bunnag, 1973, с. 145—146]. Сами монахи призывают жертвовать средства на секулярные цели [Morgan, 1973, с. 74]. Примеры светской благотворительности приводит Г. Лубегт [Lubeigt, 1987, с. 64]. Буддхадаса, вдохновляя деятельность Буддийской ассоциации Таиланда, специально подчеркивает важность щедрости вообще, а не только подношений монахам [Keyes, 1975, с. 70]. Но даже в собственно религиозных расходах нетрудно обнаружить скрытый благотворительный смысл актов дарений. Все крупные церемонии, оплачиваемые богатыми донорами, традиционно превращались (и этому можно найти десятки аналогий в других культурах) в праздники с щедрым одариванием родни, знакомых, соседей. Разумеется, масштабы щедрости зависели от богатства донора (описание этого механизма см. [Zago, 1972, с. 361]).
Итак, принцип дана как религиозный архетип — способ сакрализации богатства, знак «непривязанное» к нему, вполне в духе учения. Богатство, отдающее дань религии, воспринимается как праведное, морально заслуженное. Непосредственные религиозные дарения (мирян — сангхе) представляют собой чистый, первичный архетип; светская благотворительность (миряне — мирянам) — промежуточный, приближенный к социальной практике, вторичный вариант того же архетипа. Теперь можно обратиться к сфере действия собственно социальной программы — сфере экономических отношений в тхеравадинских обществах, напрямую с религией не связанных.
Значение богатства и смысл экономических отношений
Как уже говорилось, исходный принцип общего строя социорелигиозных значений — обмен материального на духовное, в чем и состоит смысл дара; так материальное имущество превращается в заслуги — «моральное имущество», универсальный религиозный обменный эквивалент; затем этот «моральный капитал», обычно нарочито демонстрируемый, превращается в признанную харизму его носителя; харизма реализуется в клиентельных межличностных связях (архетип передачи и разделения заслуг) в виде социального влияния и политической власти.
Интересно рассмотреть под этим углом зрения традиционную социальную практику в тхеравадинских обществах, обратив внимание на то, что в них действует механизм трансформации имущества в разветвленную сеть социальных связей. Изолированное индивидуальное богатство кажется абсурдным: обладание богатством автоматически предполагает широкие родственные, дружеские, клиентельные связи [Chou Merig Tarr, 1985, с. 225]. В бирманской деревне более богатые семьи всегда более многочисленны (так было по традиции), круг их активных родственных связей всегда шире. Соседи ждут от богатых помощь в случае бедствий или несчастий; практикуются церемониальные и простые трапезы-угощения в богатых домах [Lubeigt, 1974; Nash, 1965, с. 39, 49]. Т. Линг пишет, что экономические отношения не воспринимаются как самостоятельные, они прочно принадлежат сфере социальных связей [Ling, 1986, № II] (15). Традиционная взаимопомощь соседей кроме чисто хозяйственных функций выполняет функции, связанные с производством связей (и так мыслится).
——————————————————————————————————-
(15) Ср. мнение Б. С. Ерасова: «Богатство считается фактором, способствующим упрочению солидарности, если оно расходуется на “богоугодные” цели, праздники, благотворительность, содержание и угощение родни, соплеменников и соседей, на поддержание многочисленной челяди» [Ерасов, 1982, с. 43].
——————————————————————————————————-
Но всякая межличностная связь в этих обществах превращается во властное иерархическое отношение. Это проявление все той же схемы: от богатства — к заслугам (харизме), от заслуг — к связям, от связей — к власти. Влияние и власть — высшие мирские ценности, богатство воспринимается не более чем атрибут, средство их культивирования и подтверждения. Моральный порядок соотносится в конце концов с распределением властных, а не экономических ролей [Kirsch, 1975, с. 190]. Богатство само по себе не престижно: на Ланке еще XVII в., по наблюдениям Р. Нокса, оно было связано с происхождением, родством, принадлежностью к властным структурам (см. также [Fernando, 1973, с. 20]). Р. Тэйлор пишет, что в Бирме никогда не было экономически сильных слоев (по крайней мере массовых), совершенно независимых от государства, точнее, независимых от лидерства и власти [Taylor, 1987, с. 7]. Богатство как чисто экономическая привилегия немыслимо в тхеравадинских обществах; здесь нет собственно экономических позиций или экономических статусов — богатство мгновенно облачается во властные категории.
В XX в. положение в этом отношении мало изменилось. Все экономические явления, такие, как банковский кредит, ценообразование, «рисовые премии» и т. д., в тайской деревне воспринимаются как политические [Turton, 1987, с. 77], вернее, в терминах личностных патерналистских связей (например, кто кому и какой кредит дает). Несмотря на экономические перемены, властные позиции по-прежнему воспринимаются в массовом сознании как имманентно сакральные, как средоточие символической энергии этого мира, а богатство само по себе считается, как правило, функцией власти, ее атрибутом или средством. В Шри Ланке и Таиланде, где в XX в. получили сравнительное развитие новые экономические ориентации, бюрократические должности продолжают притягивать студентов больше, чем предпринимательство [Obeyesekere, 1977, с. 388; Mole, 1973, с. 48]. И все же в 60—80-е годы все более отчетливо очерчивались контуры среднего класса, играющего чисто экономические роли, росло его стремление высвободиться из опутавшей экономику паутины патронажной политики. Однако переплетение бизнеса и власти по-прежнему очень прочно, богатство вне и помимо властных отношений повисает в воздухе [Jackson, 1987, с. 8—9] (16).
——————————————————————————————————-
(16) Н. И. Калашников оперирует понятием «обуржуазившаяся бюрократия», можно использовать и понятие «обюрократившаяся буржуазия» (иногда они неотличимы). По свидетельству Н. И. Калашникова, в 70-е годы 31,4% чиновников вышли из предпринимательского слоя [Калашников, 1987, с. 32].
——————————————————————————————————-
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что материальное богатство в буддийской социальной программе лишено собственного значения, оно воспринимается в иных категориях — социальных и властных. Значение богатства (собственности) — не вещное, а социальное. Можно говорить о социальном богатстве, измеряемом обилием связей, а в конечном счете — способностью оказывать покровительство, влиять, властвовать. В религиозной и в светской практике можно обнаружить сходные структуры, которые параллельны друг другу (схема 2, кликабельно).
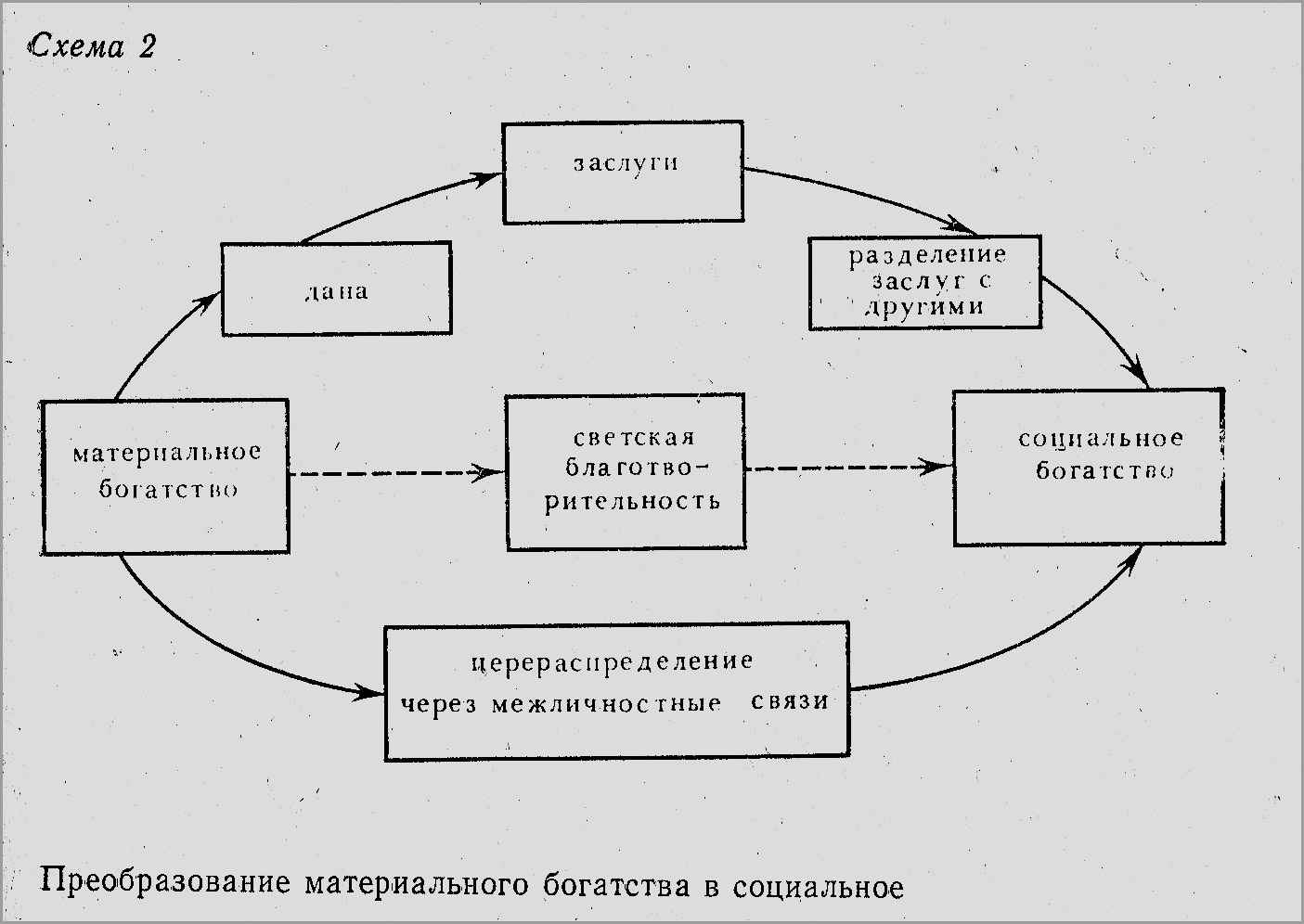 Схема 2. Преобразование материального богатства в социальное Схема 2. Преобразование материального богатства в социальное
Конечно, немыслимо сводить экономическую реальность восточных обществ к феноменологии буддийских ценностей, но учитывать этот фактор совершенно необходимо. Тогда станут понятны многие современные явления.
Центр тяжести в экономиках такого типа приходится не столько на механизм производства, сколько на механизм распределения. Это объясняется тем, что цели экономического богатства воспринимаются скорее в социальных, чем вещных категориях. Богатство создается не там, где производятся вещи, а там, где перераспределение вещей производит социальные связи. Производство связей, если использовать чисто экономические термины, приходится на этапы распределения и перераспределения. Возможно, это общая черта всех азиатских экономик, по крайней мере их традиционных структур, но следует помнить, что в каждом региональном варианте ценностные истоки и обоснования, а значит, отчасти и следствия этого явления своеобразны. Так или иначе, это очень важная черта. Вся буддийская экономика — это фабрика перераспределения богатств (как весь буддийский культ — это перманентный ритуал перераспределения заслуг). Это также фабрика связей, фабрика влияния, фабрика власти — конечных и высших целей этих обществ.
Г. Лубегт свидетельствует, что обитатели района Могок, бывшие владельцы рубиновых рудников в Верхней Бирме, сохранившие до 80-х годов сравнительно высокий уровень, жизни, постоянно перераспределяют свои накопления через религиозные и светские дарения [Lubeigt, 1987, с. 65]. Дж. Буннаг рассказывает об одном аютийском богаче, который немного тратит на религию, но зато прилежно выполняет свои социальные обязанности [Bunnag, 1973, с. 154]. Это характерный для XX в. перенос религиозной установки в светскую жизнь. В Чиангмае при одном из монастырей богатые миряне в сотрудничестве с монахами создали «банк» буйволов и риса специально для помощи бедным деревням провинции [Swearer, 1987, с. 28]. В расходах богатых тайских семей по-прежнему велика доля помощи широкому кругу родни и клиентов [Bunnag, 1973, с. 165]. Эти примеры созвучны рассуждениям Буддхадасы о пользе труда и накоплений; их лейтмотив таков: прекрасно, когда богатство преумножается, ведь тогда появляется больше возможностей делиться им с другими! [Buddhadasa, 1965, с. 56]. Богатый человек (sresthi, setthi) в буддийской традиции — это, по мнению Буддхадасы, не совсем то, что западный капиталист (тайс. най тхун); в отличие от последнего setthi склонен перераспределять имущество (социализировать его) [Buddhadasa, 1965, с. 51] (17).
——————————————————————————————————-
(17) Setthi (пали) — «казначей», «богатый торговец». Прилагательное settho — «прекрасный», «исключительный», «высший». Satthakammam — «праведное деяние» [Childers, с. 473].
——————————————————————————————————-
Богатый чувствует себя как бы виноватым, считает ланкиец Т. Фернандо [Fernando, 1973, с. 29]. В этом утверждении есть налет социологического романтизма, впрочем, эта категория уже чисто христианская. Разрыв между богатыми и бедными нежелателен с точки зрения буддийской традиции, считает Т. Хунг [Hung, 1970, с. 107]. Нельзя отрицать, что эта установка осталась без последствий для социальной структуры. На Ланке в период с 1963 по 1970 г. (два рубежа наблюдения) сократился разрыв между слоями с высокими и низкими доходами, в отличие от многих других стран Азии [Масу, 1983, с. 22]. (Случайно ли, что эта тенденция совпала с периодом «взрыва» традиционной буддийской идентичности?) С 1977—1978 гг., когда Д. Р. Джаявардене, несмотря на сохранение «дхармических» интонаций в идеологии, предложил новый экономический курс (рынок, свободная конкуренция, частное предпринимательство), разрыв между бедными и богатыми снова увеличился. Почти одновременно как уравновешивающая сила выросло движение «Сарводая», прямо опирающееся на буддийскую доктринальную цепочку: анатта («не я») — «непривязанность» — разделение богатства. Средний показатель уровня жизни (Physical Quality of Life Index — PQLI) в Шри Ланке равен 82. Он почти так же высок, как в развитых странах, и намного выше, чем в большинстве азиатских. При этом доход per capita невысок (средний азиатский уровень). Н. Кац верно, на мой взгляд, связывает этот факт, в частности, с «социальной инфраструктурой», основанной на особом механизме перераспределения доходов [Katz, 1987, с. 158—159] (18).
——————————————————————————————————-
(18) В остальных буддийских странах PQLI ниже, но в целом во всей группе этих государств более высокий по сравнению с другими группами, имеющими близкие показатели подушевого дохода. Чисто внешнее впечатление: в тхеравадинских странах в целом не наблюдается массовой бедности и тем более нищеты, за исключением той, которая вызвана разрушительными социальными катаклизмами (в Камбодже и Лаосе в 70-е годы, в Бирме в 70-е годы вследствие экономического краха).
——————————————————————————————————-
Эти разрозненные примеры иллюстрируют мирское инобытие религиозных значений. Вещное богатство, перераспределяясь, превращается в «социальное богатство». Но как объяснить еще одну сильную установку, существовавшую в тхеравадинских странах в прошлом и существующую сейчас,— установку на потребление, достигающее масштабов расточительства?
Передел и потребление при более внимательном анализе оказываются довольно близкими по сути, они как бы дополняют друг друга. Их общий ценностный фундамент — отрицание собственности («моего») как субстанции, как длительного и осязаемого атрибута личности. У буддийского индивида нет инстинкта удержания, накопления и преумножения , богатства, ему не свойственны расчетливость и скупость, о Действует подсознательная воля к освобождению от накопленного (которое по природе своей не может не быть текущим, каковы бы ни были адреса трат: дана, покровительство или потребление. Конечно, безудержное потребление не может не быть осуждено как вид жажды удовольствий и поблажки своему «я». Но этот порок — негативная сторона позитивной («должной») установки на передел благ; структурно они схожи, но оценочные знаки у них разные.
Приобретение предметов роскоши имеет особое значение. Точно так же как нарочитость при совершении ритуалов дана, как расточительность при торжествах, предмет роскоши (им может быть, например, дорогой автомобиль) являет- ю ся знаком статуса и демонстрацией благополучия, которые р внутренне ассоциируются с праведностью или по крайней мере считаются «закономерными» (19). Для понимания экономических процессов в тхеравадинских обществах важно учитывать два фактора — ограничителя богатства: моральный, или социальный, ограничитель — растворение богатства в связях, превращение его в «социальное богатство», и собственно экономический ограничитель — ориентация на потребление.
——————————————————————————————————-
(19) Г. Мюрдаль замечает: «Общее благосостояние, производительность труда и сбережения значительно возросли бы, если бы все слои населения стали меньше тратить на свадьбы, похороны и т. п., к которым их обязывают обычаи и традиции, как правило, отчасти освящаемые религией. Чрезмерные семейные расходы на поддержание престижа находят в странах Южной Азии свое отражение и в излишествах при отправлении официальных обязанностей» [Мюрдаль, 1972, с. 155]. Все это Г. Мюрдаль называет «иррациональными элементами», создающими «путаницу» в современном экономическом планировании. Было бы странно, если бы западный экономист-практик не «запутался». Здесь действительно много «иррационального» с точки зрения западного экономического рационализма, но не обнаружится ли и в этих «экономических системах» свой рационализм, если поставить все элементы в единый контекст особой культурной семантики?
——————————————————————————————————-
Буддизм и новые экономические роли
Длинная полоса западного влияния, менявшего время от времени формы и интенсивность, преобразила облик азиатских экономик. Важнейшими новшествами, ставшими в XX в. устойчивыми характеристиками экономической жизни, были активный рынок, претендующий на всеохватность в пределах стран и прочно связанный с мировым хозяйством; деньги, проникающие на всю глубину экономических отношений; тип капиталистического предприятия, нацеленного на производство прибыли и основанного на свободном найме (и в деревне и в городе). Для появления этих новшеств были необходимы кроме чисто материальных предпосылок, анализ которых не входит в мою задачу, также и определенные ценностные ориентации, позволяющие новым «исполнителям» играть новые роли. Речь идет не о том, мог ли в буддийских странах возникнуть капитализм, а о возможности развития элементов капитализма после его «импорта» (20).
——————————————————————————————————-
(20) Отрицая предпосылки естественного капитализма в Индии, М. Вебер вполне допускал вторую перспективу [Weber, 1960, с. 112].
——————————————————————————————————-
Новые ориентации проникали в восточные общества с западными политиками и предпринимателями; они укоренились в сознании евразийцев, молодых представителей элиты, получивших европейское воспитание. Это первоначальное проникновение (особенно в первой половине века) сопровождалось созданием изолированных очагов новой экономической культуры, в целом еще не имеющих массовой базы и зависимых от государственного протекционизма. В течение XX в., особенно во второй его половине, влияние этих очагов увеличивалось, оно проникало в толщу социальной структуры, затрагивая все новые слои.
Массовое усвоение новых ролей сопровождалось либо их переосмыслением, либо отторжением и отрицанием. В силу разных обстоятельств первая, позитивная форма ответа возобладала в Шри Ланке и Таиланде, вторая, негативная, доминировала в независимых Бирме, Лаосе и Камбодже. Так или иначе, невозможно было избежать столкновения и взаимодействия двух различных систем экономических ценностей. Как вписываются в буддийскую социальную программу (с ее значениями собственности, богатства, труда и пр.) новые экономические роли и новый тип homo oeconomicus, существование которого состоит, говоря несколько огрубленно, в «наращивании материальных благ как цели в себе»?
Наиболее показателен ценностный климат, традиционно окружавший торговца-предпринимателя. Отношение к нему всегда было сдержанно отрицательным, и даже сейчас, замечает Т. Линг (применительно к Шри Ланке), оно остается таким же. Правда, в южных и западных районах и особенно в прибрежных городах оценка торговой деятельности более позитивна, чем в центре (Канди) [Ling, 1986, с. 584]. Объясняется это, конечно, традицией активной морской торговли, культурной открытостью побережья, а также более долгой историей западного влияния (Канди потеряла независимость лишь через 300 лет после начала интенсивных контактов с европейцами). Все это не противоречит общему впечатлению о сравнительно низкой оценке чисто экономических ролей. Деревенский торговец (mutadali) и городской бизнесмен часто оказываются «козлами отпущения» при объяснении экономических трудностей. Подобные оценки традиционно доминировали в Таиланде [Ling, 1986]. Но несомненно, что роли, связанные с аграрным сектором (земледелием, землевладением) или с властными функциями в буддийской Юго-Восточной Азии, оценивались выше, это были роли, дающие заслугу [Morgan, 1973, с. 73—74].
С точки зрения тхеравадинской социальной программы такие предпочтения кажутся естественными, хотя, разумеется, это только частный случай почти универсального неприятия нового богатства и его носителей (nouveaux riches), знакомое и европейским добуржуазным обществам (кроме торговых городов). Богатство, «высвобожденное» из сети устойчивых, извечных отношений, «взявшееся ниоткуда», всегда казалось лишенным легитимности и морально неоправданным. В категориях буддийского мировоззрения эта мысль может быть выражена так: материальные блага, не превращающиеся в «социальное богатство», не включенные в «ритуальный оборот» личностных связей, не могут быть праведными, и торговые капиталы в этом смысле наиболее подозрительны, так как условием их роста является некоторая свобода от связей, некоторая индивидуальная самостоятельность.
Буддийская социальная программа содержит значения, у трудно совместимые с предпринимательством в его чистой, западной форме; современного индустриального бизнеса это касается в еще большей степени, чем просто торговых операций. Акцент на распределении богатства, имплицитная . идея «социального богатства» — это первое и важнейшее ценностное препятствие. Второе препятствие — потребительская установка (оборотная сторона идеи передела). В социальной программе нет внутренних предпосылок для сакральной легитимации собственно накопления, калькуляции и вложения средств в производство (см. [Sarkisyanz, 1978, с. 92]). Богатство имеет свойство растворяться, переходить в престижные вещи и связи; оно с трудом мыслится как источник еще большего богатства. Именно так надо понимать замечающие А. Басса, что препятствием к «рациональной экономике» является «отсутствие индивидуализма» [Buss, 1982, К: с. 219], а в действительности — отсутствие «завершенного» индивида. Я. Ингерсолл показывает, как в «его» деревне коммерческие формы земледелия подрывают устойчивый ритуальный механизм накопления личных заслуг и их передачи-распределения [Ingersoll, 1975, с. 249]. Он вместе с Ю Д. Пфэннером сравнивал в 60-е годы две деревни — тайскую р и бирманскую —и обнаружил в обоих случаях непрестижность чисто экономических ролей, затрудняющую процесс роста [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 349]. Еще одно ценностное препятствие связано с таким значением социальной программы, как иерархизм отношений. Эта склонность к иерархическому строю отношений делает буддийского индивида слабо адаптивным к архетипу рынка (в широком смысле слова); он тяготится равенством возможностей, имеющим к тому же чисто экономические критерии (см. [Kirsch, 1975, с. 191]).
Несколько макроэкономических фактов иллюстрируют следствия внутренних препятствий. Это зависимый характер частного предпринимательства в целом; неизменное стремление обюрократиться, гарантировать безопасность своего бизнеса клиентельными связями с аппаратом власти; инициаторская и контролирующая роль государства в экономике (21); популярность идеи планирования с акцентом на ограничение роста диспропорций доходов и на социальные программы и т. д. Разумеется, существует множество других причин, которые принято относить к разряду объективных и ситуационно-исторических, но суть в том, что общий ценностный климат в экономике всему этому соответствовал.
——————————————————————————————————-
(21) Вплоть до почти полного этатистского запрета на частную хозяйственную деятельность (в Бирме после 1962 г., в Лаосе и Камбодже в 70-е годы). В независимой Шри Ланке отношение к частному предпринимательству всегда отличалось известной долей скептицизма (по крайней мере до конца 70-х годов) [Fernando, 1973, с. 29].
——————————————————————————————————-
И все же историк тхеравадинских обществ не может игнорировать того, что торговля и (условно говоря) предпринимательство были неотъемлемой частью их экономической истории, что в период западной экспансии товарно-денежные отношения выходили за пределы старых торговых городов, что современное общество (особенно в Таиланде) трудно представить без роста капитализма. Как же это все увязать с только что сказанным?
Первое и весьма важное обстоятельство заключается в том, что и в прошлом, и в XX в. экономические роли очень часто играли группы людей, не принадлежащие к основному стволу тхеравадинской культуры. В интенсивной аютийской торговле в XVI—XVIII вв. значительное и, возможно, доминирующее место занимали мусульмане (с XVII в.— также голландцы); на Ланке в доколониальное время сходные занятия периодами были сосредоточены в руках тамилов и арабов (позже их потомков — «мавров»), затем инициатива перешла к португальцам, голландцам и их потомкам от смешанных браков (бюргерам). В более позднее время в Юго- Восточную Азию хлынул мощный поток китайцев, составивших массовую базу для тайского tiers etat — торговцев, бизнесменов и наемных рабочих (несомненно, что даже китайцы-буддисты по строю ценностей и поведенческим нормам очень отличаются от тайцев или бирманцев-тхеравадинов) [Mehden, 1986, с. 106]. Формировавшийся средний класс в Камбодже составляли в основном китайцы, а позднее вьетнамцы, в Бирме — китайцы, а в XX в. в основном индийцы (ростовщики, перекупщики, городская буржуазия); ланкийский бизнес на исходе колониализма (середина XX в.) был в значительной степени сингальским, но все же решающие позиции принадлежали сингалам-христианам; не следует забывать и западных предпринимателей, и ту колоссальную роль, которую сыграли в истории азиатских экономик XX в. западные капиталы (22).
——————————————————————————————————-
(22) Интересно и такое наблюдение. В истории торговли всей Юго-Восточной Азии сравнительно активную роль играли женщины. Их участие в новых видах экономической деятельности и сейчас велико [Reid, 1988,. с. 634—635]. Нет ли в этом факте косвенной информаций о традиционных взглядах мужчин?
——————————————————————————————————-
То обстоятельство, что множество наблюдений стыкуются друг с другом, кажется мне очень показательным. Экономические роли, не вмещающиеся в тхеравадинскую социальную программу, берут на себя те, кто свободен от ее ценностных ограничений. При этом, конечно, важен сам фактор , чуждости, оформленной с помощью коммуналистской солидарности. Состояние диаспоры само по себе предполагает мобилизованность, обусловленную чувством самосохранения и желанием сберечь идентичность (например, экономические роли евреев Европы и Америки и ближневосточных армян), но главное, что развязывает экономическую активность (скажем, хуацяо в тхеравадинских странах),— это отсутствие необходимости соблюдать традиционные ценностные запреты (пусть не абсолютные), принятые в местной среде. То, чем не пристало заниматься тхеравадину, простительно хуацяо, индийцу или христианину; разбогатев, они не чувствуют бремени обязательств перед местным обществом, да и само это общество в меньшей степени ожидает от них выполнения у обязательств; богатство чуждого не может быть праведным или неправедным, потому что оно не может быть измерено по местной шкале заслуг. Этим объясняется нигилизм по отношению к китайским и индийским капиталам (на Ланке— к христианским), который иногда прорывается наружу (23).
——————————————————————————————————-
(23) Все эти рассуждения можно отнести и к такой новой роли, как наемный труд. Основную базу наемных рабочих в Таиланде составляли с XIX в. китайцы; на Ланке и в Бирме (на плантациях) — индийцы (кули). Неприязнь к богатым чужакам сочеталась с презрением к бедным чужакам. Наемный рабочий — низко оцениваемая роль, потому что вокруг него пустота, он выброшен из потока межличностных связей. Его накопления тоже не подлежат измерению в заслугах.
——————————————————————————————————-
Но где же сами тхеравадины? Перекрывают ли указанные выше препятствия все пути для развития новых экономических ролей? Не являются ли эти роли только уделом чужаков и пришельцев? Экономическая история XX в., особенно в Таиланде и Шри Ланке, показывает, что возможности для развития капитализма не исключены, что в определенной интерпретации буддийские ценности могут быть согласованы с таким развитием, точнее, с его своеобразными формами. Интересно посмотреть на экономические значения тхеравады под иным углом зрения. Уже в самом обосновавший ограничивающих запретов содержатся рецепты для обеления нового богатства: чтобы сделать его праведным, надо расходовать его по привычному, «программному» образцу.
Соблюдение этого условия меняет дело. Так в разные периоды происходила сакрализация нового богатства (несколько примеров я уже приводил). Дары монастырям всегда имели решающее значение для обеления богатства дарителя; не обходилось и без практического расчета: сакральная «крыша» монастыря давала гарантию сохранности богатства, монастырь был «сакральным банком и ломбардом», скрывающим частные накопления. Нередко частные светские капиталы с помощью такого экономического маневра ускользали от государственного обложения и контроля (24). Другой способ сакрализации проявлялся в тяготении обладателей новых богатств к власти: они предпочитали сочетать предпринимательство с властными ролями, если возникала такая возможность. Современный сплав бюрократических и буржуазных интересов кажется вполне естественной и традиционной комбинацией.
——————————————————————————————————-
(24) В периоды ослабления государства собственность перетекала из монастырей в частные руки, чтобы вновь укрыться под сенью религии, когда царская власть восстанавливала обычное экономическое господство [Taylor, 1987, 50-52].
——————————————————————————————————-
Если богатство сакрализуется тем или иным способом, то в нем нет ничего дурного; прямые инвективы против накопления богатства для буддийской традиции, как уже говорилось, в общем не характерны. В одной из сутт Учитель рекомендует честно вести торговлю (не допускать обмана в весе, в денежных расчетах и пр.) [Brahmajala-sutta, D. N., 1], это косвенно свидетельствует о том, что в раннем буддизме не было явного неприятия торговли. По-видимому, и в этом аспекте ранний буддизм следует отличать от традиционной «адаптированной» тхеравады. Надо помнить, что торговое сословие магадхских городов, наряду с царской властью, было социальной базой, обеспечившей распространение первой буддийской общины и ее поддержку; это был естественный союз гетеродоксального религиозного движения и социальных слоев, представлявших в каком-то смысле альтернативу освященному консервативным брахманизмом порядку (и владевших «альтернативным» богатством). В XX в. вспомнили это историческое обстоятельство, оно стало актуальным (как и акцент на «торговом» характере раннего ислама) и было увязано с общим возрождением «духа реформы», присущего буддизму в момент возникновения.
Не случайно, что буддийское возрожденчество — это чисто городское явление, и его социальная база — средние слои города, жизнь которых в той или иной степени связана с новыми экономическими ролями и нетрадиционными способами накопления богатств. В массе своей эти люди сочетают твердую волю к религиозной самоидентификации с поиском морального оправдания новой деятельности, новых накоплений, новых видов связей. Именно им потребовались чрезвычайные средства для достижения certitudo salutis, для снятия психологической шаткости их социального положения; именно в их среде идея ниббаны «здесь, сейчас и для всех» могла найти отклик; именно они отстаивали, подобно европейским бюргерам-протестантам, право мирян самим, без помощи посредников, двигаться к спасению. Плоды религиозного благочестия — накопленную заслугу — они стремились с успехом использовать в экономической практике.
Я уже говорил о явлении, которое Г. Обейесекере назвал «Buddha on the market-place». Буддизм вышел на рынок, тхеравадинские символы стали работать на экономический успех. Новые экономические роли насыщались традиционным смыслом, а новое богатство становилось праведным.
С. Тамбайя считает, что городской буддизм напрямую связан с «экспансией бизнеса и экономическим процветанием» в тайских городах; связь эта основана, в частности, на старом принципе обмена дана на заслугу; в ответ на пожертвования монахи благословляют новые предприятия и новый бизнес [Tambiah, 1973а, с. 10]. С. Тамбайя приводит пример обменного сотрудничества крупного Бангкокского коммерческого банка с монахом-отшельником, обладающим высокой харизмой [Tambiah, 1984, с. 274—279].
Буддхадаса писал в 1978 г.: «Слово “труд” (kaan-tham- ngaan) — тайское. На пали оно звучит как “sammakammanto”, что означает “заниматься праведным трудом”. Когда совершается такой праведный труд, его можно считать одним из компонентов продвижения по Благородному Пути (ariyamagga) для достижения ниббаны» (цит. по [Jackson, 1987]). П. Джэксон так комментирует его слова: «В сущности, реформистскую религию (реформизм на почве фундаментализма.— А. А.) тайского среднего класса в целом можно интерпретировать как разработку буддийской легитимирующей системы для тайского капитализма» [Jackson, 1987].
Существуют и иные формы легитимации с традиционным буддийским акцентом на разделении и перераспределении богатства как сакрализующего средства: индустриальное предпринимательство умножает общественное благо в целом, следовательно, оно является праведным делом [Morgan, .1973, с. 75]; концепция общественного блага используется для оправдания нового экономического действия, осмысления его как приносящего заслугу. В Бирме недолго (с 1958 по .1960 г.) существовала Буддийская демократическая партия, Программа которой была призвана дать буддийское обоснование частному предпринимательству; впрочем, для тхеравадинских стран более характерны опосредованные, тонкие способы сакрализации, подобные описанным выше. Во всяком случае, то, что буддийские ценности и предпринимательская ориентация могут сочетаться или по крайней мере не противоречить друг другу, отрицать нельзя (25).
——————————————————————————————————-
(25) Мусульманский мир в XX в. дал гораздо больше примеров адаптации предпринимательства; это касается и народов в исламской части Юго- Восточной Азии — малайских индийцев, мусульман — минангкабау и бугов в Индонезии [Alatas, 1975, с. 160—161]. Надо иметь в виду, что ограничения чисто экономических ролей и даже обогащения в исламе были менее жестки [Ерасов, 1982, с. 54]. Существовали, однако, и такие перераспределительные механизмы, как закят. Потребности растущего капитализма в Малайзии привели к тому, что закят был официально объявлен пригодным, для вложений в бизнесе (в 1968 г. на съезде теологов) [Mehden, 1986, с. 60]. Даже беспроцентные «исламские банки» активно участвуют в предпринимательстве [Goulet, 1980, с. 485]. В китайской системе ценностей материальное богатство и усилия по его достижению занимают, вне всяких сомнений, важное место [Tham Seoug Chee, 1980, с. 4—5], что в сочетании с «групповой ситуацией» диаспоры дало впечатляющие результаты. Отдельные, как правило «периферийные», группы индийского населения (парсы, сикхи, джайны) оказались восприимчивыми к предпринимательству и рациональному знанию; кастовая градация и групповая солидарность в сравнении с аморфным группообразованием тхеравадинов обладают некоторым преимуществом: еще М. Вебер видел в системе внутри- и межкастовых обязательств предпосылки к созданию специфической трудовой морали и установки на обогащение [Weber, 1960, с. 118—119].
——————————————————————————————————-
Не кто иной, как активный буддист Д. Р. Джаявардене, провозгласил в 1978 г. курс на быстрое развитие частного капитализма в Шри Ланке, причем это не осталось просто Декларацией. В Таиланде бурный рост частного предпринимательства начался в городе, а в середине 70-х годов охватил и деревню. В Бирме частный сектор в середине 60-х годов оказался под запретом, но он действовал в подполье в виде черного рынка, который контролировал до трети внутренней торговли и (контрабандного) импорта; с конца 70-х годов начались осторожные послабления, а с 1987 г. частный сектор был номинально легализован. Примерно в то же время был идеологически реабилитирован частный сектор в Камбодже, после чего начался его бурный расцвет (особенно в Пномпене) [Huxley, 1987, с. 166—167], то же самое произошло в Лаосе с объявлением «нового экономического механизма», в котором акцент делался на рынке и торговле с Таиландом [Stuart-Fox, 1983].
В сущности, эти новые экономические роли на буддийской почве не совсем новы, их прототипы были известны в тхеравадинской истории, но экспансия в XX в. западных экономических ориентаций придала им новый масштаб и новую глубину (рациональный бизнес, городская индустрия и т. д.).. Даже если вынести за скобки усилия нетхеравадинов в освоении новых экономических ролей (26), можно утверждать, что тхеравадинская социальная программа оставляет для него место. Но верно и то, что, обещая им легитимность, она ставит определенные условия. В принципе, это сдерживающие условия, которые не дают развернуться формам индустриальных отношений в их чистом, «импортном» виде. Ожидать иного было бы наивно. Но поставленные ценностные условия не обязательно сдерживают современное экономическое развитие как таковое. Поэтому вместо слова «сдерживание» (предпринимательства, капитализма) лучше употребить слова «трансформация» или «индигенизация» (складывание своеобразных местных форм).
——————————————————————————————————-
(26) Есть крайняя точка зрения [Evers, 1975, с. 128], что «таизация» экономики (в 60—70-е годы)—это лишь участие тайских бюрократов в китайском бизнесе.
——————————————————————————————————-
Идея «буддийской экономики»
«Буддийская экономика» — это идеальный образ, в котором счастливо соединяются моральная гармония и социальное благополучие. В сущности, поиски контуров «буддийской экономики» — это попытка воплотить сакральное в экономике и обосновать с его помощью новое в экономике. Эта идея могла появиться только в XX в., раньше ее в таком виде- быть не могло, поскольку не было самого понятия «экономика» как чего-то самостоятельного. В самой проблеме сочетания буддизма и экономики кроме внешнего и знакомого западной культуре аспекта — как примирить экономику с моралью (ср. понятие «христианская экономика») есть еще и. скрытый аспект межкультурного конфликта — как примирить экономику западного типа с буддийской этикой (и доктриной вообще).
Материальное благополучие всегда входило в традиционные буддийские утопии и ставилось в зависимость от состояния морали, которое, в свою очередь, было неотделимо от неподражаемого блеска правления дхаммических монархов. Однако конечная цель всякой буддийской земной утопии описывается в чисто этических терминах; предельная цель совершенного общества — максимальное приближение к трансцендентной гармонии ниббаны. Уже в легендах об Ашоке «экономическое» благополучие всех подданных — это только условие для достижения этического и даже метаэтического совершенства ниббаны [Spiro, 1970, с. 429]. В XX в. данная . традиция породила многочисленные спекуляции во всех тхеравадинских странах, и, возможно, наиболее законченным ее воплощением была уже упоминавшаяся бирманская концепция локка ниббан — земной ниббаны [Sarkisyanz, 1965, :«с. 169—170]. Но в этой и аналогичных ей концепциях появляется новый и весьма знаменательный акцент: хотя земная ниббана и объявляется только предварительной ступенью к неземному, высшему освобождению, она в то же время получает некоторое самостоятельное значение. Пафос новой интерпретации состоит в том, чтобы утвердить в правах собственно экономическую программу.
Но это также означает перемену места, цели и средства в их соотношении. Внешне целью остается духовное, а средством — материальное. Но имплицитно появляется возможность поменять порядок: сама буддийская духовность может рассматриваться как средство экономической эффективности, как ratio экономики. Высвобождение экономики и превращение ее в самостоятельную сферу познания и действия не ведет, конечно, к. забвению этических императивов. В ситуации культурного «ответа» они неизбежны. Поэтому идея «буддийской экономики» пронизана моральными мотивами. В большинстве планов развития в буддийской Азии XX в. моральная (социоморальная) аргументация преобладает над чисто экономической (27).
——————————————————————————————————-
(27) См.: Fernando, 1973, с. 29 (для Шри Ланки); план «Пьидота» (1954 г.) и программные документы бирманского режима, относящиеся к 60—80-м годам; программа Приди Паномионга (30-е годы, Таиланд) и др.
——————————————————————————————————-
Ход рассуждений их авторов таков: западные достижения, которые нужно усвоить, впечатляющи, но бездуховны. Они — внеценностны, их стихия — количество, к моральному качеству они безразличны. Тайский философ С. Сиваракса к культу «мотива прибыли» примеряет буддийский стереотип о тpex главных пороках — жадности, злобе и глупости (lobha, moha, dosa); только буддийская духовность, по его мнению, может облагородить всякое экономическое стремление [Sivaraksa, 1986, с. 235—236]. Моральную критику экономики буддийские идеологи переносят и на область современного знания вообще (прежде всего научно-технического, всякое другое западное знание, как правило, игнорируется); просвещение бессмысленно, если оно не сопровождается «духовным воспитанием, основанным на местных ценностях» [Ariyaratne, 1980.— Цит. по: Старостина, 1985, с. 88]. Буддхадаса, автор целой теории ценностей, пишет, в частности: «Чисто эко- ркомические ценности не могут разрешить глобальных проблем. “Ценность” в экономическом смысле игнорирует моральный закон (siladhamma). Она должна быть отнесена к этому закону, и только тогда она будет что-нибудь значить» [Buddhadasa, 1987, с. 120]. Эти этические постулаты «буддийской экономики», которые на первый взгляд кажутся только ностальгией религиозных мыслителей, в действительности окрашивают новую экономическую практику, придавая ей особый смысл.
Согласно концепции праведного богатства, первым и ключевым принципом «буддийской экономики» является идея передела, перераспределения благ. Вполне естественно, что центр тяжести всякой экономической концепции падает на механизм распределения, а не производства. Это вполне согласуется с понятием «социальное богатство». Вопрос «как произвести?» явно уступает вопросу «как распределить?». Социальные программы доминируют в текстах экономических планов и в экономическом мышлении в целом. Тхерава- динские мыслители озабочены прежде всего поисками рациональных путей пропорционального распределения, только эта сфера и мыслится в контексте буддийского менталитета как рациональная (28). Разделение — это основа основ «буддийского пути», считает С. Сиваракса [Sivaraksa, 1986, с. 246]; неограниченное накопление безумно, оно должно быть умеренным, сдержанным, обузданным, как всякое желание, всякая привязанность (29). Тезис об ограничении богатства, как средстве его оправдания, пронизывает все буддийские экономические спекуляции (см. [Sivaraksa, 1981, с. 150 и др.]).
——————————————————————————————————-
(28) «В программах ланкийской “Сарводаи” преднамеренно пропущены категории “занятость” и “доход” — два символа модернизации, вокруг которых концентрируются все рассуждения о развитии» [Kantowsky, 1980, с. 61.— Цит. по: Старостина, 1985, с. 91].
(29) С. Сиваракса подвергает острой моральной критике высокие ставки ссудного процента [Sivaraksa, 1986, с. 238].
——————————————————————————————————-
С этим же связано решение, пожалуй, самого острого экономического вопроса XX столетия — о соотношении частной и общественной собствености. В контексте «буддийской экономики» римские категории собственности неуместны, обладание не может рассматриваться с точки зрения отчуждаемости, оно несубстанционально и текуче, оно с трудом, осознается как устойчивый предикат некоего индивидуального субъекта. Попытки оправдания частной собственности в буддийской «экономической мысли» были, как правило, неудачны да и не занимали большого места. В «Буддийской экономике» преобладала идея обобществления. У Ну в Бирме обосновывал национализацию земли именно с позиций буддийской этической критики частной собственности [Sarkisyanz, 1965, с. 213]. Так же поступал Приди Паномионг в Таиланде, предлагая в 30-е годы свою программу [Skrobanek, 1976, с. 157—163] (30). В этом пункте социалистическая идея была очень созвучна «буддийской экономике». В конце концов, пишет С. Сиваракса, всякая кооперация людей лучше частной конкуренции [Sivaraksa, 1986, с. 243]. Государство по традиции должно быть механизмом установления экономической гармонии: его контроль и его инициатива кажутся в этом смысле естественными.
——————————————————————————————————-
(30) У П. Паномионга этическая аргументация опосредуется идеей нации. Он говорит об «эгоизме», в котором «собственный интерес… является целью морального действия», и противопоставляет ему национализм, который «зиждется на принципе альтруизма (уважение и приверженность интересам других)». Любовь к себе и своей собственности, считает он, противоречит последнему (цит. по [Skrobanek, 1976, с. 159]).
——————————————————————————————————-
В то же время и государство, строго говоря, не осознается как субъект собственности. Оно не может насильственно» отбирать, неограниченно накапливать и концентрировать материальные блага. В отношении государства действует тот же стереотип «непривязанности», что и в отношении отдельного индивида. Акцент в «буддийской экономике» делается на другой функции государства — распределении. Государство— организация по разделению благ, инструмент поддержания справедливости. В сущности, в буддийской религиозной традиции государство — это высшая моральная инстанция, именно в этом весь смысл его экономического доминирования. Государство должно иметь только одну цель — следить за тем, чтобы эгоистические претензии подданных не привели к разрушительной моральной порче. Своим содействием оно помогает подданным обладать только праведным богатством. В этом чисто этическом тезисе нетрудно увидеть предпосылки государственной экономической экспансии и бюрократизации крупных накоплений.
Но в целом для «буддийской экономики» больше характерна стратегия сдерживания, чем ликвидация частной собственности. «Трудно, если не сказать невозможно, для истинно буддийского государства национализировать частные предприятия без справедливой компенсации, и особенно экспроприировать владельцев, если нет никаких доказательств, что они обогатились нечестным образом,— писал Н. Сианук. Это не означает, что буддизм не стремится (ненасильственно) лишать имущих собственности в пользу бедных» [Sihanouk, 1969, с. 18].
Еще один популярный тезис, естественно связанный с названным выше, — необходимость экономического равенства (в нем проявилось сильное влияние социалистических взглядов). Правда, содержание понятия «равенство» варьирует от резкого неприятия какого бы то ни было расслоения до идеи умеренного ограничения диспропорций посредством перераспределительных механизмов. Очевидно, последний вариант ближе к буддийской социальной программе, идея казарменного равенства вряд ли могла возникнуть в недрах буддийской традиции. У Ну в 1959 г. пытался увязать равенство с буддийскими целями: «Политика экономического равенства ликвидирует в человеке инстинкт приобретения и обеспечивает… всему обществу возможность посвятить время медитации, ведущей к ниббане» [Smith D., 1965, с. 133]. Устранение экономической несправедливости является истинно буддийским делом [Sarkisyanz, 1965, с. 171 — 172]. Экономические планы, которые не учитывают проблемы роста неравенства, подвергаются острой критике [Sivaraksa, 1986, с. 235—236]. Пожалуй, только в Таиланде в последней четверти XX в. акцент на равенстве в религиозно-экономической риторике заметно ослабел.
Апофеоз идеи «буддийской экономики» — концепция «срединного пути», в ней все указанные выше тезисы сводятся воедино. К принципу «срединности» буддийские идеологи прибегали в XX в. часто и по разным поводам. Его разработал и оформил в приложении к экономике немецкий экономист Э. Шумахер, который в 50-е годы был советником бирманского правительства; в сущности, этот европеец создал наиболее полную модель «буддийской экономики», равной которой по стройности не было у самих буддистов. Концепция Э. Шумахера — это плод западного интеллекта; со временем он развил ее в социофилософское учение, предназначенное для Запада и встреченное там с интересом.
«Срединный путь» в экономическом аспекте означает умеренное обладание материальными благами — посредине между крайностью бедности и крайностью роскоши. Буддизм не отвергает материального благополучия, но определить его уровень нужно по формуле: максимум благополучия при минимуме потребления [Schumaher, 1978, с. 52]; это значит, что не следует гнаться за количеством благ,— ведь и малое может быть прекрасным. Нет ничего лучше «промежуточных технологий», считает Э. Шумахер, дешевых и доступных всем, предназначенных для малых масштабов производства, удовлетворяющих человеческую потребность в труде [Schu- maher, 1978, с. 29—30]. В концепции «срединности» нетрудно увидеть идеал самообеспечения — индивида, семьи, малого коллектива; невзыскательность и простота жизненных стандартов — тоже довольно частый элемент в буддийской «экономической идеологии» [Ling, 1979, с. 114]. Некоторый аскетизм замечает в ланкийских экономических планах Т. Фернандо [Fernando, 1973, с. 29]. Принцип удовлетворенности самым необходимым не означает осуждения сверхнеобходимого продукта и сверхнеобходимого труда, в XX в. мотив преумножения благ уже легко оправдывается, конечно, через идею передела. «Вот каков высший закон природы: не брать самим ничего, кроме необходимого, и стараться накапливать и производить сверх того — на благо всего общества» [Buddhadasa, 1987, с. 56]. Но обладать чем-то сверх необходимого, не делясь ни с кем, было бы уже нарушением праведной .«срединности». Моральная цель остается превыше всего, материальное благополучие только вспомогательно. Интересно, что экономическая «проповедь» Шумахера не лишена присущего «буддийской экономике» этического духа: как и буддийские мыслители, Шумахер противопоставляет западную экономическую бездуховность моральным целям «буддийской экономики» — благополучию в расширенном смысле, духовной гармонии [Schumaher, 1978, с. 53].
«Буддийская экономика» — это только часть более широкой, хотя и такой же аморфной концепции буддийского пути. В идее «буддийской экономики» очень заметно присутствие представлений, относящихся к разным западным «измам», само появление экономики как объекта буддийской мысли — результат нового взгляда на общество и мир. Многое объясняется просто специфическими реалиями развивающегося общества. Кроме того, надо помнить о выборочной интерпретации древней традиции, конституировании из ее податливых элементов идеальной и, по возможности, непротиворечивой модели. За кадром остается многое. Некоторые значения традиционной социальной программы просто игнорируются. Например, акцентируя внимание на духе равенства, идеологи-экономисты забывают о патерналистском меритократическом иерархизме; говоря о готовности тхеравадинов удовлетвориться необходимым минимумом, они оставляют в тени сильную психологическую установку на демонстративное, Престижное потребление и высокую оценку зримого богатства, прочную ассоциацию богатства с властью как один из критериев его благости. Эти и другие элементы относятся к объектам «преодоления», а некоторые их последствия списываются на счет западной экономической и ценностной экспансии. И в то же время идея «буддийской экономики» дает представление о том, как новая экономическая реальность осмысливается в буддийском духе и, следовательно, вводится в традиционный культурный контекст, т. е. легитимируется.
Буддийские ценности и экономическое развитие
По-видимому, уже прошло время, когда экономический успех оценивался преимущественно в категориях роста. Для относительно отсталых стран экономический рост в XX в. был одним из важнейших императивов, но только наряду с двумя другими: политической стабильностью и культурной идентичностью. Соотношение этих трех императивов иногда принимало драматические формы, когда приходилось делать выбор между ними или даже жертвовать одним из них. Проблема экономического роста осложнялась тем, что его методы, критерии и ориентиры были целиком и безоговорочно западными, и это обстоятельство в некоторой степени представляло собой угрозу политической стабильности и в огромной степени — культурной идентичности. Разрешение этих внутренних конфликтов в каждой стране Азии зависело от множества конкретных условий и далеко не всегда было успешным.
Среди тхеравадинских стран по темпам роста долгое время выделялась Шри Ланка, показывавшая не сверхбыструю, но все же устойчивую поступательность развития, сочетавшуюся с относительной стабильностью (до независимости и при ней) и укреплением культурной идентичности (при независимости). Однако кризис 1971 г. поставил под сомнение стабильность, а кризис 1983 г. сделал нестабильность и этнокультурный конфликт хронической болезнью, отразившейся и на экономике. В Бирме соотношение трех императивов было таким: при колониализме — рост, стабильность, но кризис идентичности; в 40—50-е годы — сохранение роста, усиление чувства идентичности, но кризис стабильности; с начала 60-х годов — некоторая стабилизация, еще большее укрепление чувства идентичности, но резкое снижение темпов роста. В Лаосе только в 80-е годы сложились условия для стабильного роста, хотя идентичность еще не до конца восстановлена. В Камбодже в 70—80-е годы все три критерия были кризисными, чего нельзя сказать о предыдущих десятилетиях. Таиланд в течение столетия лишь иногда испытывал краткие периоды нестабильности и почти не испытал кризиса идентичности; с 60—70-х годов начался постоянно ускоряющийся экономический рост (несколько обостривший, впрочем, проблему идентичности). В экономическом смысле Таиланд — чудо среди тхеравадинских стран.
Если рассматривать экономический рост как абсолютную цель вне прочих критериев, как это и делалось в рамках теорий развития (а иногда делается и сейчас), то все остальные факторы, в том числе и религия, могут быть либо препятствием для экономического роста, либо стимулом, либо нейтральными к нему. Что касается религии, то при таком подходе она рассматривается не в плоскости культурной идентичности, а как совокупность аналитически выделенных элементов, непосредственно влияющих на экономические действия. Этот подход не исчерпывает всей сложности вопроса, но его нельзя игнорировать.
Например, каковы экономические следствия такой тхеравадинской культовой нормы, как подношения сангхе или другие траты на религиозные цели? Выше говорилось, что эти расходы поглощают ощутимую долю накоплений, которая могла бы быть потрачена на инвестирование. На первый взгляд кажется, что подношения — несомненное препятствие на пути роста (см. [Мюрдаль, 1972, с. 154]), что секуляризация поведения и мышления естественным образом высвобождает эти средства для экономики. Эта точка зрения в какой-то степени присутствовала и в критике сангхи со стороны радикалов и даже некоторых буддийских идеологов, говоривших либо о бесполезности религиозных трат, либо о необходимости соблюдать канонический аскетизм. Но были и другие мнения. Н. Малдер пишет, что, согласно большинству исследований и расчетов, на религиозные цели тратится средств не больше, чем допускает здравый экономический смысл, что увеличение размеров подношений естественно зависит от объема богатства и, следовательно, эти расходы нельзя считать серьезным препятствием для роста экономики и тем более для поддержания простого экономического благосостояния [Mulder, 1969, с. 12]. Кроме того, альтернативным (по отношению к религиозному) типом расходов является отнюдь не инвестирование, а потребление (в том числе престижное). Значит, этот институциональный аспект тхеравады совершенно нейтрален? Н. Малдер (как и некоторые другие исследователи) не останавливается на этом выводе. Утверждая, что необходимость совершать дана, приносящие заслугу, в какой-то мере стимул накоплений, а значит, и экономического развития, он заставляет еще раз вспомнить протестантскуюэтику [Mulder, 1969, с. 12]. Утверждение Малдера слишком категорично. Верно, что разнообразная, не прекращающаяся в течение всего года практика подношений, праздников, общих трапез должна поддерживать некоторое оживление в экономике деревни или квартала; верно, что для совершения ряда церемоний нужно сначала кое-что накопить. Но вряд ли этот вывод приложим к принципу систематического расширения производства вне систему мы религиозного культа. В целом расходам на дана больше подходит статус нейтрального фактора, если смотреть на него с точки зрения простых экономических калькуляций.
Другой пример — влияние массового пострижения в монахи (постоянного или временного) на уровень экономической занятости. Если в Шри Ланке, в силу своеобразия монастырской практики, численность сангхи невелика, то в материкоковой Юго-Восточной Азии размеры ее могут удивить экономиста, который обнаружит здесь «непроизводительное растрачивание людских ресурсов», находящихся к тому же на полном иждивении. Между тем даже при строго экономическом взгляде на вещи выясняется, что, во-первых, сангха всегда пополнялась в основном за счет семей, которые могли позволить себе потерять работника; во-вторых, временный постриг (в деревне) приходился, как правило, на время наименее интенсивных работ (а в городе сроки пострига гораздо короче); в-третьих, по сравнению с уровнем скрытой безработицы в целом, «экономическая бездеятельность» в сангхе несущественна; в-четвертых, сангха представляет собой в какой-то мере институт социального обеспечения сравнительно малоимущих людей. Значит, даже не затрагивая вопроса о «производстве» необходимой обществу харизмы, которую невозможно учесть в экономическом балансе, незанятость монашества вряд ли следует считать серьезным препятствием для собственно экономического развития; более того, существование этого института имеет и некоторое значение для всего общества (см. [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 343]). Поэтому можно говорить о нейтральности и этого фактора.
Представления и нормы поведения, непосредственно выводимые из религиозной доктрины и прямо касающиеся экономической деятельности,— область более тонких интерпретаций. Несомненно, что норма ненасилия, доведенная до крайних форм табу, препятствует распространению тех видов экономических действий, которые связаны с лишением жизни; та же норма косвенно сдерживает экономический рост, способствуя демографическому напряжению (запрет на противозачаточные средства). Но это самые простые примеры. Более сложный случай — влияние ряда буддийских социальных ценностей, о которых речь шла выше, в частности отношение к наращиванию материального благополучия. Не вызывает сомнения определенная девальвация идеи обогащения, хотя на практике, как уже говорилось, желание быть богатым и высокая оценка богатства как знака праведности и успеха чрезвычайно массовы, систематического стремления к нему нет [Herbert, 1981, с. 60; Piker, 1968, с. 390; Stuart- Fox, Buckuell, 1982, с. 71]. Тхеравадинской традиции знакомы средства для поддержания средней зажиточности — чтобы не обеднеть, но неизвестны способы, как разбогатеть. Впрочем, предпринимались отдельные попытки реформистских толкований (например, Буддхадасой), смысл которых состоит в оправдании самого процесса обогащения, но и в них поставлены пределы; кроме того, они обращены не столько к людям среднего достатка, которые могут стать богатыми, сколько к бедным, которые хотят стать средними. Во всяком случае, в современной тхераваде трудно найти нормативную основу для того, чтобы упорное рациональное накопление богатства было признано благочестивым делом. Очень сложно определить, является это препятствием для экономического роста или лишь свидетельством того, что в тхераваде отсутствует стимул такого роста. Второе утверждение несомненно, но не слишком ли категорично первое?
То же можно сказать об определенном предубеждении по отношению к новым экономическим ролям (таким, как коммерсант, бизнесмен, наемный рабочий, техник-специалист). Однако условия экономического плюрализма, складывающиеся в городе, постепенно изживали это предубеждение, а доктринальная реформация в городском буддизме обнаружила в нем древние ценности, которые вполне подходят к этому плюрализму (примером могут служить тайские города). Диверсификация экономической деятельности стала возможной и по-буддийски обоснованной в районах, более ориентированных на внешние контакты и менее традиционно упорядоченных в социальном смысле (например, район Коломбо в Шри Ланке, южные области Бирмы). Социальные процессы в городах и более открытых районах заставляют вспомнить о таких характерных чертах старой социальной программы, как рыхлость групповых структур, непрочность групповой солидарности, доминирующий в городских связях «отраженный персонализм» с его текучестью и непостоянством, относительно высокая мобильность. Все это создает нормативный климат, способствующий усвоению новых профессиональных и социоэкономических ролей. Однако из этого же следует, что в традиционной среде нет прочных авторитарных групповых структур, которые могли бы mutatis mutandis стать прообразом по-новому ориентированных коллективов. По-видимому, социальная рыхлость тхеравадинских стран, с особой силой обнаружившаяся в XX в. в резульатате западного влияния, является скорее препятствием для быстрого экономического роста, чем условием, благоприятствующим ему (31).
——————————————————————————————————-
(31) Эта тонкая социологическая проблема, может быть сформулирована следующим образом: какое общество в большей степени готово к глубоким изменениям — более жесткое или более рыхлое? На первый взгляд жесткие структуры кажутся более закрытыми и консервативными, способными к сопротивлению. Но если «воля к сопротивлению» сменяется «волей к изменению», жесткие структуры могут превратиться из тормоза изменений в их эффективное орудие. Преимущество жестких структур состоит в наличии прочного чувства группы, многовекового опыта стабильной организации, наконец, детально структурированного типа личности с детерминированным поведением (как в китайской или индийской социальных традициях).
——————————————————————————————————-
Разброс общих оценок непосредственного влияния тхеравады на экономический рост довольно велик. Редко, впрочем, встречается мнение, что она так или иначе стимулирует да этот рост (см. обзор работ по Бирме, подготовленный Хербертом [Herbert, 1981, с. 64], а также [Mulder, 1969]).
Чаще встречаются мнения о несовместимости этих двух вещей [Walinsky, 1962; Smith I).. 1965 и др]. Г. Мюрдаль обобщил их следующим образом: «Понимаемая реалистически и всеобъемлюще религия обычно действует как огромная сила социальной инерции. Автору не известен ни один пример в современной Юго-Восточной Азии, где бы религия вызывала социальные перемены» [Мюрдаль, 1972, с. 150]. Г. Мюрдаль относит преобладание дискреционного административного управления экономикой к числу несомненных препятствий, однако замечает, что традиции авторитаризма и патернализма, в частности, помогли планированию [Мюрдаль, 1972, с. 173, 213—215]. Еще важнее, по-видимому, следующая его мысль: ссылка на «азиатские ценности» в объяснении отсталости и медленного роста — это не более чем «легковесный, спекулятивный подход». В Азии «люди живут и жили длительное время в условиях, весьма отличных от тех, что существуют на Западе» [Мюрдаль, 1972, с. 155]. Считая религию в целом негативным фактором, Мюрдаль все же переносит центр тяжести проблемы на исходные экономические обстоятельства, на «порочный круг бедности», из которого тяжело или почти невозможно вырваться восточной экономике.
Такой подход кажется мне более трезвым, чем преувеличение религиозного фактора. Эту линию применительно к тхераваде продолжает Т. Линг. Споря с Л. Паем, он объясняет экономическую отсталость Бирмы таким объективным фактором, как тяжелые последствия войны (нигде в Азии они не были тяжелее). Сравнение Бирмы и Таиланда доказывает, говорит он, что причину их различий надо искать не в культурной сфере, а в опыте истории: колониализм и война изначально поставили Бирму в худшие условия [Ling, 1979b, с. 109—110] (32). Говоря о тхераваде, Т. Линг проявляет осторожность: он соглашается с тем, что вряд ли речь может идти о позитивном влиянии, но в целом, по его мнению, тхеравада нейтральна [Ling, 1980, с. 585]. О нейтральности тхеравады, если не считать отдельных сдерживающих элементов, пишут многие другие авторы (33).
——————————————————————————————————-
(32) Ссылки на исторические обстоятельства часто приводятся и для объяснения отсталости мусульманского мира: консерватизм Оттоманской империи, европейская экспансия и т. д. [Ragab, 1980, с. 517]. Побочной целью таких объяснений является оправдание ислама.
(33) См. [Nash, 1965; Cady, 1960; Aung Tun Thet, 1989; Lissak, 1976]. M. Лиссак считает, что некоторые виды буддийской практики сдерживают экономическую инициативу, сама же буддийская доктрина — нейтральна (см. обзор А. Херберта [Herbert, 1981, с. 52—57], а также [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 349, 359]).
——————————————————————————————————-
Среди приведенных оценок явно преобладает тезис о нейтральности, хотя довольно часто говорится о негативном влиянии (по крайней мере отдельных элементов) и изредка внимание акцентируется на позитивном влиянии. Наиболее точна, с моей точки зрения, такая формула: по отношению к экономическому росту в XX в. тхеравада нейтральна в целом, но препятствует ему в частностях.
Все эти выкладки, как уже отмечалось, не исчерпывают сложности проблемы, ибо экономическое развитие отнюдь не сводится к быстрому росту. Участие буддийской системы значений в становлении экономики — гораздо более масштабная культурологическая проблема, чем вопрос о том или ином влиянии религиозных ценностей на динамику роста. Надо попробовать выйти за пределы оценок по веберианской шкале «препятствие — нейтральность — стимул» на более широкое смысловое поле.
Начать следует с тезиса о том, что вообще никакое развитие, в том числе экономическое, невозможно вне культурного контекста, вне опосредующей работы господствующей, привычной (традиционной) системы значений. В данном случае речь идет не о конкретных запретах или рекомендациях буддийской доктрины, а о совокупности ментального и поведенческого опыта, сложными и не бросающимися в глаза путями восходящего к этой доктрине. Функционирование экономики и становление новых экономических форм в конечном счете пр.осто не может происходить иначе, как через посредство буддийских смыслов, через самобытное осмысление. Система буддийских ценностей — просто данность, неизбежная реальность. Она не мешает и не помогает экономической практике, а наделяет ее смыслом, вносит в нее связанность и упорядоченность, вне которых эта практика (как и вся общественная практика) превратилась бы в хаос, лишивший ее всякой интеллегибельности. Можно допустить (хотя даже и это допущение слишком рискованно), что некоторые изолированные сегменты (анклавы) тхеравадинских экономик живут и развиваются по законам иной, западной ценностной системы, но этого невозможно представить, имея в виду экономику в целом. Следовательно, всякое новшество не может миновать той или иной переработки в «тхеравадинском сознании» до того, как, так или иначе, произойдёт усвоение этого новшества. Роль тхеравадинской социальной программы состоит в такой легитимации нового.
Но в ходе процесса легитимации новое не может не изменяться. Поэтому необходимо сформулировать еще один тезиc: экономическое развитие социума (в широком смысле) есть нечто иное, чем конструирование и распространение только специфически западной экономической модели. В разных культурах существуют разные представления об идеальном социоэкономическом порядке, разные концепции того, гак следует относиться к материальным благам, потому что в каждом случае самобытно само понятие «социальное благо». Экономика как узкая сфера материального имеет смысл только в контексте всего социального порядка, а последний, в свою очередь, неизбежно соотносится с общей системой мировоззрения. Мировоззрение же немыслимо без высшего религиозного опыта, прямо или косвенно наделяющего его сакральным авторитетом. Таким образом, можно утверждать, что осмысление нового в экономике дает всегда в чем-то неповторимые, самобытные результаты и что в этом состоит непременное условие экономического развития вообще и экономического обновления (усвоения чужих форм) в частности. Поэтому применительно к буддийским экономикам категории «капитализм», «рынок», «социализм», «государственное регулирование», «закон стоимости» и прочие можно употреблять с культурологической точки зрения с такими же существенными оговорками, как при использовании понятий «демократия», «законность», «авторитаризм» применительно к буддийским политиям.
Буддийское значение социального блага предполагает, как уже было показано, не столько принцип нарастающего у «производства» благ, сколько определенный механизм их распределения, а значит, «производства» связей («социальное богатство»), поддержание баланса межличностных отношений, сдерживающего индивидуальные накопления. Этот экономический идеал нельзя просто назвать иррациональным (хотя он выглядит таковым с западной точки зрения), скорее надо признать за ним иную рациональность. Для буддийского экономического идеала рационально то, что способствует сохранению и поддержанию сети патерналистских (клиентельных) связей, ибо только это является морально оправданной целью. Нерационально много производить, ибо блага индивида и благо общества не мыслятся в категориях «успеха», «овладения природой», бесконечного фаустовского раскрытия возможностей homo faber. Рациональной целью здесь является не личное достоинство индивида-атома, измеряемое, в частности, уровнем его овладения материальным, способность обменивать материальное на другие ценности — связи, влияние, власть.
Поэтому, например, экономическая роль государства как; механизма перераспределения и высшей моральной инстанции (в том числе в экономике)—это не столько временная историческая закономерность «переходного общества», сколько устойчивая сущностная черта, которая сохранится надолго, если не навсегда. Для западного homo oeconomicus эта черта кажется досадным пережитком, но, для тхеравадинских. экономических агентов она морально легитимна. Идея «срединности» применительно к технологическому прогрессу или росту потребления, акцент на удовлетворенности уровнем благополучия, отсутствие стремления к систематическому обогащению с помощью инвестирования и калькуляции — тоже объяснимые и естественные для этих обществ установки. Можно ли отказать им в определенной экономической рациональности? И хотя история разводит судьбы тхеравадинских стран, есть некоторые общие для них «культурные темы», или «коды» (термины С. Айзенштадта, см. [Eisenstadt, 1973а, с. 325]), которые в совокупности позволяют говорить о влиянии буддизма на современную экономику.
Не касаясь вопроса о страновых различиях, перечислю вкратце несколько своеобразных черт экономических отношений, объяснимых с точки зрения тхеравадинской социальной традиции. Индивидуальное богатство всегда подлежит распределению по каналам социальных связей индивида. Богатство сильно ориентировано на престижное потребление (которое не столь иррационально, как может показаться западному человеку). Частнохозяйственные рыночные отношения вряд ли могут функционировать на строго безличностной, юридической (договорной) основе. Экономическое преуспеяние рассматривается как средство и право приобретения влияния и власти, бизнес ориентирован на проникновение во властные структуры. Государство сохраняет решающие функции контроля и регулирования. Экономические отношения внутри предприятия (фирмы) между работодателем и работником строятся на личностной иерархической клиентельной основе и не похожи ни на классический европейский принцип свободного рынка рабочей силы, ни на японский принцип пожизненного найма, ни на китайский принцип родственно-кланового рекрутирования. Экономические отношения между предприятиями (фирмами) строятся на той же основе (тенденция к иерархическому клиентельному соподчинению крупных, средних и мелких фирм, развитие разветвленной сети мафиозных связей, распространение акционерных и паевых форм экономического участия). Все частнохозяйственные отношения отличаются подвижностью, мобильностью, высокой вероятностью быстрого предпринимательского успеха, но и нестабильностью личного или наследственно-семейного преуспеяния.
XX век показал, сколь велик потенциал западной капиталистической экономики, которая приобрела глобальные масштабы и значение. Но успех ее нельзя считать триумфом, как казалось в эйфории прошлого и даже первой половины нынешнего столетия. Опыт, накопленный в XX в.,— это опыт глубоких сомнений, а иногда и отчаяния. Насилие и варварство были плодами западной цивилизации в той же мере, в какой и впечатляющий рост благополучия. Невероятные технологические достижения сменялись страшными призраками дегуманизации и тотальной катастрофы. Гордое и тщеславное господство над природой поставило проблему экологической деградации. Во второй половине века стали очевидны апокалипсические обертоны прогресса. Западная цивилизация и западная экономика были вынуждены меняться. Не будет преувеличением сказать, что эти изменения происходили не без учета опыта других культур и других типов экономики. Это было внутренним признанием того, что нет одной экономической рациональности; рациональным может быть и то, что раньше не умещалось в абсолютные схемы. По-видимому, новая культурная терпимость должна привести и к новой экономической терпимости, а диалог культур — к диалогу экономик. Это предполагает не только обмен товарами, но и обмен ценностями. Не будет ли «буддийская тема» в этом смысле одним из путей поиска оптимального экономического порядка, причем не только в самих буддийских странах, но и за их пределами? Не повлияют ли — и не влияют ли уже — буддийские ценности на формирование нового отношения к природным ресурсам, потенциалу человека, роли материального богатства, балансу общественных интересов? Что касается самих тхеравадинских обществ, положительный ответ кажется мне несомненным.
<<К оглавлению книги
Аверинцев, 1988.— Аверинцев С. С. Византия и Русь: два типа духовности.— Новый мир. 1988, № 8—9.
Агаджанян, 1983.— Агаджанян А. С. Некоторые проблемы идеологии на страницах бирманского журнала «Пати ея».— Народы Азии и Африки. 1983, № 6.
Агаджанян, 1984.— Агаджанян А. С. Независимая Бирма: проблема ориентации.— Юго-Восточная Азия на рубеже 70—80-х гг. (тенденции и перспективы развития). М., 1984.
Агаджанян, 1987.— Агаджанян А. С. [Рец. на:] Философия и религия на: зарубежном Востоке. XX век. М. 1985.—Народы Азии и Африки. 1987, № 4.
Агаджанян, 1989.— Агаджанян А. С. Бирма: крестьянский мир и государство. М. 1989.
Агання-сутта, 1991.— Сутра «Первознание» (Агання-сутта). Пер. А. В. Парибка.—Восток. 1991, № 1.
Бахтин, 1979.— Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
Бектимирова, 1981.— Бектимирова Н. Н. Буддийская сангха в независимой Кампучии. М., 1981.
Бектимирова, 1989.— Бектимирова Н. Н. Некоторые аспекты взаимовлияния модернизации общества и трансформации буддизма (на примере Камбоджи).— Новое обретение культурного наследия в контексте националистического движения в Юго-Восточной Азии. Первый советско французский симпозиум по Юго-Восточной Азии. Доклады. М., 1989.
Бердяев, 1989.— Бердяев Н. А. Типы религиозной мысли в России.— Собрание сочинений. Т. 3. Париж, 1989.
Берзин, 1973.— Берзин Э. О. История Таиланда (краткий очерк). М., 1973.
Бирманские земельные договоры, 1984.— Бирманские земельные договоры XVUI в.— Народы Азии и Африки. 1984, № 3.
Бонгард-Левин, 1980.— Бонгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация: философия, наука, религия. М., 1980.
Бонгард-Левин, Ильин, 1985.— Бонгард-Левин Г. М., Ильин Г. Ф. Индия в древности. М., 1985.
Бонхеффер, 1989.— Бонхеффер Д. Сопротивление и покорность.— Вопросы философии. 1989, № 10—11.
Брук, 1986. — Брук С. И. Население мира. Этнодемографический справочник. М., 1986.
Волков, 1985.— Волков С. В. Ранняя история буддизма в Корее. М., 1985.
Всеволодов, 1978.— Всеволодов И. В. Бирма: религия и политика (буддийская сангха и государство). М., 1978.
Гордон, 1980.— Гордон А. В. Вопросы типологии крестьянских обществ Азии (научно-аналитический обзор дискуссии американских этнографов о социальной организации и межличностных отношениях в тайской деревне). М., ИНИОН, 1980.
Дагданов, 1984.— Дагданов Г. Б. Чань-буддизм в творчестве Ван Вэя. Новосибирск, 1984.
Диакон, 1988. — Лев Диакон. История. М., 1988.
Ерасов, 1982.— Ерасов Б. С. Социально-культурные традиции и общественное сознание в развивающихся странах Азии и Африки. М., 1982.
Жабреев, 1966.— Жабреев А. Ф. [Рец. на:] Не Вин. Бирма на новом пути. М., 1965.— Народы Азии и Африки. 1966, № 3.
Жоль, 1981.— Жоль К. К. Сравнительный диализ индийского логико-философского наследия. Киев, 1981.
Зарубина, 1990.— Зарубина Н. Г. М. Вебер о влиянии индуизма на социально-экономическое развитие и современные концепции модернизации Индии. Дисс. на соиск. степени к. и. н. М., 1990.
Зубов, 1990 — Зубов А. Б. Парламентская демократия и политическая традиция Востока. М., 1990.
Игнатович, 1987.— Игнатович А. Н. Учения о теократическом государстве в японском буддизме.— Буддизм и государство на Дальнем Востоке. М., 1987.
Игнатович, 1988.— Игнатович А. Н. Буддизм в Японии. Очерк ранней истории. М., 1988.
История Кампучии, 1981.—История Кампучии. Краткий очерк. М., 1981.
Калашников, 1987.— Калашников Н. И. Эволюция политической системы Таиланда. М., 1987.
Кардини, 1987.— Кардини Ф. История средневекового рыцарства. М., 1987.
Корнев, 1973.— Корнев В. И. Тайский буддизм. М., 1973.
Корнев, 1983.— Корнев В. И. Буддизм и его роль в общественной жизни стран Азии. М., 1983.
Корнев, 1987.— Корнев В. И. Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии. М., 1987.
Кочетов, 1983.— Кочетов А. Н. Буддизм. М., 1983.
Краснодембская, 1982.— Краснодембская Н. Г. Традиционное мировоззрение сингалов (обряды и верования). М., 1982.
Кузнецов, 1986. —Кузнецов Б. И. Основные идейные принципы трактата Цзонхавы «Великие этапы пути к бодхи».— Источниковедение и историография истории буддизма. Страны Центральной Азии. Новосибирск, 1986.
Кычанов, 1987.— Кычанов Е. И. Государственный контроль за деятельностью буддийских общин в Китае в период Тан Сун (VU XUI вв.). Буддизм и государство на Дальнем Востоке. М., 1987.
Лихачев, 1988.— Лихачев Д. С. Крещение Руси и государство Русь.—Новый мир. 1988, № 6.
Лу хнин павунчин, 1963.—Лу хнин павунчин до и энямэня таботая Пеория взаимодействия человека и окружающей среды). Рангун, 1963 (на бирм. яз.).
Мартынов 1987а.— Мартынов А. С. Буддизм и двор в начале династии Тан (VU_VUI вв.).—Буддизм и государство на Дальнем Востоке.М., 1987.
Мартынов, 1987б.— Мартынов А. С. Государство и религии на Дальнем Востоке (вместо предисловия).— Буддизм и государство на Дальнем Востоке. М., 1987.
Мельниченко, 1987 — Мельниченко Б. Н. Буддийская община и государство в традиционном таиландском обществе XV—XIX вв.— Буддизм и государство на Дальнем Востоке. М., 1987.
Милиндапаньха, 1989. —Вопросы Милинды (Милиндапаньха). Пер. А. В. Парибка. М., 1989.
Мюрдаль, 1972.— Мюрдаль Г. Драма Азии (современные проблемы третьего мира). М., 1972.
Нандатейнзан, 1975.— Нандатейнзан. Бауа адэйбэ хнин бауа тэса. (Смысл жизни и истина жизни. Анализ восточного философского взгляда на западные воззрения относительно смысла жизни во вселенной). Рангун, 1975 (на бирм. яз.).
Не Вин, 1965. — Не Вин. Бирма на новом пути. М., 1965. Его жизнь, учение и община.
Ольденберг, 1891.— Ольденберг Г. Будда М., 1891.
Пати ея.—Пати ея (Партийная жизнь) (журн.). Рангун (на бирм. яз.).
Подберезский, 1988.— Подберезский И. В. Католическая церковь на Филиппинах. М., 1988.
Радхакришнан, 1956.— Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1—2. М., 1956.
Рашковский, 1985.— Рашковский Е. Б. Зарождение науковедческой мысли в странах Востока. 70—80-е годы. М., 1985.
Рашковский, 1990. Рашковский Е. Б. Научное знание, институты науки и интеллигенция в странах Востока. М., 1990.
Розенберг, 1991.— Розенберг О. О. Труды по буддизму. М., 1991.
Рыбаков, 1981.— Рыбаков Р. Б. Буржуазная реформация индуизма. М.,
Самозванцева, 1989.— Самозванцева Н. В. Формирование представлений об истории в буддийской традиции Индии.— Буддизм. История и культура. М., 1989. 3
Семека, 1969.— Семека Е. С. История буддизма на Цейлоне (сангха в древности и в средние века). М., 1969.
Сказки народов Бирмы, 1976.— Сказки народов Бирмы. М., 1976.
Словесная, 1983.— Словесная Н. Г. Интеллигенция Таиланда. М., 1983.
Словесная, 1991.— Словесная Н. Г. Отношения патрон—клиент в таиландском обществе — Традиционный мир Юго-Восточной Азии. М,
Старостина, 1985. — Старостина Ю. П. Современный буддизм и проблемы социально-экономического развития в Южной и Юго-Восточной Азии (научно-аналитический обзор). М., ИНИОН, 1985 (рук.).
Сыркин, 1972.— Сыркин А. Я. Труды Ф. И. ербатского и некоторые аспекты соотношения индуизма и буддизма.— Индийская культура и буддизм. М., 1972.
Талмуд, 1982.— Талмуд Э. Д. Общественно-политическая мысль Шри Ланки в новое время. М, 1982.
Тэрнер, 1983.— Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.
Устав ПБСП, 1975.— Устав Партии Бирманской социалистической программы. Рангун, 1975 (рук.), (перевод с бирм. яз.).
Философия, 1983.—Философия эпохи ранних буржуазных революций. М., 1983.
Философия и религия, 1985.— Философия и религия на зарубежном Востоке, XX век. М., 1985.
Философские вопросы, 1984.— Философские вопросы буддизма Новосибирск, 1984.
Формации или цивилизации, 1989.— Формации или цивилизации? (материалы круглого стола).— Вопросы философии. 1989, № 10.
Фрейденберг, 1990. — Фрейденберг О. М. Утопия (глава из неопубликованной монографии «Семантика композиции “Трудов и дней” Гезиода»).— Вопросы философии. 1990, № 5.
Холл, 1958. — Холл Д. Дж. Е. История Юго-Восточной Азии М 1958
Чит Хлайн, Ти Мья, 1971 .— Чит Хлайн М., Ти Мья Т. Пьиду пати до (О народной партии). Рангун, 1971 (на бирм. яз.).
“Шопенгауэр, 1914.— Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости. СПБ.,
Щербатской, 1919. — Щербатской Ф. И. Философское учение буддизма. Пг.,
Щербатской, 1988.— Щербатской Ф. И. Избранные труды по буддизму М, 1988.
Эволюция, 1984.—Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984.
Элиаде, 1987.— Элиаде М. Космос и история.— Избранные труды. М.,
Энгельс.— Энгельс Ф. К истории первоначального христианства, — Маркс К и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 22.
Юго-Восточная Азия в мировой истории, 1977.— Юго-Восточная Азия в мировой истории. М, 1977.
Abibhadana, 1969 — Abibhadana A. The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period 1782—1873. Cornell data, paper n. 74. N. Y.,. 1969.
Alatas, 1975.— Alatas S. Religion and Modernization in Southeast Asia.—Modernization in Southeast Asia. Ed. by H.-D. Evers. Oxf., 1975.
Anumugama, Meyer, 1984.— Anurnugama S.. Meyer E. Remarques sur la violence dans Tideologie budodhique et la pratique sociale a Sri Lanka.— Etudes rurales. Janvier—juin 1984, № 95—96.
Anderson, 1972.— Anderson B. R. O’G. The Idea of Power in Javanese Culture-Culture and Politics in Indonesia. L., 1972.
Ariyaratne, 1980.— Ariyaratne A. T. The Role of Buddhist Monks in Development.— World Development. 1980, vol. 8, № 7—8.
Aronson, 1980a.— Aronson H. B. Love and Sympathy in Theravada Buddhism. Delhi, 1980.
Aronson, 1980b.— Aronson H. B. Motivation to Social Action in Theravada Buddhism: Uses and Misuses of Traditional Doctrine.— Studies in the History of Buddhism. Ed. by A. K. Narain. Delhi, 1980.
Aung Thwin, 1985.— Aung Thwin M. The British «Pacification» of Burma: Order Without Meaning.— Journal of Southeast Asian Studies. 1985, vol. 16, № 2.
Aung Thwin, 1989 —Aung Thwin M. 1948 and Burma’s Mith of Independence.— Independent Burma at Forty Years: Six Assessments. Ed. by J. Silverstein. Cornell—Ithaca—New York, 1989.
Aung Tun Thet, 1989 — Aung Tun Thet. Burmese Entrepreneurship. Creative Response in the Colonial Economy. Stuttgart, 1989.
Bandaranaike, 1963 — Bandaranaike S. W. R. D. Speeches and Writings. Colombo, 1963.
Bechert, 1966.— Bechert H. Buddhismus, Staat und Gesellschaft in den Landern des Theravada Buddhismus. B., 1966. Bd. I—UI.
Bechert, 1973.— Bechert H. Contradictions in Sinhalese Buddhism.—Tradition and Change in Theravada Buddhism. Ed. by B. L. Smith. Leiden, 1973.
Bechert, 1978a.— Bechert H. S. W. R. D. Bandaranaike and the Legitimation of Power Through Buddhist Ideals.— Religion and Legitimation of Power in Sri Lanka. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Bechert, 1978b.— Bechert H. The Beginning of Buddhist Historiography: Mahavarnsa and Political Thinking.— Religion and Legitimation of Power in Sri Lanka. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Bechert, 1978c.— Bechert H. Contradictions in Sinhalese Buddhism.— Religion and Legitimation of Power in Sri Lanka. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Веска, 1986.— Becka J. Dou Bama Asij Ayoun: A Study of the Evolution of Burmese Nationalism (1930—1940).—Archiv Orientalni. Prague, 1986, № 4.
Beckford, 1986.— Beckford J. Introduction.— New Religious Movements and Rapid Social Change. Ed. by J. Beckford. London a. o., 1986.
Bekker, 1989.— Bekker S. Changes and Continuities in Burmese Buddhism.— Independent Burma at Forty Years: Six Assessments. Ed. by J. Silverstein. Cornell—Ithaca—New York, 1989. Bellah, 1965.— Bellah R. Epilogue: Religion and Progress in Modern Asia.— Religion and Progress in Modern Asia. Ed. by R. Bellah. N. Y., 1965.
Benedict, 1946.— Benedict R. The Chrysanthemum and the Sword. Patterns of Japanese Culture. Boston, 1946.
Berger, 1969.— Berger P. The Sacred Canopy: Elements of the Sociological Theory of Religion. N. Y., 1969.
Bizot, 1976.— Bizot F. Le figurier a cinq branches. Recherches sur le Bouddhism Khmer. P., 1976.
Bond, 1983.— Bond G. Self and No-Self in Theravada Buddhism. Review — History of Religions. Chicago, 1983, vol. 23, № 2.
Bond, 1988.— Bond G. The Buddhist Revival in Sri Lanka: Religious Tradition, Reinterpretation and Responce. Columbia, 1988.
Buddhadasa, 1965.— Buddhadasa Bhikkhu. The World Saviour. Bangkok, 1965.
Buddhadasa, 1969.— Buddhadasa Bhikkhu. No Religion. Bangkok, 1969. Buddhadasa, 1987.— Buddhadasa Bhikkhu. Bouddhisme et socialisme. P., 1987.
Bunnag, 1973.— Bunnag J. Buddhist Monk, Buddhist Layman: A Study of LJrban Monastic Organization in Central Thailand. Cambridge, 1973.
Burkhalter, 1985.— Burkhalter Sh. L. Competition in Continuity: Cosmogony and Ethics in Islam.— Levin R., Reynolds F. (eds.). Comogony and Ethical Order: New Studies in Comparative Ethics. Chicago—London, 1985.
The Burman.— The Burman. Rangoon.
Buss, 1982.— Buss. A. Buddhism and Rational Economic Activity.— International Asienforum. Munchen, 1982, vol. 13, № 3/4.
Buss, 1984.— Buss A. Max Weber’s Heritage and Modern Southeast Asian ft Thinking on Development.— Southeast Asian Journal of Social Sciences. Tv Singapore, 1984, vol. 12, № 1.
Butr-Indr, 1979.— Butr-lndr S. The Social Philosophy of Buddhism. Bangkok, 1979.
Butt, 1978.— Butt J. W. Thai Kingship and Religious Reforms (XVUI— XIX c.).— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Cady, 1960.— Cady J. F. A History of Modern Burma. N. Y., 1960.
Cady, 1979.— Cady J. The History of Post War Southeast Asia. Athens, 1979.
Carrithers, 1983.— Carrithers M. The Forest Monks of Sri Lanka: An Anthropological and Historical Study. Delhi a. o., 1983.
Cassirer, 1979.— Cassirer E. Symbol, Mith and Culture. New Haven—London, 1979.
Chamarik, 1979.— Chamarik S. Buddhism and Human Rights. Bangkok, 1979.
Childers, 1974 — Childers R. S. A Dictionary of the Pali Language. Reprint of 1909. L., 1974.
Chou Meng Tarr, 1985.— Chou Meng Tarr. Peasant Women on North-Eastern Thailand: A Study of Class and Gender Divisions Among the Ethnic I Khmer Loen. Ph. D. Thesis, 1985.
Clammer, 1984.— Clammer J. Secularization and Religious Change in Contemporary Asia.— Southeast Asian Journal of Social Sciences. Singapore, 1984, vol. 12, № 1.
Clifford, 1978.— Clifford R. T. The Dhammadipa Tradition of Sri Lanka: Three Models Within the Sinhaleses Chronicles.— Religion and Legitimation of Power in Sri Lanka. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg.
Coedes, 1963.— Coedes G. Angkor. An Introduction. L.— Oxf., 1963.
Cohen, 1987.— Cohen E. Thailand, Burma and Laos. An Outline of Comparative Social Dynamics of Three Theravada Buddhist Societies in the Modern Era.— Patterns of Modernity. Ed. by S. N. Eisenstadt. N. Y., I 1987, vol. II.
Collard, 1925.— Collard P. Cambodge et Cambodgiens. Metamorphose du royaume Khmer par une methode Francaise du Protectorat. P., 1925.
Collins, 1982.— Collins S. Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism. Cambridge, 1982.
Condominas, 1973.— Condominas G. Notes sur le Bouddhisme Populaire en milieu rural Lao.— Bulletin des amis du royame Lao. Numero special. Vientiane, 1973, № 9.
Condrington, 1891.— Condrington R. H. The Melanesians: Studies in their Anthropology and Folklore. Oxf., 1891.
Creevey, 1980.— Creevey L. Religious Attitudes and Development in Dakar,. Senegal.— World Development. 1980, vol. 8, № 7/8.
Darling, 1979.— Darling F. C. The Westernization of Asia. A Comparative Political Analysis. Cambridge (Mass.), 1979.
Darrow, 1987.— Darrow W. R. Marxism and Religion: The Case of Islam.— Movements and Issues in World Religions. A Sourcebook and Analysis of Developments Since 1945. Eds. by Ch. Wei-hsun Fu, G. E. Spiegler. N. Y. a. o., 1987.
Dharmapala, 1965.— Anagirika Dharmapala. Return to Righteousness. Ed. by Guruge. Colombo, 1965.
Dumont, Pocock, 1957—1960.— Dumont L., Pocock D. (eds.) Contribution to Indian Sociology. 1957—1960, № I—IV.
Durkheim, 1960.— Durkheim E. Les formes elementaires de la vie religieuse. P., 1960.
Ebihara, 1966.— Ebihara M. Interrelations Between Buddhism and Social Systems in Cambodian Peasant Culture.— Anthropological Studies in. Theravada Buddhism. Ed. by M. Nash. New Haven, 1966.
Eisenstadt, 1968.— Eisenstadt S. N. (ed.) The Protestant Ethic and Modernization. A Comparative View. N. Y., 1968.
Eisenstadt, 1973a.— Eisenstadt S. N. Post-Traditional Societies and the Continuity and Reconstruction of Tradition.— Daedalus, 1973, vol. 102, № 1.
Eisenstadt, 1973b.— Eisenstadt S. N. Tradition, Change and Modernity. N. Y., 1973.
Embree, 1950.— Embree I. F. Thailand: a Loosely Structured Social System.— American Anthropologist. 1950, vol. 52, № 2.
Esposito, 1987.— Esposito I. L. Tradition and Modernization in Islam.— Movements and Issues in World Religions. A Soursebook and Analysis of Developments Since 1945. Ed. by Ch. Wei-hsun Fu, G. E. Spiegler. N. Y., 1987.
Evers, 1972.— Evers Ft.-D. Monks, Priests and Peasants. A Study of Buddhism and Social Structure in Central Ceylon. Leiden, 1972.
Evers, 1975.— Evers H.-D. Group Conflict and Class Formation in Southeast Asia.— Evers H.-D. (ed.). Modernization in Southeast Asia. Oxf., 1975.
Evers, 1987.— Evers H.-D. Trade and State Formation: Siam in the Early
Bangkok Period.— Modern Asian Studies. 1987, vol. 21, № 4.
Fergusson, 1978.— Fergusson 1. P. The Quest for Legitimation from Burmese Monks and Kings. The Case of Shwedgyin Sect (19th—20th Cent.).— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Farnando, 1973.— Fernando T. The Western-Educated Elite and Buddhism in British Ceylon.—Tradition and Change in Theravada Buddhism. Ed. by B. L. Smith. Leiden, 1973.
Furnivall, 1931.— Furnivall J. S. An Introduction to the Political Economy of Burma. Rangoon, 1931.
Furnivall, 1956.— Furnivall J. S. Colonial Policy and Practice. N. Y., 1956.
Gabaude, 1987.— Gabaude L. Bouddhisme en Thailande.— La presence du Bouddhisme. P., 1987.
Gabaude, 1988.— Gabaude L. Une hermeneutique bouddhique contemporaine de Thailande: Buddhadasa Bhikkhu. Ecole Francaise d’Extreme-Orient. P., 1988.
Gay, 1989.— Gay B. La perception des movements millenaristes du Sud et Centre Laos (fin du XIXe — milieu du XXe) depuis la decolonisation.— Новое обретение культурного наследия в контексте деколонизации в Юго-Восточной Азии. Материалы первого советско-французского симпозиума по Юго-Восточной Азии. М., 1989.
Cieertz, 1966.— Geertz С. Religion as a Cultural System.— Anthropological Approaches to the Study of Religion. Ed. by M. Banton. L., 1966.
Geertz, 1971.— Geertz C. Islam Observed: Religious Development in Marocco and Indonesia. Chicago, 1971.
Geertz, 1973.— Geertz C. The Interpretation of Cultures. N. Y., 1973.
Geertz, 1980.— Geertz C. Negara: the Theater State in Nineteenth Century Bali. Princeton, 1980.
Geffre, 1979.— Geffre C. (ed). Buddhism and Christianity. N. Y., 1979.
Gethin, 1986.— Gethin R. The Five Khandhas: Their Treatment in the Nikayas and Early Abhidharma.— Journal of Indian Religions. 1986, vol. 14.
Glasenapp, 1966.— Glasenapp H. Der Buddhismus — eine atheistische Religion. Munich, 1966.
The Glass Palace Chronicle, 1923.— The Glass Palace Chronicle of the Kings, of Burma. Tr. by Pe Maung Tin and G. H. Luce. L., 1923.
Gokhale, 1973.— Gokhale B. G. Anagirika Dharmapala: Toward Modernity Through Tradition in Ceylon. Tradition and Change in Theravada Buddhism. Ed. by B. L. Smith. Leiden, 1973.
Gokhale, 1980.— Gokhale B. G. Bhakti in Early Buddhism.— Journal of Asian and African Studies. Leiden, 1980, vol. XV, № 1—2.
Gombrich, 1971a.— Gombrich R. Merit Transference in Sinhalese Buddhisme: A Case Study of the Interaction Between Doctrine and Practice History of Religions. 1971, vol. 11.
Gombrich, 1971b.— Gombrich R. Precept and Practice. Traditional Buddhism in the Rural Highlands of Ceylon. Oxf., 1971.
Gombrich, 1975.— Gombrich R. Buddhist Karma and Social Control.— Comparative Studies in Society and History. 1975, vol. XUI, № 2.
Gombrich, 1983.— Gombrich R. From Monastery to Meditation Center: Lay Meditation in Modern Sri Lanka.— Buddhist Studies: Ancient and Modern. Eds. by Ph. Denwood, A. Piatigorsky. L., 1983.
Gombrich, Obeyesekere, 1988.— Gombrich R., Obeyesekere G. Buddhism Transformed. Religious Change in Sri Lanka. Princeton, 1988.
Gothoni, 1980.— Gothoni R. Religious Symbols as Tokens of Schifts in the Religiouns-Social Setting in Sinhalese Buddhism.— Temenos, 1980, vol. 6.
Gothoni, 1982.— Gothoni R. Modes of Life of Theravada Monks in Sri Lanka. ITelsinky, 1982.
Gothoni, 1986.— Gothoni R. Caste and Kingship within Sinhalese Buddhist Monasticism.— South Asian Religion and Society. Eds. by A. Parpola B. S. Hanser. L., 1986.
Goulet, 1980.— Goulet D. Development Experts: The One-Eyed Giants.— World Development. 1980, vol. 8, № 7/8,
Gravers, 1986.— Gravers M. On the Systematic Character of the Thai State: the Properties of Pre-capitalist Class Relations and the Effects of Capitalist Penetration.— Rice Societies: Asian Problems and Prospects. Ed. by I. Norlund. L., 1986.
Gray, 1886.— Gray J. (ed.) Ancient Proverbs and Maxims from the Burmese Sources, or the Niti Literature of Burma. L., 1886.
Gullic, 1958.— Gullic J. M. Indigenous Political Systems of Western Malaya. L., 1958.
Gupta, 1978.— Gupta Sh. N. The Indian Concept of Values. Delhi, 1978.
Halverson, 1978.— Halverson J. Religion and Psychological Development in Sinhalese Buddhism.— Journal of Asian Studies. 1978, vol. 36. № 2.
Hanks, 1949.— Hanks L. The Quest for Individual Autonomy in Burmese Personality.— Psychiatry. 1949, vol. 12.
Hanks, 1962.— Hanks L. Merit and Power in the Thai Social Order.— American Anthropologist. 1962, vol. 64.
Hargrove, 1979.— Hargrove В. The Sociology of Religion. Classical and Contemporary Approach. Illinois, 1979.
Harrison, 1987.— Harrison P. Buddhism: A Religion of Revelation After All? (Review Article).—Numen. Amsterdam, 1987, vol. 34.
Heine-Geldern, 1956 — Heine-Geldern R. Conceptions of State and Kingship in Southeast Asia. Ithaca — New York, 1956.
Henderson, 1984 — Henderson J. B. The Development and Decline of Chinese Cosmology. N. Y., 1984.
Herbert, 1981 —Herbert L. J. Burma: Maintaining Traditional Values. Ann Arbor, 1981.
Hooker, 1978.— Hooker M. B. A Concise Legal History of Southeast Asia. Oxf., 1978.
Humphreys, 1983.— Humphreys C. Buddhism. L.—N. Y., 1983.
Hung, 1970 — Hung T. T. Buddhism and Politics in Southeast Asia. Ann Arbor, 1970.
Huxley, 1987.— Huxley T. Cambodia in 1986: The PRK’s Eighth Year Southeast Asian Affaires, Annual Publication. Singapore, 1987.
Indradeva, 1987.— Indradeva S. La doctrine du Karma dans une perspective sociologique.— Diogene. P., 1987, № 140.
Indrapala, 1971.— Indrapala K (ed.). The Collapse of the Rajarata Civilization. Peradenis, 1971.
Ingersoll, 1966.— Ingersoll 1. The Priest Role in Central Village Thailand.— Anthropological Studies in Theravada Buddhism. Ed. by M. Nash. New Haven, 1966.
Ingersoll, 1975.— Ingersoll J. Merit and Identity in Village Thailand.— Change and Persistence in Thai Society. Eds. by G. W. Scinner, A. Th.Kirsch. L., 1975.
International Encyclopaedia.— International Encyclopaedia of Social Sciences. Ed. by D. Shils.
Ishu, 1986.— Ishu Y. Sangha, State and Society: Thai Buddhism in History. Honolulu, 1986.
Ismail, 1987.— Ismail M. Y. Buddhism and Ethnicity: The Case of the Siamese of Kelantan.— Sojourn. Singapore, 1987, vol. 2, № 2.
Jackson, 1987.— Jackson P. The Political Functions of Buddhist Methaphysics in Thailand. Draft, 1987.
Jackson, 1989.— Jackson P. Buddhism, Legitimation and Conflict. The Political Functions of Urban Thai Buddhism. Singapore, 1989.
Kulupahana, 1987.— Kulupahana D. J. The Principle of Buddhist Psychology. Albany, 1987.
Kantowsky, 1980 — Kantowsky D. Sarvodaya: The Other Development. New Delhi, 1980.
Kantowsky, 1986.— Kantowsky D. (ed.) Recent Research on Max Weber Studies of Hinduism. Munchen, 1986.
Katz, 1987 — Katz N. Buddhism and Politics in Sri Lanka and Other Theravada Nations Since 1945.— Movements and Issues in World Religions. A Sourcebook and Analysis of Development Since 1945. Eds. by Ch. Wei-hsun Fu, G. E. Spiegler. N. Y. a. o., 1987.
Katz, Sowle, 1987.— Katz N., Sowle S. D. Theravada Buddhism and Marxism in the Postwar Era.— Movements and Issues in World Religions. A Sourcebook and Analysis of Development Since 1945. Eds., by Ch. Wei hsun Fu, G. E. Spiegler. N. Y. a. o., 1987.
Kemper, 1978.— Kemper S. E. G. Buddhism Without Bhikkhus: The Sri Lanka Vinaya Vardena Society.— Religion and Legitimation of Power in Sri Lanka. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Keyes, 1975.— Keyes CH. F. Buddhism in a Secular City. A View from Chiang Mai.— Visakha Puja. Bangkok, 1975.
Keyes, 1977 — Keyes Ch. F. Millenarism, Buddhism and Thai Society.— Journal of Asian Studies. 1977, vol. 36, № 2.
Keyes, 1978.— Keyes Ch. F. Political Crisis and Militant Buddhism in Contemporary Thailand.— Religion and Legitimation of Power in Thailand,. Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Keyes, 1983a.— Keyes Ch. F. Merit-Transference in Kammic Theory of Popular Theravada Buddhism.— Karma. An Anthropological Inquiery. Eds. by Ch. F. Keyes, E. V. Daniel. Berkeley —Los Angeles — London, 1983.
Keyes, 1983b.— Keyes Ch. F. The Study of Popular Ideas of Karma. Introduction.— Karma. An Anthropological Inquiery. Eds. by Ch. F. Keyes, E. V. Daniel. Berkeley — Los Angeles—London, 1983.
King, 1986.— King W. L. Eschatology: Christian and Buddhist.— Religion. 1986, vol. 16.
Kirsch, 1975.— Kirsch A. Th. Economy, Polity and Religion in Thailand.— Change and Persistence in Thai Society. Ed. by Q. W. Skinner, A. Th. Kirsch. L., 1975.
Kirsch, 1977.— Kirsch A. Th. Complexity in Thai Religious System.—Journal of Asian Studies. 1977, vol. 36, № 2.
Kirsch, 1978.— Kirsch A. Th. Modernizing Implications of XlX-th Century Reforms in the Thai Sangha.— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Knox, 1958.— Knox R. An Historical Relation of Ceylon, Maharagama, 1958.
Kulke, 1978.— Kulke H. The Devaraja. Ithaca — New York, 1978.
Kundstandter, 1980.— Kundstandter P. Animism, Buddhism and Christianity: Religion in the Life of Lua’ People of Pa Pae, Northwestern Thailand.— Visakha Puja. Bangkok, 1980.
Lafont, 1987.— La/ont P.-В Le Bouddhisme au Laos.— La Presence du Bouddhisme. P., 1987.
Leach, 1961.— Leach E. R. Pul Eliva. A Village in Ceylon. L.—N. Y., 1961.
Leach, 1973.— Leach E. R. Buddhism in the Post-Colonial Order in Burma and Ceylon.— Daedalus. 1973, vol. 102, № 1.
Lee, 1978.— Lee O. Legal and Moral Systems in Asian Customary Law. San Fransisco, 1978.
Lehman, 1987a.— Lehman F. К Burmese Religion.— The Encyclopaedia of Religion. Ed. by M. Eliade et. N. Y., 1987, vol. 2.
Lehman, 1987b.— Lehman F. K Monasteries, Palaces and Ambiguities: Burmese Sacred and Secular Space.— Contributions to Indian Sociology, New Delhi, 1987, vol. 21, Ns 1.
Lester, 1973.— Lester R. C. Theravada Buddhism in Southeast Asia Ann Arbor, 1973.
Lieberman, 1984.— Lieberman V. B. Burmese Administrative Cycles. Princeton, 1984.
Light of the Dhamma.—The Light of the Dhamma (журн.). Rangoon.
Ling, 1962 — Ling T. O. Buddhism and the Mithology of the Evil. L., 1962.
Ling, 1972.— Ling T. 0. A Dictionary of Buddhism. N. Y., 1972.
Ling, 1979a.— Ling T. O. Buddhism, Imperialism and War. Burma and Thailand in Modern History. London a. o., 1979.
Ling, 1979b.— Ling T. O. Buddhist Values and Buddhist Economy.— Buddhist. Studies in Honour of I. B. Horner. Eds. by L. Cousins, A. Kunst, K. Normans. Boston, 1979.
Ling, 1980.— Ling T. 0. Buddhist Values and Development Problems: A Case Study of Sri Lanka.—World Development. 1980, vol. 8, № 7/8.
Ling, 1983.— Ling T. O. Kingship and Nationalism in Pali Buddhism.— Buddhist Studies: Ancient and Modern. Ed. by P. Denwood A Piatigorsky. L., 1983.
Ling, 1986.— Ling T. O. A Buddhist Concept to Build the National Economy.— Buddhism and Khmer Society. 1986, № 2—3.
Lissak, 1976.— Lissak M. Military Roles in Modernization: Civil Military Relations in Thailand and Burma. Beverly Hills, 1976.
Lubeigt, 1974.— Lubeigt G. Les villages de la vallee de l’lrrawaddy (Birmanie Centrale).—Etudes rurales. 1974, № 53—56.
Lubeigt 1987 — Lubeigt G. Pelerins et donateurs dans un monastere bouddhique de Birmanie.— Cahier d’Outre-Mer. Bordeaux, 1987, vol. 40, № 157.
Mabbett, 1985.— Mabbett I. W. (ed.) Patterns of Kingship and Authority in Traditional Asia. L., 1985.
Macy, 1983.— Macy J. Dharma and Development. Religion as Resource in the Sarvodaya Self-Help Movement. West Hartford, 1983.
Malalasekera, 1958. Malalasekera G. P. The Pali Literature of Ceylon. Colombo, 1958.
Malalasekera, 1967.— Malalasekera G. P. «Transference of Merit» in Ceylonese Buddhism.— Philosophy East and West. Honolulu. 1967, vol. 17.
Mariott, 1955.— Mariott M. Little Communities in an Indigenous Civilization— Village India, Studies in the Little Community. Ed. by M. Mariott. Chicago, 1955.
Masefield, 1986.— Masefield P. Devine Revelation in Pali Buddhism. Colombo — London, 1986.
Matthews, 1988.— Matthews B. Sinhala Cultural and Buddhist Patriotic Organizations in Contemporary Sri Lanka.— Pacific Affaires. Vancouver, 1988, vol. 61, № 4.
Maung Maung, 1980.— Maung Maung U. From Sangha to Laity. Nationalist Movements of Burma 1920—1940. Manohar, 1980.
Maung Nu, 1983.— Maung Nu U. Buddhism: Theory and Practice. Bangkok, 1983.
McDermott, 1984.— McDermott J. P. Development in the Early Buddhist Concept of Kamma/Karma. New Delhi, 1984.
McFarquhar, 1980.— McFarquhar R. The Post-Confucian Challenge.—Economist. February 1980.
Mead, 1937.— Mead M. (ed.) Cooperation and Competition Among Primitive Peoples. N. Y., 1937.
Mead, 1971 —Mead M. La Birmanie traditionnlle et rurale.—Approaches de la science du development socio-economique. P., 197 L
Mehden, 1980.— Mehden F. von der. Religion and Development in Southeast Asia: A Comparative Study.—World Development. 1980, vol. 8, № 7/8. o
Mehden, 1986.— Mehden F. von der. Religion and Modernization in Southeast Asia. N. Y., 1986.
Mendelson, 1961 — Mendelson M. A Messianic Buddhist Association in Upper Burma.— Bulletin of the Scholl of Oriental and African Studies. L., 1961, vol. 48.
Mendelson, 1975 — Mendelson. M. Sangha and State in Burma. Ithaca — London, 1975.
Meyer, 1977.— Meyer E. Ceylon — Sri Lanka. P., 1977.
Milner, 1985.— Milner A. C. Malay Kingship in a Burmese Perspective.— Patterns of Kingship and Authority in Traditional Asia. Ed. by I W. Mabbett. London — Sydney, 1985.
Mitchell, 1977.— Mitchell G. D. The Dictionary or Sociology. L., 1977.
Mizuno, 1973.— Mizuno K. Thai Pattern of Social Organization Note on a Comparative Study.—Journal of Southeast Asian Studies. Singapore, 1973, vol. 4, № 1.
Moerman, 1966.— Moerman M. Ban Ping’s Temple. The Center of a «Loosely Structured Society».—Anthropological Studies in Theravada Buddhism. Ed. by M. Nash, New Haven, 1966.
Mole, 1973.— Mole R. Thai Values and Behaviour Patterns. Tokyo, 1973.
Moore, 1983.— Moore P. Buddhism, Christianity and the Study of Religion.— Buddhist Studies: Ancient and Modern. Ed. by Ph. Denwood, A. Piatigorsky. L. 1983.
Morell, Chaianan, 1981.— Morell D., Chaianan S. Political Conflict in Thailand: Reforms, Reaction, Revolution, Cambridge, 1981.
Morgan, 1973.— Morgan F. B. Vocation of Monk and Layman: Signs of Change in Thai Buddhist Ethics.— Tradition and Change in Theravada Buddhism. Ed. by B. L. Smith. Leiden, 1973.
Morishima, 1984.— Morishima M. Why has Japan «Succeeded». (Western Technology and the Japanese Ethos). Cambridge a. o., 1984.
Mosel, 1965.— Mosel J. Some Notes on Self, Role and Role Behaviour of Thai Administrators.— Asian Studies. Ithaca — New York, 1965, № 502 (Thailand Seminar).
Mulder, 1969.— Mulder J. A. N. Monks, Merit and Motivation. An Exploratory Study of the Social Functions of Buddhism in Thailand in Process of Guided Social Change. Dekalb (Illinois), 1969.
Mulder, 1983.— Mulder J. A. N. Individual and Society in Contemporary Thailand and Java: An Anthropological Comparison of Modern Serious Fiction.— Journal of Southeast .Asian Studies. Singapore, 1983, vol 14 № 2.
Mus, 1935.— Mus P. Barabudur. Esquise d’une histoire du Bouddhisme fondee sur la critique archeologique des textes. Vol. 1—2. Hanoi, 1935.
Mus, 1956—1959.— Mus P. Analyse d’une societe.— Annuaire du College de France. 1956—1959, vol. 56—59.
Mus, 1987.—Mus P. Buddhisme et monde occidental: pour une nouvelle methode — Presence du Bouddhisme. Ed. par R. de Berval. P., 1987.
Muzaffar, 1986a — Muzaffar C. Islamic Resurgence: A Global View —Islam and Society in Southeast Asia. Eds. by T. Abdullah, Sh. Siddique. Singapore, 1986.
Muzaffar, 1986b.— Muzaffar C. Malaysia: Islamic Resurgence and the Question of Development.—Sojourn. Singapore, 1986, vol. 1, № 1.
Mya Than, 1987.— Mya Than. Little Change in Rural Burma: Case Study of a Burmese Village (1960—80).—Sojourn. Singapore, 1987, vol. 2,
Nash, 1965.— Nash M. The Golden Road to Modernity. Village Life in Contemporary Burma. N. Y.—L., 1965.
Nash, 1966.— Nash M. Ritual and Ceremonial Cycle in Upper Burma.—Anthropological Studies in Theravada Buddhism. Ed. by M. Nash. New Haven, 1966.
Nash, 1984.— Nash M. Unfinished Agenda: The Dynamics of Modernization in Developing Nations. Boulder—London, 1984.
Ng Shui Meng, 1987.— Ng Shui Meng. Laos in 1986. Into the Second Decade of National Reconstruction.— Southeast Saian Affaires. Annual. Singapore, 1987.
Ni Ni Myint, 1983.— Ni Ni Mylnt. Burma’s Struggle Against British Imperialism 1885—1895. Rangoon, 1983.
Nyanatiloka, 1950.— Nyanatiloka. Buddhist Dictionary. Manual of Buddhist Terms and Doctrines. Colombo, 1950.
Obeyesekere, 1966.— Obeyesekere G. The Buddhist Pantheon in Ceylon and Its Extentions —Anthropological Studies in Theravada Buddhism. Ed. by M. Nash. New Haven, 1966.
Obeyesekere, 1970 — Obeyesekere G. Religious Symbolism and Political Change in Ceylon.—Modern Ceylon Studies. 1970, vol. 1, № 1.
Obeyesekere, 1977.— Obeyesekere G. Social Change and the Deities: Rise of the Kataragama Cult in Modern Sri Lanka.—Man. 1977, vol. 12, № 3/4
Obeyesekere, 1979a — Obeyesekere G. Religion and Polity in Theravada Buddhism. Continuity and Change in a Great Tradition.— Comparative Studies in Society and History. 1979, vol. 21, № 4.
Obeyesekere, 1979b.— Obeyesekere G. The Vicissitudes of the Sinhala-Buddhist Identity Through Time and Change.—Collective Identities, Nationalisms and Protest in Modern Sri Lanka. Colombo, 1979.
Obeyesekere, 1986.— Obeyesekere G. The Cult of Hflniyan: A New Religious Movement in Sri Lanka —New Religious Movements and Rapid Social Change. Ed. by J. Beckford. L. a. o., 1986.
O’Connor, 1978.— O’Connor R. Urbanism and Religion: Community, Hierarchy and Sanctity in Urban Thai Buddhist Temples. Ph. D. Thesis. Cornell University, 1978.
Pardue, 1971Pardue P. A. Buddhism. A Historical Introduction oi Buddhist Values and the Social and Political Forms They Have Assumed in Asia. N. Y., 1971.
Perret, 1987.— Perret R. W. Egoism, Altruism and Intentionalism in Buddhist Ethics.— Journal of Indian Philosophy. 1987, vol. 15.
Perry 1974 — Perry E. Forward to English Edition.— Rahula VZ. Heritage of the Bhikkhu. N. Y., 1974.
Pfanner, 1966 — Planner D. E. The Buddhist Monk in Rural Burmese Society.— Anthropological Studies in Theravada Buddhism. Ed. by M. Nash. New Haven, 1966.
Pfanner, Ingersoll, 1962 — Pfanner D. E., Ingersoll J. Theravada Buddhism, and Village Economic Behaviour. A Burmese and Thai Comparison Journal of Asian Studies. 1962, vol. 21, № 3.
Phillips, 1965.— Phillips H. Thai Peasant Personality. The Patterning of Impersonal Behaviour in the Village of Bang Chang. Berkeley — Los Angeles, 1965.
Piker, 1968.— Piker S. The Relationship of Belief Systems to Behavior in Rural Thai Society —Asian Survey. 1968, vol. 13.
Piker, 1973.— Piker S. Buddhism and Modernization in Contemporary Thailand.—Tradition and Change in Theravada Buddhism. Ed. by B. L. Smith. Leiden, 1973.
Potter, 1976 — Potter J. Thai Peasant Social Structure. Chicago, 1976.
Prabal Sen, 1986 — Prabal Sen. [Rec. on:] Collins S. Selfless Persons: Imagery and Thought in Theravada Buddhism.—Journal of Indian Philosophy. N. Y., 1986.
Pye, 1962.— Pye L. Politics, Personality and Nation Building (Burma’s Search for Identity). New Haven — London, 1962.
Rabibhadana, 1969.— Rabibhadana A. The Organization of Thai Society in the Early Bangkok Period. 1782—1873. Ithaca—New York. 1969.
Ragab, 1980.— Ragab I. A. Islam and Development.—World Development. 1980, vol. 8, № 7/8.
Rajapaksa, 1986.— Rajapaksa R. Buddhism as Religion and Philosophy Religion. 1986, vol. 16.
Rajavaramuni, 1987.— Rajavaramuni Phra. Thai Buddhism in the Buddhism World, Bangkok, 1987.
Redfield, 1962 — Redfield R. Human Nature and the Study Society. Chicago, 1962.
Reid, 1988.— Reid A. Female Roles in Pre-Colonial Southeast Asia —Modern Asian Studies. 1988, vol. 22, № 3.
Reynolds C., 1976 — Reynolds C. J. Buddhism Cosmography in Thai History with Special Reference to XlX-th Century Culture Change.—Journal of Asian Studies. 1976, vol. 35, № 2.
Reynolds F., 1977 — Reynolds F. E. Civic Religion and National Community in Thailand.— Journal of Asian Studies. 1977, vol. 36, № 2.
Reynolds F., 1978a — Reynolds F. E. Buddhism as Universal Religion and as Civic Religion: Some Observation on a Recent Tour of Buddhist Centers in Central Thailand.—Religion and Legitimation of Power in Thailand. Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Reynolds F., 1978b.— Reynolds F. E. The Holy Emerald Jewel: Some Aspects of Buddhist Symbolism and Political Legitimation in Thailand and Laos.— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Reynolds F., 1978c — Reynolds F. E. Legitimation and Rebellion Thailand’s Civic Religion and the Student Uprising of October 1973.— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Reynolds F., 1978d.— Reynolds F. E. Ritual and Social Hierarchy. An Aspect of Traditional Religion in Buddhist Laos.— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Reynolds F., 1978e.— Reynolds F. E. Sacral Kingship and Nation Development: the Case of Thailand.— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Reynolds F., 1985.— Reynolds F. E. Multiple Cosmogonies and Ethics: The Case of Theravada Buddhism.— Cosmogony and Ethical Order: New Studies in Comparative Ethic. Eds. by R. W. Lovin, F. E. Reynolds. Chicago—London, 1985.
Riggs, 1966.— Riggs F. W. Thailand. The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu, 1966.
Rodgers, 1984.— Rodgers J. D. Crime and Society in the Sinhala Speaking Areas of Sri Lanka. 1865—1905. Ph. D. Thesis. L., 1984.
Ryan, 1953.— Ryan B. Caste in Modern Ceylon. New Brunswick—New York 1953.
Samaraweera, 1977.— Samaraweera V. The Evolution of a Plural Society — Sri Lanka. A Survey. Ed. by К. M. de Silva. Honolulu, 1977.
Sarkisyanz, 1965.— Sarkisyanz E. Buddhist Background of the Burmese Revolution. The Hague, 1965.
Sarkisyanz, 1970.— Sarkisyanz E. Social Ethics in Theravada Buddhism in Relation to Socio-Economic Development. Problem in Southeast Asia.— Seminar on Southeast Asia in the Modern World. Institut fur Asienkun de. Hamburg, 1970, Papers, vol. 3.
Sarkisyanz, 1978.— Sarkisyanz E. Buddhist Background of the Burmese Socialism.— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Sastrapratedja, 1984.— Sastrapratedja M. The Crisis of Religious System of Legitimation.— Southeast Asian Journal of Social Sciences. Singapore. 1984, vol. 12, № 1.
Scott, 1882—Scott ]. S. The Burman, His Life and Notions. L., 1882.
Schumaher, 1978.— Schumaher E. F. Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered. New Delhi, 1978.
Sein Tu, 1964.— Sein Tu U. The Psychodynamics of Burmese Personality Journal of Burma Research Society. 1964.
Shils, 1975.— Shils E. Center and Periphery. Essays in Macrosociology. Chicago—London, 1975.
Shwegugyi Inscription, I960.—The Shwegugyi Pagoda Inscription. Tr. by G. H. Luce and Pe Maung Tin. Burma Research Society’s 15th Anniversary Publications. Rangoon, 1960. № 2.
Sihanouk, 1969.— Sihanouk N. Notre Socialisme Bouddhique. Singapore, 1969.
Silber, 1985.— Silber I. F. «Opting Out» in Theravada Buddhism and Medieval Christianity. A Comparative Study of Monasticism as Alternative Structure.— Religion. 1985, vol. 15.
Silva C., 1979.— Silva C. R. de. The Impact of Nationalism on Education: The Schools Take-Over (1961) and the University Admissions Crisis 1970—1975.—Collective Identities, Nationalisms and Protest in Modern Sri Lanka. Colombo, 1979.
Silva K., 1981.— Silva К. M. de. A History of Sri Lanka. Berkeley—Los Angeles, 1981.
Singer, 1972.— Singer M. When a Great Tradition Modernizes. N. Y., 1972.
Singh, 1985.— Singh S. D. The Early Development of Kingship in Pre-Muslim India.— Patterns of Kingship and Authority in Traditional Asia. Sri Lanka. Colombo, 1979.
Sivaraksa, 1979.— Sivaraksa S. Buddhism and Society: An Analysis.— Visakha Puja. Bangkok, 1979.
Sivaraksa, 1981.— Sivaraksa S. A Buddhist Version for Renewing Society. Bangkok, 1981.
Sivaraksa. 1986 — Sivaraksa S. Buddhism and Development.—Human Development in the Social Context. UN. N. Y., 1986.
Skrobanek, 1976 — Skrobanek W. Buddhistische Politik in Thailand, mit Besonderer Berucksichtigung des Heterodoxen Messianismus. Wiesbaden, 1976.
Smith B., 1973.— Smith B. L. Introduction —Tradition and Change in, Theravada Buddhism. Ed. by B. L. Smith. Leiden, 1973.
Smith B., 1978a.— Smith B. L. The Ideal Social Order as Portrayed in the Chronicles of Ceylon.— Religion and Legitimation of Power in Sri Lanka. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Smith B., 1978b.— Smith B. L. Kingship, the Sangha and the Process of Legitimation in Anuradhapura Ceylon: An Interprative Essay.— Religion and Legitimaton of Power in Sri Lanka. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Smith D., 1965.— Smith D. Religion and Politics in Burma. Princeton, 1965.
Somjee, 1979 — Somjee A. H. The Democratic Process in Developing Society. L 1979.
Southall, 1953.— Southall A. W. Alur Society. A Study in Process and Types of Domination, Cambridge, 1953.
Southwold, 1983.— Southwold M. Buddhism in Life. The Anthropological Study of Religion and the Sinhalese Practice of Buddhism. Manchester. 1983.
Spiro, 1964.— Spiro M. Buddhism and Economic Action in Burma.— American Anthropologist. 1964, vol. 68, № 6.
Spiro, 1970.— Spiro M. E. Buddhism and Society. A Great Tradition and its Burmese Vicissitudes. L., 1970.
Srinivas, 1952.— Srinivas M. N. Religion and Society Among the Coorgs of South India. Oxf., 1952.
Sripraphai P. and Sripraphai K., 1986.— Sripraphai P. and Sripraphai К O.H. An Eco-Psychological Approach to the Study of Thai Action Localities.— Sojourn. Singapore, 1986, vol. 1, № 1.
Steinberg, 1985.— Steinberg D. Burma in 1984: Unasked Questions, Unanswered Issues.— Southeast Asian Affairs. Annual. Singapore. 1985.
Stuart-Fox, 1981.— Stuart-Fox M. Reflections on the Lao Revolution.— Contemporary Southeast Asia. 1981, vol. 3, № 1.
Stuart-Fox, 1983.— Stuart-Fox M. Marxism and Theravada Buddhism. The Legitimation of Political Authority in Laos.—Pacific Affairs. Vancouver, 1983, vol. 56, № 3.
Stuart-Fox, Buckuell, 1982.— Stuart-Fox M., Buckuell R. Politization of the Buddhist Sangha in Laos.—Journal of Southeast Asian Studies. Singapore, 1982, vol. 13, № 1.
Suksamran, 1977.— Suksamran S. Political Buddhism in Southeast Asia: The Role of the Sangha in the Modernization of Thailand. L., 1977.
Suksamran, 1982.— Suksamran S. Buddhism and Politics in Thailand. Singapore, 1982.
Swearer, 1973.— Swearer D. K. Thai Buddhism: Two Responses to Modernity.— Tradition and Change in Theravada Buddhism. Ed. by B. L. Smith. Leiden, 1973.
Swearer, 1981.— Swearer D. К. Buddhism and Society in Southeast Asia. Chambersbourg, 1981.
Swearer, 1987.— Swearer D. К. La vision du Bhikkhu Buddhadasa —Buddhadasa. Bouddhisme et Socialisme. Paris.— Introduction. 1987.
Saillard, 1973.— Taillard C. Essai sur la bipolarisation autour du vat et de l’ecole des villages Lao de la plaine de Vientiane.— Aspect du Bouddhisme Lao. Vientiane, 1973.
Tambiah, 1970.— Tambiah S. J. Buddhism and the Spirit Cults in North East Thailand. Cambridge a. o., 1970.
Tambiah, 1973a.— Tambiah S. I. Buddhism and This-Worldly Activity.— Modern Asian Studies. 1973, vol. 7, № 1.
Tambiah, 1973b.— Tambiah S. J. The Persistence and Transformation of Tradition in Southeast Asia with Special Reference to Thailand.— Daedalus. 1973, vol. 102, № 1.
Tambiah, 1976 — Tambiah S. I. World Conqueror and World-Renouncerer. A Study of Buddhism and Polity in Thailand Against a Historical Background. Cambridge, 1976.
Tambiah, 1978.— Tambiah S. J. Sangha and Polity in Modern Thailand: An Overview.— Religion and Legitimation of Power in Thailand, Laos and Burma. Ed. by B. L. Smith. Chambersbourg, 1978.
Tambiah, 1984.— Tambiah S. J. The Buddhist Saints of the Forest and the Cult of Amulets. A Study in Charisma, Hagiography, Sectarianism and Millenial Buddhism. Cambridge. 1984.
Tambiah, 1985.— Tambiah S. J. Culture, Thought and Social Action. An Anthropological Perspective. Cambridge (Mass.).—London, 1985.
Taylor, 1987.— Taylor R. The State in Burma. L., 1987.
Teaching and Research, 19-86.— Teaching and Research in Philosophy. Vol. U. Asia and the Pacific. P., 1986.
Terwiel, 1976.— Terwiel B. J. A Model to the Study of Thai Buddhism.— Journal of Asian Studies. 1976, vol. 35, № 3.
Tham Seong Chee, 1980.— Tham Seong Chee. Values and Modernization in Southeast Asia.— Southeast Asian Journal of Social Sciences. 1980, vol, 8, № 1—2.
Thaung, 1959.— Thaung U. Burmese Kingship in Theory and Practice under the Reigh of King Mindon.—Journal of Burma Research Society. 1959, vol. 42.
Tin Maung Maung Than, 1988.— Tin Maung Maung Than. The Sangha and Sasana in Socialist Burma.—Sojourn. Singapore. 1988, vol. 3, № 1.
Traibhum, 1982.— Three Worlds According to King Ruang: A Thai Buddhist Cosmology (Traibhum). Tr. by F. and M. Reynolds. Berkeley, 1982.
Tu Wei-Ming, 1984a.— Tu Wei-Ming. Confucian Ethic Today. The Singapore Challenge. Singapore, 1984.
Tu Wei-Ming, 1984b.— Tu Wei-Ming. Pain and Suffering in Confucian Self Cultivation.— Philosophy East and West. Honolulu, 1984, vol. 34, № 4.
Turton, 1987.— Turton A. Production, Power and Participation in Rural Thailand. Experiences of Poor Farmers’ Groups. Geneva, 1987.
Wales, 1965.— Wales H. Ancient Siamese Government and Administration. N.. Y., 1965.
Walinsky, 1962.— Walinsky L. Economic Development in Burma. 1956— 1960. N. Y., 1962.
Watanabe, 1988.— Watanabe S. Workers and the Value System in Japan: An Economic View.— Travail, Cultures, Religions. Eds. by J. Lucal, P. de Lambier. Fribourg Suisse, 1988.
Weber, 1960.— Weber M. The Religion of India. Tr. by H. H. Gerth and D. Martindale. Glencoe, 1960.
Weber, 1964.— Weber M. The Religion of China. N. Y.— L., 1964.
Weber. 1965.— Weber M. The Sociology of Religion. L., 1965.
Weber, 1977.— Weber M. Selections in Translation. Ed. by W. G. Runciman. Cambridge, 1977.
Wijeyevardene, 1967.— Wijeyevardene G. Some Aspects of Rural Life in Thailand.— Thailand: Social and Economic Studies in Development. Ed. by T. Silcock, Canberra, 1967.
Wijeyevardene, 1987.— Wijeyevardene G. The Theravada Compact and the Karen.— Sojourn. Singapore, 1987, vol. 2, № 1.
Wilber, Jameson, 1980.— Wilber Ch., Jameson K.. Religious Values and Li to Development.— World Development. 1980, vol. 8, № 7/8.
Wilson A., 1979.— Wilson A. J. Race, Religion, Language and Caste in the Subnationalisms of Sri Lanka.— Collective Identities, Nationalisms and Protest in Modern Sri, Lanka. Colombo, 1979.
Wilson D., 1962.— Wilson D. Politics in Thailand. N. Y., 1962.
Wolters, 1982.— Wolters O. W. History, Culture and Religion in Southeast Asian Perspectives. Singapore, 1982.
Wyatt, 1966— Wyatt D. K. The Buddhist Monkhood as an Avenue of Social Mobility in Traditional Thai Society.— Sinlapakon. 1966, vol. 10, № 1.
Yalman, 1976.— Yalman N. Under the Bo-Tree. Berkeley — Los Angeles, 1976.
Yamklingfung, 1978.— Yamklingfung P. Family, Religion and Socio-Economic Change in Thailand.— Visakha Puja. Bangkok, 1978.
Zago, 1972.— Zago M. Rites et ceremonies en milieu Bouddhist Lao.— Documenta missionalia. Roma, 1972, № 6.
Zago, 1973.— Zago M. Bouddhisme Lao Contemporain.—Aspects du Bouddisme Lao.— Bulletin des amis du royame Lao. Numero special. Vientiane, 1973, № 9.
Буддийские тексты в переводах
Вопросы Милинды (Милиндапаньха). Пер. А. В. Парибка. М., 1989. Дхаммапада. Пер. В. Н. Топорова. М., 1960.
Сутта-нипата. Сборник бесед и поучений. СПб., 1899.
Сутра «первознание» (Агання-сутта, Д. Н., 27). Пер. А. В. Парибка.— Восток. 1991, № 1.
The Book of the Gradual Sayings. Tr. by F. L. Woodward and E. M, Hare. Vol. I—V. L., 1932—1936.
The Book of the Kindred Sayings. Tr. by C. A. F. Rhys Davids and F. L. Woodward. Vol. I-V. L., 1917-1930.
Buddhist Suttas. Tr. by T. W. Rhys Davids., The Sacred Books of the East Series. Vol. XI. Delhi, 1968 (reprint).
Canon Bouddhique pali. Textes et traductions. Sutta-pitaka. Dighanikaya. Tr.. par J. Bloch. P., 1949.
Dialogues of the Buddha. Tr. by C. W. and Mrs. C. A. F. Rhys Davids. Vol. I—III. Oxf., 1899—1921.
Epoch of the Conqueror. By Ratanapanna Thera.., Tr. by N. A. Jayawickrama. L., 1962.
Girimananda-sutta. Tr. by Nyanamoli Bhikkhu. Kandy, 1972.
The Great Chronicle of Ceylon (Mahavarhsa). Tr. by W. Geiger assisted by M. Bode. Oxf., 1980 (reprint).
The Lion’s Roar. An Anthology of the Buddha’s Teaching Selected from the Pali Canon by D., Maurice. N. Y., 1962.
The Suttanipata. A Collection of Discourses. Tr. by V. Fausboll. The «Sacred Books of the East» Ser., vol. X. Delhi, 1968 (reprint).
Three Worlds According to King Ruang: A Thai Buddhist Cosmology (Traibhum). Tr. by F. and M. Reynolds. Berkeley, 1982.
Vinaya Tests. Pt 1—3. Tr. by T. W. Rhys Davids and H. Oldenberg. The «Sacred Books of the East» Ser. Vol. XIII, XVII, XX. Delhi, 1968— 1969 (reprint).
Список сокращений
A. N. — «Ангуттара Никая»
D. N. — «Дигха Никая»
М. N. — «Мадджхима Никая»
S. N. —«Самьютта Никая»
S. Nip.— «Суттанипата»
V. Р. — «Виная-питака»
<<К оглавлению книги
The Buddhist Path in the 20th Gentury. Religious Values in the Modern History of Theravada Buddhist Countries by A. Agadjanian is a complex study of the history of Theravada Buddhism’s modern transformations and its manifold influence on five Asian societies — Sri Lanka, Burma, Thailand, Cambodia, and Laos. An attempt was made to generalize different kinds of sources (including religious texts, historical narratives, statistics and field data of social anthropology). There is also an analysis and comparison of different scholarly views concerning the interrelation between religious and social dynamics in the Theravada world.
Theoretically, religion is considered as a kind of the «universal system of meanings» that endows the human praxis with sacral and symbolic significance. The stages of the «social display of religious meanings» are discerned: the Doctrine and its perception (hermeneutical process); the cult and its dramatic realization (ritual process); the religious social programme, which contains the meanings of all social phenomena, values, attitudes, patterns of social behaviour and forms of social organization. Through these three stages the ultimate meanings of doctrinal soteriology are gradually translated into the terms of this-worldly praxis.
Chapter I. «The Buddhist Teaching in the 20th Century», contains an exposition of major Theravada Buddhist notions, including ontology, cosmology, ethics, and esp. the correlation of two main doctrines of kamma-samsara and nibbilna. The unity of high (monastic) and low (lay) levels of religiosity is postulated. The main features of the Buddhist world-outlook are: unsubstantiality, universal correlation of all phenomena, a fluent hierarchism, the ethical determinism.
Then the modern reformist exegesis in Theravada Buddhism is considered. The significance of this exegesis was a quest for the Buddhist cultural identity as a responce to the Western challenge, and for the legitimation of social changes through the use of traditional cognitive means. The reformism of Dharmapala, Buddhadasa and others are studied, as well as such new synthetic ideologies as Thai «civil religion» and Burmese «socialism». In spite of some formal resemblance to the European Reformation, deep diffe- rencies in contents are analysed.
Chapter 2, «The Cult and Ritual Process in the 20th Century», deals with to the sahgha and its functional place in Theravada societies. The monastic Order as a whole and each its member incarnate the fundamental antinomy of intravert and extravert orientations (the idioms of arahat and boddhisatta). Sahgha is a symbol of world renunciation and a social institution at the same time. The sahgha’s existence in this century was precarious balancing between these two paradigms — other-worldliness and this-worldliness. The derivative antinomies are considered, including those of the organization of sacral space (remoteness and centrality, dispersion and unity), meditation and priestly ceremonial roles, poverty and property, universalism and parochialization. The relationships between the sahgha and the lay world are based on the principle of exchange of dana (donations) for religious merits or charisma, that the world constantly needs. The sahgha’s role in politics is considered in the same way. In the 20th century the trends of «purification» and «profanation» were parallel and manifested in the forest fundamentalist asceticism and monks’ social and political activities, correspondingly.
Chapter 3 «The Buddhist System of Socio-Cultural Meanings: the Theravada Social Programme» studies the basic social values of Theravada Buddhism in both ideal-typical and historical perspectives. The meanings of basic notions like ‘individual’, ‘interpersonal relationship’, ‘group’ are investigated through a comparison of the empirical reality with the doctrinal concepts, of anatta, punna, karuna, bodhisatta etc. The main features of the Theravada social programme are the «incomplete individual», the openness of boundaries between the ‘self and others, the personal merits as a base of individual identity, the socially-referred personalism, the hierarchy of patron- client dyadic associations.
Chapter 4 «Buddhism and Power» studies the Theravada political tradition as derived from the core of Buddhist mentality, and its implications in contemporary politics. The political tradition includes the mythology of a sacral righteous kingdom with soteriological goals; the parallelism of charismatic and power hierarchies; the notion of sacral space (instead of territorial sovereignty); the predominance of the ethical legitimation; the state «despotic paternalism»; a millenarian radicalist tradition. In the 20th century the perception of «western» political forms (nation-state, parlamentarism, party pluralism, etc.) has been accompanied by their traditional legitimation with the use of many Buddhist symbols and notions. All political regimes whether they be democratic or authoritarian demonstrate the persistence of such features as paternalism, patron-client personalist hierarchies, etc. in today’s political process.
Chapter 5 «Buddhism and Economy» deals with economic implications of the aforementioned matrix of Theravada social mentality. The notion of “wealth» in the traditional cultural context in conceived rather in social than in material terms; the «social wealth» is measured by the volume of social ties, influence, and power. The emergence of new economic roles in the 20th century is culturally legitimized by references to the traditional values and behavioural patterns. Buddhism doesn’t hinder economic growth or provoke it, but its symbolic and semantic mediation is necessary to legitimize new economic attitudes and to ensure new social groups’ identities and their recognition by others. The idea of «Buddhist economy» is also studied.
The monograph draws the differences between the five countries’ «little traditions» of Theravada, and their societal implications in the 20th century. The Buddhist cultural heritage cannot be considered as a determinative factor of modern developments. But the persistence of Theravada traditional semantics cannot be ignored in understanding the specific response if this civilization to the challenge of the Western modernity. Such «legitimate development» is a kind of morally and psychologically justified «vector», which is searched for in the history of every society.
<<К оглавлению книги
<<К оглавлению книги
Примечания вынесены в текст соответствующих глав.
<<К оглавлению книги
Содержание
§ 1. Структура культа
§ 2. Сангха как символ и социальный институт
Смысл и структура сангхи
Структурные антиномии сангхи
Сакральное пространство: в отдалении или в центре
Сакральное пространство: дисперсность и единство организации
Постоянные и временные монахи
Медитация и проповедь
Дана как игра обмена
Бедность и богатство
Чуждость и свойскость. Универсализм и партикуляризм
Объединение и фиксация различий
Сангха и политика: вне власти, опора власти, оппозиция власти
Сангха в XX в.: рискованное балансирование между небом и землей
§ 3. Социокультурные архетипы в сангхе
§ 1. Структура культа
В предыдущей главе говорилось о сравнительной культовой бедности тхеравады и даже о намеренном антиритуализме ранней буддийской проповеди. В какой-то степени все этические религии антиритуальны, но тхеравада — в особенности. В палийском буддизме немного оснований для создания и постановки напряженной сакральной мистерии или для массового экстатического переживания. Однако люди тхеравадинской культуры испытывали не меньшую потребность в культово-ритуальном упорядочении религиозного чувства, чем представители других конфессий. Поэтому буддизм удивительно восприимчив и терпим к другим религиозным системам — добуддийским и небуддийским, которым он не мог составить конкуренцию в культовом отношении и которые он достраивал и увенчивал собственными идеями и символами. Потребность масс была таким образом удовлетворена, при этом именно буддийские значения связывались с высшим sacrum. Разнообразная и тщательно разработанная традиционная обрядность, которую можно найти в деревенской религии (см., например, [Zago, 1972, с. 10011]), является синкретическим наслоением множества архаичных компонентов, скрепленных и сведенных воедино буддийской символикой.
Иногда в исследованиях массовая, «народная» тхеравада противопоставляется Большой традиции как нечто совершенно особое — как сфера господства добуддийских (условно их можно назвать «анимистическими») и брахманистских культов; еще чаще внутри «народной» религии буддийский и небуддийский аспекты разграничиваются как совершенно различные в функциональном смысле. Однако практически все исследователи находят факты глубокого взаимопроникновения — вплоть до полной неразличимости — буддийского и небуддийского компонентов внутри «народной»тхеравады. Особые «приделы» для богов-покровителей в сингальских буддийских храмах и буддийские реликвии в двориках брахманистских святилищ [Краснодембская, 1982, с. 78; Evers, 1972, с. 11] — только самые наглядные примеры переплетения. Христианство, пишет Д. С. Лихачев, не отменило низшего слоя язычества, подобно тому как высшая математика не отменила собой элементарной, «двоеверия быть не может» [Лихачев, 1988, с. 256, 254]. Что касается стран тхеравады, то можно говорить о симбиозе, синтезе, взаимодействии (см. [Краснодембекая, 1982, с. 26—32; Zago, 1972, с. 378—382; Leach, 1961; Condominas, 1973, с. 114; Obeyese- kere, 1966, с. 12]).
Будда и Дхамма (1). В современном прочтении канонический Будда, как и Иисус в интерпретации Э. Ренана, предстает как историческое лицо и рациональный мыслитель. В религиозной традиции тхеравады он всегда был объектом культа, хотя и отличался, как было отмечено выше, от Бога семитских религий. Уже в каноне заложены основы этого культа; в самом качестве его знания — мудрости (panna) как просветленности присутствует иррациональный, интуитивный момент непосредственного видения (samantakakkhu — «всевидеине», «откровение», хотя и не ниспосланное свыше). Будда — сверхчеловек, но достигший своей сверхчеловечности благодаря собственным усилиям. Описания чудес, связанных с жизнью Будды, нередки в каноне [Brahmajala- sutta, D. N.; Mahaparinibbana-sutta, D. N.; Mahavagga, I, 7, V. P.]. В этом виден элемент поклонения, уже присутствовавший в каноне [Gokhale, 1980].
——————————————————————————————————-
(1) В предыдущей главе и то и другое рассматривалось в мировоззренческом плане, здесь же речь пойдет именно о культовом аспекте.
——————————————————————————————————-
Из махаяны поздняя тхеравада восприняла и в полной мере сохранила до XX в. идею «присутствия Будды» (связанную с концепцией «трех тел Будды» — trikaya). Ниббана Будды есть исчезновение, но не смерть, и, по-видимому, эта необычность и таинственная туманность конца Сиддхартхи Гаутамы Шакьямуни является причиной того полуосознанного «ощущения его присутствия», которым проникнут тхеравадинский культ; на это указывают многие исследователи [Gothoni, 1980, с. 45—47; Obeyesekere, 1966, с. 5—65; Gombrich, 1971b, с. 134; Краснодембская, 1982, с. 108; Tambiah, 1984, с. 204—207]. Поэтому так важны любые знаки, вообще следы присутствия Будды — реликвии, ступы, статуи и пр.
Культ Будды и вся богатая сопутствующая символика связаны с культом Дхаммы, декламация стихов из которой как бы подтверждает идею присутствия Будды. Как и во всех религиях, основанных на священных книгах, в буддизме текст канона сакрализован, несмотря на то что ранее учение было критически заострено против священнокнижия (см., например, [Kasibharadvaga-sutta (Sutta Nipata, 1,4; Теvigga-sutta, D. N.]). В традиционной живой тхераваде эти представления были совершенно забыты.
Текст Дхаммы есть содержание учения и в то же время — символ высшей сакральности безотносительно содержания.
При восприятии текста как символа содержание не играет роли, оно может даже не быть понятным; более того, его непонятность (чуждость) служит подтверждением сакральности и потому предпочтительна. Язык пали осуществляет это необходимое отчуждение точно так же, как это делали латынь, арабский или санскрит. В тхераваде культ текста магия текста служит опорой многих ритуалов. В буддийской Юго-Восточной Азии очень популярен тип церемоний, которые связывают верующего с текстом через посредство монаха, произносящего текст, и с помощью воды или нити передают его сакральную силу подобно электрическому току [Terwiel, 1976; Ishii, 1986, с. 21—23]; условно говоря, это церемонии освящения или причастия. Существуют тексты специально для декламации и слушания, являющиеся, как правило, адаптированными фрагментами канона. Это paritta — буддийская «молитва» или заклинание, которые выполняют функцию магической защиты, а иногда и исцеления (2). На Ланке, как и в других странах тхеравады, уже с VIII в. составлялись сборники paritta (синг. pirit), которые популярны до сих пор [Malalasekera, 1958, с. 75].
——————————————————————————————————-
(2) Примеры подобных текстов в Лаосе приводят М. Заго [Zago, 1972 , с. 111 и. Н. Г. Краснодембская [Краснодембская, 1982, с. 39], Р. Лестер | [Lester, 1973, с. 42—44], Р. Гомбрич [Gombrich, 1971b, с. 202]. Уже герой канонической сутты Гиримананда излечился, прослушав пересказ одного из поучений Будды [Girimananda-sutta, A. N.].
——————————————————————————————————-
Два главных символа — Будда и Дхамма — сохранили в XX в. свои функции в деревне. В городе же произошли важные перемены — культ Будды, хотя и возродился, но приобрел отчетливые демократические черты, переместившись, как уже говорилось, из пагод и дагоб в частные дома и на улицы. Культ Дхаммы был несколько потеснен в результате внимательного вчитывания в тексты и их рационального толкования. Новая волна фундаментальных изданий канона, однако, скорее была символическим и магическим подтверждением национального подъема, чем следствием рационального интереса фундаменталистов-интеллектуалов. Изменилась повседневная ритуальная жизнь текстов. Декламации при пагодах приобрели, отчасти под христианским влиянием, черты проповеди; чтение paritta, выйдя за рамки специальных храмовых церемоний, стало обычной приватной практикой в городских семьях и одновременно было включено, как в Шри Ланке, в регулярные радиопередачи. Здесь, как и в; культе Будды, произошло рассредоточение сакрального, децентрализация культовой практики, обмирщение символов. Но сводится ли весь этот процесс к обмирщению (профанации) и общему упадку? Следует еще раз повторить, что было бы ошибкой игнорировать обратную сторону этого процесса — сакрализацию нового городского пространства с помощью традиционных культовых средств.
Эту двойственность, а также все стороны ритуального процесса XX в. лучше всего рассмотреть на примере третьего и наиболее социально значимого символа тхеравады — сангхи.
§ 2. Сангха как символ и социальный институт
Смысл и структура сангхи
Сангха — буддийский монашеский орден — является земным символическим воплощением практически всех высших доктринальных значений. В сущности, сангха есть символ парадигмы мироотказа и освобождения. Кроме того, она рассматривается как модель человеческого поведения и человеческой организации высшего типа. Наконец, она играет роль архива ценностей и культурных архетипов, с которыми люди сверяют свои дела. В то же время сангха — социальный институт, живущий по своим правилам и выполняющий определенные функции.
Парадигма мироотказа — один из древнейших элементов индийской культуры; начало ее восходит к так называемым паривраджака (бездомным). Она оформилась в устойчивую социорелигиозную традицию в феномене саньясин — странствующего аскета, отвергшего мир, а вместе с ним и мирскую религию брахманов ради трансцендентной цели полного освобождения. Bhikkhu (буддийские монахи) — наследники этой традиции. Индийские аскеты селились вместе небольшими группами и переходили на более оседлую жизнь (прерывая странствование, например, в сезон дождей). Образование групп и оседлость явились, строго говоря, отходом от классического типа одинокого странника, что сыграло решающую роль в становлении сангхи как института. В действительности это было не чем иным, как актом социализации парадигмы мироотказа.
Sarigha значит «множество», «собрание». Сангха аскетов-отшелъников — только один из исторических типов сангхи. Буддийская сангха, в свою очередь, была одним из таких религиозных собраний, основанным и руководимым Буддой в годы его проповеди. С самого начала отличие этой сангхи заключалось в поддержке, которую она получила у царской власти в Магадхе в VI в. до н. э. Впоследствии, при Ашоке, в середине III в. до н. э. установилось царское покровительство сангхи как новая традиция, превратившая сангху в государственный культовый институт.
Сангха приобрела ряд ключевых характеристик, обеспечивающих ей унификацию в значительной степени и постоянство. Во-первых, само следование буддийскому учению и воплощение высших его ценностей составляют ее raison d’etre. Во-вторых, строгий и неизменный набор внутренних организационных правил, подробнейшим образом изложенных в одной из книг канона — «Виная-питаке» (по-видимому, наиболее древней), представляет собой не подлежащую изменениям конституцию сангхи. В-третьих, вступление в орден связано с рядом инициационных ритуалов, подчеркивающих корпоративность и символизирующих непогрешимость древних истоков передаваемой сакральной традиции. В-четвертых, в рамках государственного образования формируется единая иерархия сангхи со ступенчатым распределением, административного и сакрального авторитета.
В этих характерных чертах нетрудно обнаружить противоречие между изначальной парадигмой бездомности и мироотказа и иерархическим корпоративизмом. Не является ли орден с его структурой забвением первоначальной цели подвижничества — достижения супермира полного освобождения? Не становится ли орден «домом бездомных», «миром отвергших мир?» Это противоречие очевидно, но воспринимать его следует скорее как структурную антиномию, подобную тем, на которых строится всякий религиозный феномен. В самом общем виде это антиномия трансцендентного знания и его практического осуществления; в религиоведческих категориях это антиномия доктринальных целей и культовых средств; в данном конкретном случае можно говорить об антиномии сангхи как символа и сангхи как института.
Поэтому бытие сангхи — это постоянное балансирование между требованиями символической чистоты и требованиями институциональной организации. Антиномичность заключена и в двойственности функций сангхи как религиозно-культового феномена: сангха выступает и как субъект и как объект ритуального процесса. С одной стороны, монахи, монастырь, сангха в целом — объекты поклонения ipso facto; это поклонение тем, кто оставил дом и удовольствия жизни ради высших целей, т. е. пошел на сознательную жертву ради повторения священного подвижничества Будды и отчасти взял на себя труд искупления за неведение (avijja) и самоснисхождение тех, кто не смог «оставить дом». Жизнь монаха — напоминание о высшем смысле, концентрированная и наглядная формула праведности. За все это сангха пользуется правом быть на полном материальном иждивении мирян; главный тип ритуала в тхераваде — подношение (dana) монахам. Но делая подношение, мирянин, в свою очередь, автоматически получает взамен заслугу (punna), улучшающую камму и моральный статус в целом; поэтому сангха, независимо от субъективных усилий ее членов, является «полем заслуг» (punnakkhettam). С другой стороны, сангха выступает как субъект ритуального процесса, непосредственно участвуя во многих обрядах (благословение с помощью paritta и другими способами, rites de passage различных видов и т. д.), а также переводя дхаммические ценности в плоскость повседневных этических наставлений. С этим же связаны многочисленные роли монахов в миру, их имидж духовных лидеров.
Структурные антиномии сангхи
Согласно известному мотиву буддийской мифологии, бесконечное время мировых циклов знало два типа будд — Paccekabuddha — Будда, достигший высшей мудрости, необходимой для достижения ниббаны, но не возвестивший эту мудрость людям, и Sambuddha — Будда, проповедующий свою мудрость [Childers, 1974, с. 309, со ссылкой на Mahavamsa, 5, 27]. Исторический Будда Гаутама относится ко второму типу, хотя решение «возвестить истину», согласно легенде, было принято им после многих просьб. Кроме того, Будде, тоже согласно легенде [Hung, 1970, с. 44], пришлось испытать давление оппонентов, искушавших его советом удалиться вместе с учениками в лес и посвятить себя отшельничеству и аскетизму. Решение Будды идти к людям с проповедью, отраженное в концепции «срединного пути» (в данном случае — в отказе от чрезмерного аскетизма), можно считать архетипическим актом, определившим статус сангхи как института.
«Срединность» этого статуса, однако, не снимает того антиномического напряжения, которое в нем заложено. Идеальным типом в канонической проповеди остается архат — святой, полностью следующий классической парадигме мироотказа, ищущий спасения только для самого себя. В то же время идея проповеди, заложенная даже в самом жизненном пути Будды, реализовалась впоследствии в полной мере, и особенно ярко — в махаянистской (и усвоенной тхеравадой) концепции бодхисатты. Антиномия качеств архата и качеств бодхисатты, воплощенная в каждом монахе,— инвариант той же антиномии двух типов будд.
В поведении монаха как религиозного специалиста легко обнаружить и интровертную и экстравертную модели (модели архата и бодхисатты). М. Спайро, например, считает первую модель доминирующей: согласно опросу, 19 из 20 монахов считают целью монашеской жизни собственное освобождение [Spiro, 1970, с. 285]; в поведении монахов Спайро обнаруживает нарциссизм, связанный с канонической ориентацией на индивидуальное спасение [Spiro, 1970, с. 348]. Р. Лестер, напротив, всячески подчеркивает экстравертную поведенческую модель, находя доказательства также в канонических текстах [Lester, 1973, с. 5, 55]. Я- Ингерсолл замечает, что в образе деревенского монаха есть что-то от бодхисатты, хотя сама концепция знакома не всем [Ingersoll, 1966, с. 75—76]. Характерно, что именно бирманский материал дал повод говорить об «эгоизме» как доминанте: традиционно бирманская сангха была более интравертной, чем тайская или сингальская.
Так или иначе, антиномия «эгоизма и альтруизма» (условно говоря) в сангхе очевидна; и хотя в конкретном случае одно из этих качеств может преобладать, а напряжение между ними не раз приводило к схизме, можно сказать, что «жизнь для себя» и «жизнь для других» воплощены в каждом монахе по определению. Попытаюсь сформулировать еще несколько антиномических оппозиций в сангхе, которые послужат инструментом дальнейшего исследования (табл.).
Таблица отражает фундаментальный смысл бытия сангхи (как, видимо, любого религиозного института) и верна для XX в. точно так же, как и для предыдущих эпох. Левый ряд — это классические качества, соответствующие парадигме мироотказа. На них зиждется символическая сакральность сангхи, ее статус земного воплощения высших религиозных ценностей. Правый ряд — это практические качества, которые только и могут позволить сангхе реализовать в обществе свою сакральную силу.
Структурные антиномии в сангхе
|
Сангха-символ
Архат
удаленность
дисперсность
пожизненное монашество
медитация
накопление харизмы
бедность
чуждость
универсализм
равенство
вне политики
эгоизм
неотмирность
неизменность
трансцендентные цели
|
Сангха-институт
Бодхисатта
центральность
единство организации
временное монашество
проповедь
растрата харизмы
богатство
свойскость
партикуляризм
иерархия
в политике
альтруизм
обмирщенность
изменчивость
земные средства
|
Религиозный институт, подобный сангхе, не может полностью утратить качеств ни левого, ни правого ряда: первое фактически означало бы утрату сакральности, а второе свело бы на нет реализацию сакральности, ее восприятие миром. Единственный путь — поиск симметрии, или компромисса, между полюсами. Это вечная дилемма, стоящая перед сангхой. Таблица объясняет влияние (и степень влияния) религиозного института в миру, с одной стороны, отчуждение (и степень отчуждения) этого института от мира — с другой. Чем более тонок, гармоничен компромисс между качествами левого и правого ряда, тем сильнее влияние и тем меньше отчуждение, и наоборот.
Сакральное пространство: в отдалении или в центре
Определение буддийского монастыря как «духовного центра Общины» — почти трюизм, переходящий из исследования в исследование; но если качество «центральности» переносится в область физического или социального пространства, появляется неточность, ибо монастырь, строго говоря, не может быть в центре. В отличие от христианской церкви, которая строится на виду, на возвышении, на скрещении дорог, на площади, тхеравадинский монастырь не виден с первого взгляда. В глаза бросается ступа, пагода, но не монастырь. Согласно парадигме мироотказа, буддийский монах должен быть в стороне от мирской суеты, а значит — в пространственном отдалении; монастырь — воплощение «ухода из дома» — должен располагаться вне общины, а вовсе не в ее центре [Lehman, 1987b, с. 180]. Так оно, как правило, и бывает [Condominas, 1973, с. 38]. Разумеется, он не может находиться физически далеко, а располагается, как правило, в изолированном месте, т. е. символически «далеко».
Но эта символическая дистанция как раз и есть необходимое условие монашеского влияния. В этом смысле непреложен факт, что в той или иной общине (условно говоря, приходе) монастырь служит структурным центром, источником морального и духовного влияния [Ingersoll, 1966, с. 68; Lubeigt, 1974, с. 264].
Антиномия сакральной дистанции проявилась в складывании в тхераваде двух параллельных и взаимодействующих традиций — лесных монахов (arannavasi) и деревенских монахов (gamavasi); а в какой-то степени это деление аналогично делению духовенства в христианстве на черное и белое. Феномен лесных монахов всегда выражал фундаменталистскую реакцию на чрезмерную вовлеченность сангхи в мир; уход в лес означал претензию на возвращение к парадигме мироотказа в ее строгой чистоте, а образ леса — символ такой чистоты (то, что в ранней христианской традиции связывалось с образом пустыни). Это явление было особенно распространено на Ланке, возможно в силу влияния индийского идеала саньясина, однако и в других странах такая традиция существовала (об аранах в Бирме в Паганское время см. [Всеволодов, 1978, с. 39—41]).
У отшельников-одиночек или небольших отшельнических сект в тхераваде двоякая репутация: их уход в лес расценивается как порыв к очищению, и в то же время уход (не только из мира, но из обмирщенной сангхи) вырывает их из обыденного ритуального процесса, вызывает отчуждение. Строгая аскетическая практика, предлагаемая ими как возврат к ортодоксии (или, точнее, к ортопраксии), резко осуждается сангхой и частью мирян как, напротив, гетеродоксальная или псевдобуддийская ересь; понятия «ортодоксия» и «гетеродоксия» меняются местами в зависимости от точки зрения. Ф. К. Леман указывает, что в не столь давние времена в Бирме были небольшие секты, уходившие в лес на некоторое время и затем возвращавшиеся более сильными в смысле духовного влияния [Lehman, 1987b, с. 172]; символическое удаление в лес способствует, таким образом, накоплению сакральной энергии. Дж. Мейси утверждает, что и в XX в. уход в лес расценивается выше, чем активная социальная вовлеченность сангхи [Масу, 1983, с. 75]. В то же время есть прямо противоположные указания, согласно которым «приближенный» деревенский монах, — нравственный наставник и знаток текстов (лесные монахи игнорируют тексты как ритуальное средство) — пользуется среди мирян особым авторитетом, а странники и аскеты-одиночки вызывают лишь подозрение или даже обвиняются в эгоизме [Kemper, 1978, с. 217; Bunnag, 1973, с. 55].
XX век, как уже говорилось, породил городской буддизм, в котором произошло смещение сакрального пространства. Городской монастырь оказался в гуще новой жизни, он с неизбежностью располагается в центре (города, района, квартала) и в силу геометрии городского пространства никак не может быть спрятан, изолирован хотя бы символически. Здесь нет символического «далека». Сангха в невиданной степени вовлекается в социальную жизнь, монах ходит по улицам, ездит в городском транспорте вместе с мирянами. Сакральная дистанция почти исчезает. Происходит явный крен в сторону обмирщения (3).
——————————————————————————————————-
(3) Интересно следующее наблюдение Р. Готони. Знаком сакральной дистанции городском буддизме в Шри Ланке становится зонт (как правило, черный), который монахи носят с собой; зонт как бы очерчивает часть монастырского пространства, и тем самым монах, выходя из монастыря на улицу, символически подчеркивает свою сакральную изоляцию. Это новое явление: раньше зонт никогда не был специфически монашеским атрибутом (тем более черный) [Gothoni, 1980, с. 54].
——————————————————————————————————-
Но это означает, что сангха оказалась слишком в центре пространственно, чтобы оставаться в центре духовно. Поэтому как вполне естественную реакцию следует воспринимать рост лесного отшельничества в XX в. С 50-х годов этот рост наблюдается в Шри Ланке, где возникают лесные скиты монахов тапасая (практикующих tapasa — аскетизм). Они игнорируют правила ординации (посвящения), тем самым порывая связи с официальной сангхой; не уделяют большого внимания палийской учености [Kemper, 1978, с. 217; Carri- thers, 1983, гл. 7]. Впрочем, тапаса-секты можно считать крайностью, как правило, осуждаемой. Другое дело — некий компромисс, воплощенный в создании лесных уединенных обителей, куда время от времени (порой — навсегда) удаляются «обыкновенные», по всем правилам посвященные монахи; эта возрожденная практика араннаваси (лесных монахов) и популярнее и понятнее верующим [Kemper, 1978,. с. 217]. К началу 80-х годов в Шри Ланке было до 150 лесных скитов и более 600 лесных монахов [Carrithers, 1983, с. 11]. В масштабах страны это кажется немного, но символическая роль подобного явления велика: возвращение в лес — возвращение к сакральным истокам.
В 60—70-е годы наблюдается рост интереса к лесному монашеству в Таиланде, где сангха наиболее вовлечена в мир. Причем лесные обители в подавляющем большинстве возникали на Севере, Северо-Востоке и отчасти на Юге; это связано не только с тем, что Север и Северо-Восток — традиционно наиболее отсталые районы, но и с чисто географической их удаленностью от Центра. Север, Северо-Восток и Юг являются географической и структурной (традиционной) периферией. Но именно в силу периферийности эти районы воспринимаются как области концентрации традиционной сакральной энергии, как своего рода святые земли. С. Тамбайя описывает паломничества преуспевающих бангкокских бизнесменов и политиков в глухие леса Северо-Востока для того, чтобы в этом святом «далеке» получить религиозное благословение у лесных отшельников [Tambiah, 1984]. Новая городская элита не может удовлетвориться ритуальными услугами городского монастыря и черпает сакральную энергию именно у лесного монашества, ставшего, в известном смысле, центром религиозности [Tambiah, 1984, с. 345]. Дистанция и религиозный дух Северо-Востока обладают значительностью, оказываются «сакрогенными».
Отшельничество XX в. отнюдь не является извечной и единственной моделью всей буддийской сангхи; радикальная удаленность никогда не была для нее характерна. Веберовский взгляд на буддийское монашество как на абсолютно оторванный от мира эгоистический поиск спасения давно опровергнут культурантропологией. Вряд ли верно и остроумное замечание Н. Каца, что феномен лесного монашества XX в. означает «встраивание сангхи в веберовскую парадигму» под западным влиянием [Katz, 1987, с. 163]. Другое дело, что в период христианского миссионерского наступления — в XIX—начале XX в. — стереотипы христианского монашества несколько повлияли на формирование нового типа тхеравадинского отшельничества [Perry, 1974]. Но так или иначе, здесь, видимо, больше традиции, чем новизны: традиции сочетания чистой идеи мироотказа и мирской институционализации, выражавшейся в параллельном существовании «лесных» и «приходских» монахов. Общий дух религиозного «ренессанса» XX в. породил две тенденции: с одной стороны, стирание сакральной дистанции в городах, с другой — рост подчеркнуто удаленных от мира монастырей как естественную реакцию, как стремление к очищению, как попытку восстановить нарушенный баланс в рамках антиномии «удаленность — центральность».
Сакральное пространство: дисперсность и единство организации
Идея мироотказа требует максимальной изоляции. Каков ее предел? По-видимому, им может быть индивидуальное отшельничество, но его следует рассматривать как крайность, никогда не бывшую правилом. Изначально сангха — небольшое «братство» нескольких монахов, имеющих общую резиденцию со сравнительно строгой внутренней организацией и почти не поддерживающих внешних связей и связей с другими подобными единицами. Такое «братство» живет по принципам, изложенным в «Виная-питаке». Принцип первый: «демократические» отношения между членами «братства», разрешение конфликтов путем обсуждения и нахождения согласия, совместное решение всех внутренних вопросов. Принцип второй: иерархия по возрасту, учености и соответственно по рангу — samanera (юноша-послушник), bhikkhu (монах), thera (или mahathera, старейшина, настоятель). Разумеется, эта чисто «профессиональная» иерархия имеет тенденцию превращаться в квазиадминистративное соподчинение рангов.
Основанный на этих принципах монастырь является элементарной ячейкой сангхи. В более крупных монастырях такой ячейкой становится отдельная резиденция или группа монахов, обладающая определенной независимостью от других резиденций-групп, входящих в монастырь: их можно назвать «неформальными группами», складывающимися вокруг отдельных влиятельных монахов; в Шри Ланке такая группа называется пансала, в Таиланде — кхана, в Бирме — гайн [Gothoni, 1986, с. 15—16; Tambiah, 1976, с. 321; Bun- nag, 1973, с. 97]. Группы объединяют, как правило, пять человек [Gothoni, 1986; Mendelson, 1975, с. 162J.
Вместе с тем тенденция к объединению сангхи — очень древняя и сильная. В ее основе всегда лежало стремление светской власти держать под своим контролем мощный, единый идеологический институт. Канонические книги описывают архетип покровительства, которое царская власть оказывала общине, основанной Буддой; другим классическим примером единой огосударствленной сангхи был орден, находящийся под царским покровительством Ашоки (III в. до н. э.). В дальнейшем в течение двух тысячелетий государство стремилось вернуться к этому архетипу, отдавая предпочтение одному или нескольким крупным «царским» монастырям, становившимся ядром общегосударственной духовной иерархии с высшим иерархом (сангхараджей) во главе. Структура этой единой иерархии повторяла структуру светской .административной организации.
Несмотря на более или менее удачные попытки надстроить типичные малые монашеские «братства» крупными иерархическими структурами, абсолютного успеха в этом предприятии никто никогда не добивался. Изначально присущий сангхе принцип неотмирности, а значит изоляции, разрывает единую сангху на автономные части и частички, рассыпанные по всему пространству буддийского общества. Даже если формально общегосударственное единство сангхи сохраняется, фактически она лишь искусственная надстройка над чрезвычайно рыхлым основанием. Тхеравадинская сангха XX в. во всех странах свидетельствует об этой врожденной рыхлости. И если в Бирме, в Шри Ланке, Лаосе и Камбодже такое положение, казалось бы, можно объяснить дезинтеграцией всего традиционного общества и разрывом связи между государством и сангхой в колониальную эпоху, то ситуация в Таиланде говорит о том, что причины рыхлости более глубокие; несмотря на всегда сохранявшуюся в стране стройную формальную иерархию единого ордена, вполне подчиненного государству, сангха была в высшей степени рассредоточенной на независимые местные образования (группы монастырей, монастыри, кхана и т. д.) [Таmbiah, 1970, с. 74—75; Bunnag, 1973, с. 97].
На протяжении XX в., как и во все времена, попытки объединения, которые предпринимались государством, и стремление сангхи к дисперсной автономии существовали как две параллельные тенденции. Общенациональные реформы сангхи с целью унифицировать ее иерархию были в целом неудачны: в Бирме, например, после колониальной дезинтеграции независимые правительства провозглашали всеобщую регистрацию монахов по крайней мере пять раз: в 1949, 1957, 1959, 1961, 1980 гг. Все они вызывали решительное сопротивление массы монахов, и только последняя оказалась более или менее удачной: с 1980 г. действует общенациональный комитет сангхи; однако степень реальной унификации, как и в Таиланде, по-видимому, невелика (4). В Шри Ланке монашество поддается объединению в еще меньшей степени. В Лаосе и Камбодже единство сангхи держалось только за счет жесткого правительственного контроля, его ослабление приводит к росту дисперсности.
——————————————————————————————————-
(4) Что касается 50-х годов, то бирманская сангха была в это время „.расколота на массу групп, сект, ассоциаций (см. [Всеволодов, 1978, с. 205—509]). В 70-е годы иерархия оставалась столь же расплывчатой Mendelson, 1975, с. 162—164].
——————————————————————————————————-
В этом контексте объяснимы такие явления истории буддизма, как схизма и сектообразование. Сангха, несмотря на противораскольные нормы, зафиксированные в каноне, дробилась на секты часто. Образование новых сект было связано, как правило, с фундаменталистской волей к очищению канонических норм монашеской аскезы, с попыткой отмежеваться от недопустимо и непомерно обмирщенной ортодоксии; таковы Амарапура-никая в Шри Ланке, Дхаммаютика-никая в Таиланде, Камбодже и Лаосе, Шведжин в Бирме (все созданы в XIX в.). Дисциплинарная чистота и сектантская идентичность обосновывались принадлежностью к иной линии ординации, чем остальная сангха (5). Деление на секты определялось также минимальными различиями в ритуалах и атрибутике; ни одну из них нельзя назвать «еретической» в христианском смысле, ибо, строго говоря, нет и не было единого «церковного» ортодоксального авторитета в национальном масштабе и тем более института, аналогичного папству (6). Более того, расколы сангхи на секты не приводят к .дроблению мирской религиозности в такой степени, которая поставила бы под сомнение единство тхеравады в целом [Obeyesekere, 1979а, с. 629].
——————————————————————————————————-
(5) Например, Амарапура-никая на Ланке была основана монахами, получившими посвящение от бирманских монахов; тем самым эта новая секта противопоставила себя Сиам-никая — секте, следующей тайской (сиамской) линии ординации. Дхаммаютика-никая — секта, основанная в Сиаме в середине XIX в., в отличие от ортодоксальной Маха-никая, ведет свое происхождение от древнемонской монашеской традиции.
(6) Всемирное братство буддистов (World Fellowship of Buddhists), созданное в 1950 г., является, по существу, международной организацией без какой-либо сакральной или культовой функции.
——————————————————————————————————-
Но кроме крупных сект национального масштаба (7) всегда возникало большое количество микросект, бывших фактически локальными образованиями, стремящимися к полной автономии. В XX в. это часто (особенно в Бирме) смешанные группы (гайны) монахов и мирян, складывающиеся вокруг лиц с особыми харизматическими качествами (вей-за) — знатоков магии, алхимии, ворожбы и прочей народной гетеродоксии. В других случаях лидерами таких микросект были микропророки, отражавшие мессианские ожидания. Народная гетеродоксия и мессианизм часто совпадали [Меndelson, 1975, с. 144].
У этих процессов — и дробления, и объединения — кроме имманентной была и еще одна внешняя, но не менее глубокая причина — давление мира, влияние светского общества. Формы компромисса между полюсами дисперсности и единства прямо зависят от слабости или силы государственной интеграции, а также от типа социальной структуры, форм и размеров групп — субъектов ритуального процесса («приходов») (8). Локальная сельская община — типичная традиционная форма «прихода» — вполне согласуется с дисперсным существованием сангхи в виде отдельных монастырей или резиденций: новой городской жизни более соответствуют относительно крупные формы религиозной организации.
При всех колебаниях основной ячейкой сангхи остается отдельный монастырь, окруженный относительно постоянной и ограниченной группой верующих. Крохотные группы отшельников или хижины одиноких аскетов представляют собой избыток дисперсии, а общенациональные иерархии — избыток организации. Сила сангхи — в местном влиянии ее небольших, сравнительно автономных, неформально спаянных единиц (9).
——————————————————————————————————-
(7) На Ланке в XX в. их было три: Сиам-никая, Амарапура-никая и Рамання-никая; в Таиланде, Лаосе и Камбодже — по две — Маха-никая и Дхаммаютика-никая (в конце 70-х годов коммунистическое правительство Лаоса слило обе секты в единый Союз лаосских буддистов). В Бирме кромe крупнейших Тхудхамма и Шведжин было еще много сект, в 1980 г. все они были официально запрещены, за исключением признанных девяти (см. [Tin Maung Maung Than, 1988, с. 40; Fergusson, 1978, с. 82]).
(8) Есть и чисто экономические причины. Например, натурализация экономики в Бирме при военном режиме в 60—70-е годы привела к сильной автономности монастырей.
(9) М. Мендельсон [Mendelson, 1975, с. 122] оспаривает довольно распространенное мнение, что сила сангхи, ее влияние в обществе находятся в полной зависимости от государственного покровительства и, значит, от прочности огосударствленной орденской иерархии; напротив, считает он, настоящее влияние сангхи надо искать в ее повседневных ритуальных функциях на местном уровне.
——————————————————————————————————-
Постоянные и временные монахи
Существует одна уникальная особенность тхеравады, отличающая ее от других религий и в то же время делящая ее на две части. Если следовать логике ранней буддийской сотериологии, человек, порвавший связь с миром, уже никогда не возвращается обратно; согласно популярному буддийскому образу, «вступивший в поток» (на Путь) с целью достичь «другого берега» (ниббаны), уже не вернется на «этот берег». Если монашество — символ отказа, то посвящение в орден пожизненно. Однако в странах тхеравады издавна складывается традиция временного монашества, когда человек, проведя в монастыре несколько дней, месяцев или лет, возвращается в мир (в будущем он может повторить такое пострижение еще не раз). Временный уход в монастырь на богомолье в христианстве отчасти напоминает эту буддийскую практику, но несравним с ней по масштабам: в тхераваде все или большинство мальчиков по традиции проводили некоторое время в монастыре в качестве послушников; в трехмесячный буддийский Пост происходит массовый наплыв в сангху взрослых буддистов (10).
——————————————————————————————————-
(10) Пост в тхераваде приходится на сезон дождей, примерно с середины июля по середину октября. В это время по традиции, установленной еще общиной самого Будды, монахи углубляются в медитацию и внутренний ритуал. Временный постриг в монастырь может быть и не связан с периодом Поста.
——————————————————————————————————-
Прежде чем раскрыть этот феномен, отмечу кардинальное отличие сингальской тхеравады от ее материкового юго-восточноазиатского варианта. В Шри Ланке традиция временного пострига отсутствует. Возможно, это связано с тем, что ланкийская сангха древнее на тысячу лет и более строго хранит чистоту монашеского статуса; несомненно, что этот статус здесь больше связан с влиянием того же идеала саньясина, возвращение которого в мир немыслимо. Еще одно объяснение — кастовость сингальского общества, что в сочетании с экономическим процветанием сангхи сделало ее сравнительно замкнутой организацией с корпоративными интересами (не столько в масштабе всего общества, сколько на микроуровне). Наконец, некоторое отличие в мотивах ритуального процесса заключается в том, что в сингальском буддизме в меньшей степени и в несколько иной форме распространена концепция каммических заслуг (пуння), тогда как именно накопление заслуг мыслится в буддийской Юго-Восточной Азии как главный мотив временного пострига. Так или иначе, особенность ситуации в Шри Ланке состоит в том, что расстрижение расценивается как действие предосудительное, а расстрига пользуется плохой репутацией [Sivaraksa, 1981; Tambiah, 1976, с. 519].
Ничего подобного нет в материковой Юго-Восточной Азии. Напротив, каждое, пусть самое короткое пострижение улучшает камму и повышает религиозный, а значит, и социальный статус; точно так же пострижение мальчиков в послушники является буддийской инициацией, обретением социального лица; и то и другое — особого рода ритуалы перехода, растянутые на время пострижения [Tambiah, 1970, с. 102]. Резким контрастом сингальскому буддизму является то, что в буддийских странах материковой Юго-Восточной Азии человек, покидая монастырь, обладает более высоким моральным статусом, чем до пострижения; согласно общему убеждению, объем его заслуг за это время возрастает. Каждому буддисту, не нашедшему в себе сил на пожизненный уход из мира, оставляется шанс обрести символическую причастность к поискам радикального освобождения.
Смысл феномена временного пострига — это очередной компромисс, очередное «срединное» решение (между символической чистотой и институциональными потребностями сангхи). По-видимому, такая форма компромисса не является неизбежной, о чем свидетельствует ланкийское исключение, но она в высшей степени показательна; контраст между монашеской и мирской сотериологией смягчается, сангха становится более адаптированной к социальному окружению, а миряне получают возможность временного участия в более интенсивном и более сакрально значимом ритуальном процессе.
О месте сангхи в обществе можно судить по ее относительной численности. Разные полевые подсчеты дают большой разброс цифр. По сведениям М. Спайро, монахи составляют не более 5% населения [Spiro, 1970, с. 284]. В сравнении с другими оценками эта цифра кажется завышенной; скорее всего, монахи и послушники составляют от 1,5 до 3,0% мужского населения [Tambiah, 1978, с. 123; Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 348; Pfanner, 1966, с. 78; Mendelson, 1975, с. 119; Mulder, 1969, с. 345]. Наименьший удельный вес сангхи, естественно, в Шри Ланке — 0,2% только сингальского населения на начало 70-х годов [Gombrich, 1971b,. с. 36], а также в Лаосе и Камбодже после революции [Корнев, 1987, с. 47—49]. Этот показатель в течение XX в. постоянно снижается: так, в Таиланде, где самая многочисленная сангха, доля монахов в мужском населении уменьшилась приблизительно в 2 раза: с 6,0% в 1927 г. до 3,0% в 1966г. [Mulder, 1969, с. 34—35].
Подсчет показателя крайне сложен потому, что состав сангхи подвижен из-за временных монахов (кроме Шри Ланки). Какова пропорция постоянной и временной частей сангхи? Доля временных монахов колеблется от 25 до 40%, а то и до 50% [Tambiah, 1978, с. 123; Pfanner, 1966, с. 78]. Совершенно очевидно, что в период Поста эта доля резко увеличивается, общее число монахов примерно удваивается [Bunnag, 1973, с. 36]. Миряне постригаются в разное время и на разные сроки; но насколько вообще распространена эта практика? В case study М. Моермана 41% мужчин деревни Центрального Таиланда бывали в сангхе в то или иное время ([Moerman, 1966, с. 156]; на более традиционном Северо-Востоке этот показатель достигает 60% [Kirsch, 1977, с. 250]. Если к этому добавить данные по инициации мальчиков, то показатель еще возрастет и по крайней мере в некоторых деревнях (особенно в Бирме) может составить почти 100%, т. е. практически все мужское население.
Доля монахов в населении, как отмечалось выше, невелика, но излишне говорить о том, что специфическое духовное влияние этой небольшой группы явно превосходит то, какое можно было бы ожидать, исходя из этих цифр. Вместе с тем важен факт снижения доли в течение столетия. Это связано с мощными дезинтеграционными процессами в обществах тхеравады, отчасти — с утратой буддизмом духовной монополии, особенно монополии в области образования (традиционно временное пострижение мальчиков сочеталось с началами образования), но прежде всего с тем, что «буддийский ренессанс» XX в. был внекультовым и преимущественно мирским; кроме того, городской буддизм требовал более профессиональной организации культа и ограничивал те возможности массового пострижения, которые в деревне были связаны с сезонностью труда. Поэтому доля монахов в обществе снижается за счет сокращения числа юродских монахов, что, в свою очередь, определяется малочисленностью временных монахов (по сравнению с деревней) [Tambiah, 1978, с. 123]. Бурное развитие светского начального образования в городе превратило послушничество мальчиков в символическую (хотя и важную) формальность, длящуюся не более нескольких дней [Lester, 1973, с. 90—91]. И в то же время в быстро меняющемся Бангкоке чиновники имеют право на временное монашество за государственный счет.
Медитация и проповедь
Балансируя между идеалами архата и бодхисатты, удаляясь от мира и приближаясь к нему, сангха ищет гармоническое сочетание интравертной и экстравертной ориентаций ритуального процесса, ритуалов «для себя» и «для других» — то, что я условно назвал медитацией и проповедью. Как уже говорилось, забвение радикальных целей мироотказа и усилий по достижению последовательных ступеней духовного совершенства означало бы, что сангха утратила право на проповедь, т. е. роль центрального элемента ритуального процесса. Оказывается, что интравертная функция сангхи — необходимое условие выполнения ею экстравертных функций, усилия по собственному спасению — условие для авторитетного духоводительства; чтобы оказать помощь другим в продвижении к ниббане, бодхисатта должен прежде стать архатом.
Это объясняет то огромное значение, которое в тхераваде имеют строгое соблюдение дисциплинарного кодекса (норм отношений внутри сангхи и норм поведения монахов в миру), поддержание аскетических ограничений, весь комплекс действий внутреннего ритуала, включающих регулярные декламации текстов, внутримонастырские собрания, чтение и заучивание палийских книг и, наконец, занятия медитацией [bhavana] — вершину канонической версии монашеского пути. XX век дал множество отчасти уже упомянутых примеров фундаменталистского акцента на чистоте этих, принципов.
Но в то же время сангха в XX в., как и на протяжении всей ее истории, сохраняла роль ключевого церемониального и одного из основных социорегулирующих институтов, выполняя ряд разнообразных «приходских» функций. Сангха — это прежде всего группа религиозных специалистов, и роли символического культивирования ритуальной и моральной чистоты вытесняются, как правило, церемониальными ролями (исключение — лесные монахи) [Carrithers, 1983, с. 141]. Возможно, поэтому даже в самой модели эзотерического монашеского пути предпочтение часто отдается изучению палийских текстов, а не практике медитации ([Bunnag, 1973, с. 53—54], ибо текст — символическое средство контакта монастыря с миром.
Первые европейские интерпретаторы буддизма явно недооценили экстравертную ориентацию сангхи. Происходило это под влиянием двух вещей: ранних текстов, заключающих в себе парадигму мироотказа в сравнительно чистом виде, и классического христианского монашеского стереотипа [Katz, 1987, с. 161]. Более поздние исследователи обнаружили в сангхе мощный заряд социальной активности. Будучи исполнителем собственно ритуальных функций, монах всегда был носителем учености, источником образования и морального наставничества, часто выполнял роль арбитра и советчика, врача и мага, предсказателя и психотерапевта; монастырь был идеологическим, информационным и даже, особенно на Ланке, сильным экономическим учреждением. Вовлеченность монахов в мир часто выходила за рамки, очерченные орденским дисциплинарным кодексом. Аморфность и неотработанность буддийского ритуала в целом парадоксально (а на самом деле вполне естественно) привела к тому, что проникновение тхеравадинских монахов в мир оказалось более глубоким, чем в любой другой религии [Всеволодов, 1978, с. 91].
XX век внес изменения в список «внешних» функций сангхи; в частности, сильная тенденция к росту мирского буддизма привела к утрате сангхой монополии на ритуал, который, переместившись в дом верующего, уже не требует участия религиозного специалиста. Основной ритуальной функцией монаха остается проповедь [Gothoni, 1980, с. 52], ставшая под влиянием христианского (протестантского) стереотипа более раскованной в смысле тематики и стиля.
Еще одна утрата сангхи — потеря ею контроля над образованием. Старые монастырские школы не могут конкурировать с сетью государственных школ. Моральный арбитраж монаха был отчасти отодвинут на второй план в эпоху распространения западной правовой культуры, когда разрешение конфликта переместилось из чисто этической области в сферу формально-правовой практики [Taylor, 1987, с. 181].
Но многие функции монашества сохранены и даже стали интенсивнее. Например, моральный авторитет тайских монахов во второй половине века оставался достаточно высоким. Один из опросов показал, что 47,7% мирян считают своим долгом регулярно обращаться к ним за советами; 62,4% монахов делятся с мирянами своим мнением о предвыборных кампаниях [Suksamran, 1977, с. 16]. Примером активной деятельности сангхи в миру может служить ее участие, с санкции государства, в программах общинного развития (в Шри Ланке и особенно в Таиланде); наконец, тайская сангха вела миссионерскую работу среди небуддийских горных народностей северо-восточной части страны, сочетая такие задачи, как их чисто религиозное обращение, культуртреггерство и интегрирование окраины в государство (миссионерские программы «Дхамматхута» — «посланник Дхаммы» и «Дхаммачарик» — «странствующая Дхамма»).
Итак, в поиске разрешения в принципе неразрешимых дилемм «медитация — проповедь», «внутренний ритуал — внешняя активность» тхеравадинская сангха то рассыпалась на уходящие в лес группы аскетов, то глубоко проникала в мир, то замыкалась на цели «эгоцентрической» самокультивации архата, то становилась истинным центром «прихода» по модели праведных бодхисатт. Неудивительно, что в культурной атмосфере стран тхеравады XX в. одинаково актуальны два противоположных суждения: монаху надлежит упорно следовать по пути освобождения и монаху надлежит упорно работать среди мирян (молодые монахи объясняют последнюю ориентацию в духе «служения человечеству» [Smith D., 1965, с. 192]). В действительности, эти цели, по- видимому, неразрывно связаны.
При этом следует иметь в виду некоторые страновые отличия. Среди всех сангх бирманская традиционно выделялась как наиболее неотмирная и интровертная, что объясняется особым значением в Бирме абхидхаммической эзотерики и практики созерцания, распространением мистико-милленаристских микросект; временное послушничество и монашество всегда смягчало, однако, крайности этой «эгоистической» сотериологии. Ланкийская и кхмерская сангхи сочетали обе ориентации взвешенно. Наиболее контрастна в сравнении с бирманским монашеством, пожалуй, тайская сангха, откровенно повернутая лицом к пастве, выполняющая довольно широкий круг церемониальных и социальных функций. К тайской сангхе с ее повседневной ритуальной работой в наибольшей степени подходит христианское «Church», к тайскому монаху — христианское «priest» [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 360—361; Lehman, 1987b, c. 178—179; Корнев, 1987, c. 147—149]. Исходной фундаментальной антиномии медитации и проповеди эти различия, разумеется, не снимают.
Дана как игра обмена
Принцип dana («дар», «подношение») лежит в основе взаимосвязей сангхи и мира (монахов и мирян). С прагматической точки зрения он обеспечивает само физическое существование сангхи и материальную поддержку ее религиозной миссии; в плоскости символической он реализует разделение сфер и одновременно реализует взаимоотношение между сакральным и профанным. Мир производит материальные блага, но нуждается в духовности, сангха же, напротив, производит духовное, испытывая нужду в материальном. Отсюда — обменный характер принципа дана как частного случая универсального феномена дара.
Подношения монахам пищи, монашеских роб, других элементарных предметов обихода, объединяемые словом «дана», нельзя в строгом смысле рассматривать как жертву, ибо это противоречило бы духу тхеравады; ранний буддизм отрицал брахманистскую приверженность к жертвоприношению как ключевому элементу всякого ритуального действия (11). Жертва в неэтических религиях есть прямая сделка со сверхъестественным, основанная на ожидании вполне земных благ за жертвенную «плату». В буддизме жертва трансформируется в дар, и целью ритуального действия становится получение религиозной заслуги; иначе говоря, ожидание духовного блага за подношение смещается из области сиюминутной земной выгоды в область выгоды моральной. Подношение монахам, как и подношения Будде (его образу в храме) мыслится буддистом как добровольное действие, призванное не умилостивить сверхъестественную силу, не испросить у нее милости или благ, а утвердить свою волю к моральному совершенствованию [Southwold, 1983, с. 167].
——————————————————————————————————-
(11) «Пусть некто месяц за месяцем тысячекратно в течение ста лет совершает жертвоприношения, и пусть другой воздаст честь, хотя бы на одно мгновение, совершенствующему себя. Поистине, такое почитание лучше столетних жертвоприношений» [Дхаммапада, 106].
——————————————————————————————————-
Но эта специфика буддийского дара не отрицает обменного характера ритуалов данного типа, она лишь вносит в них два новых качества. Во-первых, обменивается материальное на духовное — amisadana на dhammadana (дар плотского, телесного, материального — amisam — на дар Дхаммы) [Семека, 1969, с. 77; Butr-Indr, 1979, с. 120—121]. Такой обмен сакрального на профанное воспринимается как нормальный способ оплаты некоей конкретной услуги монаха: ему платят за благословение или совет, за прорицание — как гадателю и хироманту [Краснодембская, 1982, с. 39]. Во-вторых, и это особенно важно, сама религиозная заслуга, или дхаммический дар, полученный в ответ на подношение, мыслится буддистом как накопление, как имущество, как то, что сейчас принято называть «моральным капиталом», который в будущем может найти земное, «посюстороннее» применение — в виде психологической уверенности в праведности собственного бытия, в виде будущего благополучия (в этой и в последующих жизнях), наконец, в виде социального престижа, которым в глазах ближних обладает религиозно живущий человек. Поэтому делающему дана не столь важно получить мгновенную, зримую компенсацию от монаха в виде церемониальных услуг, проповеди или просто совета; сам факт дарения магически производит ту моральную субстанцию — заслугу, которая впоследствии может превратиться в любой вид приобретений, вплоть до вполне материальных. Следовательно, дар не безвозмездный в строгом смысле. Речь идет лишь об отложенной компенсации и о появлении последующего звена — религиозной заслуги — как морального эквивалента в «игре обмена».
Откуда же берется эта моральная субстанция? Ее источник — усилия монахов, направленные на достижение высших сакральных целей, усилия, которые делают сангху «полем заслуг». Монахи — носители символической чистоты; в обмене, в который вступают с ними миряне, важна именно символическая сторона. Поэтому и предметы дара имеют часто не реальное, а символическое значение: даже подношение пищи в ряде случаев важно не столько для монахов (для их кормления есть и другие способы, например, трапезы, устраиваемые для них в монастыре), сколько для самих мирян, накапливающих заслуги с помощью дана. Оранжевые робы, принесенные в дар монахам, также могут передаваться (или даже перепродаваться скупщиками-мирянами) другим дарителям, которые подносят их вновь тем же монахам [Lubeigt, 1987, с. 58]. Предметы дарения ходят по кругу от мирян к монахам и обратно, выполняя главную символическую функцию в этой «игре обмена» — производя религиозную заслугу, в которой нуждается мир.
Такое символическое значение поддержки монахов особенно очевидно в XX в. К концу столетия традиционные утренние сборы монахами подношений пищи стали редкостью: как правило, сами миряне либо приносят пищу в монастырь в установленные дни [Gobmrich, 1971b, с. 294; Краснодемб- ская, 1982, с. 133], либо угощают монахов во время каких- либо домашних церемоний [Yamklinfung, 1978, с. 56]. Кроме того, в условиях современного города ритуалы дана выбиваются из строгого ритма, заданного деревенским ритуальным циклом: они отправляются чаще и независимо от сезона [Bunnag, 1973, с. 49]. Эту тенденцию можно считать некоторым отходом от канонических предписаний, в то же время юна подчеркивает социологически ключевую функцию ритуалов этого типа: перенесение сакральной энергии, или харизмы, на все общественное пространство.
В описанном обменном механизме заключена суть одной из важнейших антиномий сангхи; речь идет о накоплении и растрате харизмы. С одной стороны, монахи заняты собственным спасением (интровертная функция); приверженность этой высшей буддийской цели, подтверждаемая «усердием, напряжением, упорством и борьбой» [Ketokhila-sutta, М. N.], есть источник некоего объема сакральности; сангха предстает как предприятие по «производству» сакральных ценностей. С другой стороны, объем сакральности, произведенный тем или иным способом — либо с помощью того, что я обобщенно назвал «проповедью», либо через временное членство в сангхе мирян, либо посредством дана,— перемещается в профанный мир и утверждается в нем в качестве религиозной заслуги — харизмы, которая, в свою очередь, представляет собой моральную субстанцию, могущую превратиться и превращающуюся в такие земные ценности, как материальное богатство, слава, авторитет, влияние и власть. В каждый данный момент объем сакральности постоянен; сангха, передавая ее миру, утрачивает определенную часть; но одновременно автоматически ту же самую часть этого объема приобретает остальное общество — либо в лице его отдельных групп, либо в лице его отдельных членов, либо (возможный, но менее распространенный вариант) в лице целых институтов или «социальных позиций». Тот объем сакральности, которую теряет сангха, приобретает общество. В обмен за него сангха получает материальную поддержку.
Если исходить из этой схемы, можно предположить, что очевидное в XX в. обмирщение сангхи, ее глубокая вовлеченность в мир означают прежде всего то, что произведенный сангхой объем сакральности интенсивно перекачивался в общество, поскольку быстро меняющееся общество, общество в состоянии кризиса и возрождения (что было особенно характерно для середины века) всегда испытывает повышенную потребность в сакральном, в высоких и даже предельно высоких ценностях. Следовательно, обмирщению сангхи и буддизма в целом соответствовал параллельно идущий процесс — сакрализация меняющегося общества. Отсюда и религиозная инициатива мирян, и завоевание ими права на спасение, и моральное обоснование новых городских ролей, новых современных ориентаций.
Следуя описанной схеме обмена, легко объяснить обозначившуюся в XX в. тенденцию к сотрудничеству отдельных групп сангхи с отдельными группами мирян, или монахов-индивидов с мирянами-индивидами. Если согласно каноническим правилам связи сангхи и мира обезличены и монахи должны существовать за счет мелких подношений, то на практике у каждой группы монахов или у каждого монаха появляется определенное число личных дарителей или один личный даритель. При этом основная масса монахов ведет себя более или менее «канонически» в том смысле, что живет скорее на множество малых подношений массы рядовых дарителей, чем на небольшое количество крупных подношений богатых людей (подсчеты по бирманской деревне см. [Pfanner, 1966, с. 79]). Но чем выше положение монаха в иерархии сангхи и чем он влиятельнее, тем более предрасположен к контакту с отдельными, притом сравнительно богатыми и влиятельными мирянами. Иерархия в сангхе, место в которой обусловлено степенью религиозного знания, аскетического усердия или возрастом монаха, строится как бы параллельно иерархии общественных статусов, и члены одной из этих иерархий «находят» себе ровню в другой. Это объясняется просто: чем выше общественный статус дарителя, тем в большем объеме сакральности он нуждается, тем к более влиятельному монаху он обращает свою религиозность.
Но можно ли только этим объяснить чрезвычайно распространенную ситуацию, когда у монастыря или отдельного монаха появляется богатый покровитель (личный даритель)? М. Мендельсон описывает такой пример [Mendelson, 1975, с. 170]. По его наблюдениям, «встреча крупного монаха и богатого мирянина» в Бирме почти всегда ведет к образованию небольшой группы, собирающейся вокруг этого тандема основателей, один из которых делает духовный вклад, а второй — материальный. Группы, основанные на таком сплаве, обладают чрезвычайно большим влиянием: внутри них снимаются все различия между членами общенациональных, официально признанных сект [Mendelson, 1975, с. 170]. То, что группы формируются вокруг богатства, подтверждается корреляцией их числа с уровнем активности предпринимательства. Во всяком случае, некоторое оживление частного сектора в Бирме в 70-е годы, сопровождавшееся ростом таких групп, иллюстрирует эту связь [Tin Maung Maung Than, 1988, с. 36].
Вариантом обмена сакрального и материального являются зафиксированные в самое последнее время сближение и даже интенсивные контакты городской политико-экономической элиты и лесных отшельников-фундаменталистов. Факты покровительства элиты лесным «братствам» (samsthava) в Шри Ланке [Carrithers, 1983, с. 263] сходны с уже упоминавшимися фактами, зафиксированными в Таиланде. Если учесть, что лесное монашество в XX в. представляет собой фокус канонической чистоты, высшую концентрацию сакральности, то можно говорить об обмене дана на харизму между структурными центрами богатства и власти, с одной стороны, и структурным центром религиозности — с другой.
Но все это — лишь случаи nec plus ultra обычной традиционной нормы. На всех уровнях и во всех своих проявлениях принцип обмена духовного на материальное, сакрального на профанное, харизмы на покровительство существовал в истории тхеравады и существует сейчас. Необычные, гетеродоксальные формы обмена суть не столько нарушение старых правил, сколько приспособление сангхи к миру, превращение символа в институт.
Бедность и богатство
Бедность и презрение к материальному лежат в основе монашеского аскетизма и составляют часть парадигмы мироотказа. Минимум пищи, минимум личных вещей и ни малейшего прикосновения к деньгам. Более того, в идеале вся собственность монахов мыслится как собственность сангхи, а не отдельных ее членов.
Однако целый ряд факторов действовал в противоположном направлении: превращение сангхи в обособленный институт с корпоративными интересами; подношения, объем которых превышал потребности аскетической жизни; покровительство со стороны государства; появление личных дарителей. Все это делало первоначальный идеал трудновыполнимым в жизни.
Многие столетия сангха в странах тхеравады была крупным собственником земли, уступавшим лишь царской семье. Однако эта сторона монастырского богатства постепенно теряла значение, и теперь монастыри везде, кроме Шри Ланки, практически лишились земельных владений (12). Однако в XX в. сохранилась другая оригинальная форма богатства сангхи. Монахи никогда не занимались экономическими операциями сами, эту работу брали на себя миряне-попечители (монастырский комитет, совет старейшин и т. п.), что позволяло монахам сохранять верность кодексу дисциплины. На местном уровне очень часто такими людьми были именно наиболее богатые дарители, т. е. экономическая элита деревни или района. Де-факто они распоряжались своим собственным имуществом, оформленным в виде имущества сангхи.
——————————————————————————————————-
(12( Шри Ланка остается единственной страной тхеравады, где и в XX в. сохраняются крупные богатые монастыри. В 50-е годы сангха еще владела 376 тыс. акров земли [Leach, 1973, с. 40]; в центральной части страны до 10% обрабатываемой рисовой земли принадлежало к категории viharagam — монастырской [Evers, 1972, с. 18]. К началу 70-х годов, по подсчетам Х.-Д. Эверса, было 24 монастыря, открытый доход которых: превышал 10 тыс. рупий в год [Evers, 1972, с. 19].
——————————————————————————————————-
В доколониальном обществе в условиях государственного давления масса частных накоплений (имущества, полученного с помощью неподконтрольных государству экономических операций) переходила фактически или номинально во владение сангхи; Р. Тэйлор верно замечает, что государственный контроль над богатством сангхи есть также контроль над переходом богатства в частные руки [Taylor, 1987, с. 50]. В XX в. в Шри Ланке и Таиланде ограничения на частную собственность были резко ослаблены, и отпала необходимость в ее религиозном оформлении (сокрытии). Но в то же время часть этих новых свободных богатств переходила к сангхе в виде подношений (дана) в обмен на религиозную харизму. В Бирме объем подношений зависел от приливов и отливов в частной активности и от размеров частных богатств. Можно заключить, что в отличие от общепринятой традиционной модели в XX в. имущество сангхи. связано с крупными частными состояниями более прочно, чем с богатством казны.
Одновременно менялось соотношение имущества сангхи в целом (sanghika) и личного имущества монахов (puggalika). Коль скоро появлялось много богатых личных дарителей, росла собственность второго вида [Mendelson, 1975, с. 127— 129]. Стиралась и разница между двумя видами. Если sanghika является канонической нормой, a puggalika, как говорит М. Мендельсон, есть «компромисс с человеческой природой» [Mendelson, 1975, с. 126], то человеческая природа несомненно брала верх.
По-видимому, в истории тхеравады были отдельные сходные периоды; естественно предположить, что в принципе сангха (за исключением официального «церковного» истеблишмента) заинтересована в свободном росте неконтролируемых частных состояний, в которых она видит источник (в допустимой мере) своего благополучия. Это подтверждается весьма единодушным осуждением монахами политики национализации экономики или эквализации имуществ; такая политика неизменно объявляется ими нарушением заповеди «не укради» [Smith D., 1965, с. 300].
Каков общий объем дана в сфере влияния одного монастыря и в масштабах общества в целом? Иначе говоря, сколько стоит обществу содержание сангхи? Ввиду большого разброса размеров подношений в зависимости от статуса дарителя и реципиента такие подсчеты очень сложны. Полевые материалы дают следующий диапазон цифр. По сообщению М. Мендельсона, 1,2% бюджета бирманской деревенской семьи уходит на подношения (в виде пищи) монахам {Mendelson, 1975, с. 119]; по мнению Д. Пфаннера и Я- Ингерсола, в деревнях Бирмы и Таиланда на эти цели выделяется 4—6% доходов [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 348]; по тайским официальным данным за 50-е годы — 5—10% доходов в среднем по тайской деревне [Lester, 1973, с. 149]; у Ф. Мехдена приведена цифра 14,3% l[Mehden, 1986, с. 115]; М. Спайро называет самую высокую цифру — 25% [Spiro! 1970, с. 110]. К сожалению, данных по городу в моем распоряжении нет, так же как и данных, которые бы позволили проследить динамику этого показателя по годам. Так или иначе, сангха стоит довольно дорого, несмотря на аскетические нормы, сдерживающие накопления. Радикалы-секуляристы часто объявляли подношения монахам бесполезно растрачиваемой частью национального богатства. В действительности стоимость сангхи, по-видимому, соответствует ее месту и роли в обществе, уровню его потребности в религиозной харизме, получаемой в обмен на дана.
Интересно посмотреть на антиномию бедности и богатства сангхи в иной плоскости. Каково среднее экономическое положение монахов в сравнении с мирянами? По-настоящему зажиточный, а тем более богатый (в прямом смысле слова) монах — это явное исключение, грубое нарушение аскетической нормы (разумеется, богатство влиятельного мирского покровителя в сектах или союзах описанного выше типа не в счет). Другое дело — богатый монастырь (особенно в Шри Ланке). Но в сравнении с массой рядовых мирян рядовой монах обладает одним важным преимуществом — экономической безопасностью; по-видимому, это серьезная компенсация бытового аскетизма. М. Спайро, проводивший опросы, приходит к выводу, что наиболее частые мотивы пострижения (если вынести за скобки чисто религиозные мотивы) — поиск легкой жизни, стремление избежать мирских забот, «уйти от ответственности» [Spiro, 1970, с. 332—334]. С. Пайкер, опираясь на расхожее мнение, подтверждает, что монахи живут лучше и счастливее (тайск.— sabai), чем миряне [Piker, 1973, с. 52],— именно счастливее, т. е. беззаботнее. Для бедных и сирот, замечает Ж. Кондоминат пострижение означает прежде всего безопасность и уверенность в необходимом минимуме [Condominas, 1973, с. 57]. Совершенно очевидно, и это подтверждается преобладанием выходцев из деревни в современных городских монастырях, что сангха притягивает, как правило, людей сравнительно бедных; они получают некоторую гарантию существования в чисто материальном смысле, а вместе с ней и прочную социальную защищенность. Несомненно и то, что сакральный статус дает также моральное восполнение сравнительной экономической приниженности, способствует социальному самоутверждению выходцев из бедных слоев.
Особая ситуация сложилась в Шри Ланке, где сангха и общество соотносятся несколько по-другому и где значительная собственность сангхи — давняя традиция. Здесь, как правило, сангху пополняют выходцы из более или менее зажиточных семей. Что касается материковой части буддийского мира, то здесь типичное происхождение монахов можно определить такой формулой: ниже среднего уровня, но не самые бедные. Люди из этих слоев, принимая постриг, получают не только экономическую безопасность и моральные дивиденды для себя и своих семей, но и определенные шансы улучшения экономического статуса. В последнем случае речь идет о временном монашестве. Это бывает не очень часто, но весьма характерно для нашего века. За годы пострига человек тем или иным способом (через дана, оформленное как собственность puggalika, через сотрудничество с зажиточным покровителем и т. д.) может сделать накопления, которые после расстрижеиия становятся его мирской собственностью. Если к этому добавить религиозную харизму, укрепляющую его статусное положение в миру, то вероятна, например, удачная женитьба расстриги. Ревнителями канонической чистоты такая практика в целом порицалась [Skrobanek, 1976, с. 122], но нельзя не заметить, что в самой антиномической структуре сангхи такие возможности заложены. Так, например, описанный выше обменный механизм способствует определенному отклонению монашеской жизни от полюса символической бедности в сторону практических выгод.
Чуждость и свойскость. Универсализм и партикуляризм
Согласно символической логике, идеален монах-чужак, отгороженный от мира стенами монастыря и связанный со своей паствой не более, чем того требуют культовые задачи. Чуждость — лучшее средство от соблазна привязанностей, лучшее условие независимости; кроме того, чуждость — символ инаковости и необычности, питающих восприятие сакрального (13). Ординация монахов в их родных местах, кажущаяся естественной, на самом деле — не столь обычная практика. Напротив, есть свидетельства о том, что монахи селятся в монастырях, расположенных в других местах [Mendelson, 1975, с. 133]. Если говорить о монастырях современных тайских городов, то в них обитают в основном чужаки — выходцы из деревни (около 70% в г. Аютхая и 75% в Чиангмае) [Bunnag, 1973, с. 45; Keyes, 1975, с. 66]; причина — в новых ориентациях горожан и традициях деревенской религиозности, однако и символизм чуждости, как уже отмечалось, здесь несомненно присутствует (14).
——————————————————————————————————-
(13) В. Тэрнер включает чуждость в понятие «лиминальность» (пороговость), обозначающее отмену повседневной структуры как основной принцип всякого «ритуала перехода». Он, в частности, пишет, что лиминальность в традициях мировых религий застыла в виде «длительных состояний» (монашества). «Христианин — чуждый в этом мире, пилигрим, странник, которому негде приклонить главу… Нигде институционализация лиминальности не обозначается и не определяется более ясно, чем в монашестве как институте великих мировых религий» [Тэрнер, 1963, с. 180].
(14) Деревенское происхождение большинства городских монахов, естественно, создает феномен «непривязанности», поддерживающей авторитет сакрального института. Кроме того, в городах, по контрасту с деревней, большинство мирян не связано с определенным монастырем [Keyes, 1975,. с. 66]. По-видимому, все это сдерживает тенденцию к стиранию грани между sacrum и миром, о которой говорилось выше.
——————————————————————————————————-
Но институциональная логика и связанные с ней психологические предпочтения повышают роль свойскости в восприятии монаха; связи его с миром в той или иной форме восстанавливаются. Как сангха не может удержать символическую удаленность, так ей не удается сохранить и символическую чуждость. Даже если монах родом из чужих мест, он со временем делается «своим», включаясь в местные связи (и не только ритуальные). К «своим» монахам миряне относятся, как правило, почтительно, к чужим, с которыми они сталкиваются в силу обстоятельств,— весьма прохладно [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 353]. Тем более это касается настоятеля монастыря — монаха высокого ранга; в деревнях он остается влиятельной фигурой, прочно вовлеченной в местные социальные отношения. Каждый монах кроме некоей, условно говоря, безличной массы «кормящих» его мирян имеет и некоторое число личных дарителей, опекающих его (и получающих взамен духовные дары) на постоянной основе. По подсчетам М. Мендельсона, около двух третей монахов имеют от одного до девяти таких личных дарителей [Mendelson, 1975, с. 168]. Можно сказать, что превращение монаха из чужака в «своего» заложено в самом обменном принципе связей сангхи и мира.
Идеальная сангха, сангха как символ неотмирности — универсалистична; бездомный искатель спасения разрывает все связи — родственные, групповые, классовые и пр. Сангха — «братство», «коммуна», члены которой изначально равны; в социальном смысле это tabula rasa, на которой «записывается» принципиально новая, религиозная конфигурация ролей и статусов. В действительности, встроенная в общество сангха тысячекратно дробится, и ее символическое влияние рассеивается по группам и интересам.
Родство, например, насквозь пронизывает сангху. Личные дарители, о которых шла речь, проживают (по опросам), как правило, в тех же местах, откуда родом монахи; не вызывает сомнений, что большинство их — родственники, монахи уходят из дому, но не всегда порывают с домочадцами. И здесь действует обменный принцип дана: родственники покровительствуют своему монаху, его монастырю; взамен они получают от него либо практическую помощь (скажем, опеку над обнищавшим или оказавшимся в сложной ситуации родственником, предоставление монастырской территории, возможно, содействие в материальных делах), но кроме того, и это главное, сам факт его монашества, а также ряд ритуалов позволяют им получить часть его харизмы, его заслуг, накопленных благодаря религиозному усердию. Такая «передача» заслуг воспринимается почти как сыновний долг, точно так же как отцовским долгом считается материальная поддержка сына-послушника и сына-монаха [Tambiah, 1970, с. 376].
В литературе по сингальскому буддизму подробно описано правило «ученического наследования» (sivuri paramparava), согласно которому старший монах монастырской резиденции (пансала) выбирает себе ученика и опекает его вплоть до полной ординации (в двадцатилетием возрасте); ученик становится как бы «религиозцым наследником» учителя [Gombrich, 1971, с. 294; Gothoni, 1986] (15). Разумеется, наследуется также собственность сангхи, закрепленная за данным монастырем. Духовная преемственность, «воспроизведение» учителя в ученике, характерное для восточной религиозности, и материальное наследование здесь прочно взаимосвязаны. Интересно, что выбор старшего монаха очень часто падает на его племянника (сына сестры); между прочим, отношения дяди и племянника (сына сестры) в сингальском обществе играют ключевую роль, что отражается и на отношениях внутри сангхи. Но особенно важно то, что сам духовный сан остается в роду, является предметом родственного наследования; трудно представить более парадоксальную ситуацию: в роду остается традиция безродности, наследуется принцип разрыва родственной преемственности! Однако то, что кажется абсурдом с точки зрения религиозно-символической буддийской логики, оказывается социальным фактом, подвластным логике институциональной. Племянник-ученик играет роль сына-наследника, монастырь зеркально отражает социальную структуру; отношения «учитель — ученик» и родственные отношения повторяют друг друга.
——————————————————————————————————-
(15) Первое известное упоминание об этой норме на Ланке содержится уже в надписи X в. [Evers, 1972, с. 16]. Эта норма действует также в Бирме (хотя там она менее распространена) и в Таиланде (еще меньше) [Tambiah, 1976, с. 352].
——————————————————————————————————-
То же касается других социальных связей, дробящих сангху на отдельных индивидов, резиденции, монастыри, группы и секты. Это видно на примере каст в Шри Ланке, которые, правда, никогда не были, как в Индии, несущей конструкцией социальной структуры. Монополия ведущей касты гоигама на монашеский сан, закрепившаяся по крайней мере с XIII в. [Kemper, 1978, с. 215], определяла социальные связи сангхи и ее землевладельческие права (16). Эти монопольные связи объяснялись особенностями Канди — естественно изолированного, искусственно закрытого, автономного и сравнительно стабильного центрального района Шри Ланки, где гоигама обладали ключевыми позициями и в экономике, и в религии (см. [Gothoni, 1986, с. 18—20]). Оформление в 1753 г. секты Сиам-никая было отчасти закреплением сложившихся кастовых преимуществ. Создание двух других общенациональных монашеских сект — Амарапура-никая (в 1802 г.) и Рамання-никая (в 1864 г.) — было религиозным отражением социального протеста других каст (и в целом — прибрежной периферии) против преимуществ гоигама (и центра), стремления к доступу к сакральному сану и, следовательно, к более высокому статусу. В XX в., несмотря на то, что две младшие секты декларировали свою бескастовость, каждая из них была связана с определенными кастами [Gombrich, 1971b, с. 311].
——————————————————————————————————-
(16) Р Готони считает, что влияние каст в религиозных вопросах сложилось лишь в XVI—XX вв. [Gothoni, 1980, с. 14]. По сообщению первых европейцев, побывавших на Ланке, в сангху вступала только «знать» (из касты гоигама) [Gombrich, 1971b, с. 307—-308]. До сих пор обращение к монаху и мирянину-гоигама одинаково: hamdru (господин) [Southwold, 1983; c.215].
——————————————————————————————————-
В материковых странах тхеравады зависимость отдельных групп монахов от частных мирских интересов столь же очевидна. Настоятели монастырей избираются с согласия и при участии сильных мира сего, и эта практика, по крайней мере в Таиланде, даже официально признана [Condominas,. 1973, с. 53; Mulder, 1969, с. 19, 42]. Провинциальная верхушка во многих случаях совершенно подчиняет себе монастырь, определяет его материальные возможности, вплоть до установления для всех мирян размеров подаяний и доли в проектах религиозного строительства [Turton, 1987, с. 81]. В современном тайском городе каждый монастырь имеет определенный, хотя и весьма текучий состав покровителей. В целом, религиозная харизма, по идее универсальная и предназначенная для всех, дробится на религиозно-мирские союзы, основанные на обмене. Интересы, нормы и ориентации мирских групп превращают сангху в густую сеть едва связанных друг с другом «пучков отношений» — родственных, соседских, классовых и пр.
Объединение и фиксация различий
Итак, мы незаметно перешли от анализа самой сангхи к вопросам ее взаимосвязи с окружающим светским миром. Ключом к этому взаимодействию является описанный механизм обмена, который тысячью нитей связывает эти две параллельные структуры. Выше было показано, как мир влияет на сангху, теперь посмотрим, как организуется светское общество в процессе своего взаимодействия с сангхой.
Первое, что бросается в глаза,— это социоинтегрирующая функция монастыря. Монастырь — символ социального универсализма, образ всеобщего равенства или, используя термин В. Тэрнера, образ «антиструктуры», воплощение «коммунитас» [Тэрнер, 1983, с. 170—171]. Монастырь делает всякую иерархию в сфере своего влияния относительной, формирует вокруг себя моральную общину равных, вынесенную за скобки всяких различий. Таков идеальный пафос монашества. Таков смысл всеуравнивающих желтых роб, выбритых голов, чаш для подаяний, монастырского коммунального быта. Ту же роль интегрирующей силы играют ритуалы, церемонии, праздники; они не только дают ощущение единства в масштабах конкретного «прихода», но и поддерживают связи между различными «приходами» (междеревенские, общегородские связи, наконец, общенациональная интеграция — через обмен визитами на праздники, приглашение монахов из других мест, паломничества и т. д.) (17).
——————————————————————————————————-
(17) О межрайонных связях через монастырь см. [Terwiel, 1976, с. 402; Pfanner, 1966, с. 87]. О паломничестве как форме этнорелигиозной интеграции в национальном масштабе говорит Г Обейесекере [Obeyesekere, 1979b, с. 290]. О сотрудничестве и «культурной диффузии» по этим каналам см. [Spiro, 1970, с. 470—471].
——————————————————————————————————-
Значительна роль сангхи в социализации детей (через институт временного послушничества, который сейчас существует в основном в деревне) [Yamklinfung, 1978, с. 68]. Разумеется, интеграция через сангху — и об этом можно сказать с уверенностью — в XX в. поколеблена упадком традиционных родственных и социополитических связей, с которыми она была сплавлена (см., например, [Obeyesekere, 1977, с. 387]). Но, несомненно, буддийское моральное единство и до сих пор в значительной мере связано с сангхой, как образом «коммунитас». Это и позволяет считать сам монашеский орден, как говорит А. Кирш, «скелетом тайской нации как моральной общины» [Kirsch, 1977, с. 251]. На фоне бесконечного и подчас хаотического потока событий, социальных союзов и разрывов, катаклизмов и войн, перемен и превращений, выпавших на долю стран тхеравады в этом столетии, монах и монастырь сохраняли относительное постоянство, некий образ вечности. Символически отрицая явную общественную структуру и являя собой принципиально иной, коммунитарный неотмирный идеал, сангха фактически предлагала скрытую, в известном смысле «теневую» структуру социальных связей, своего рода инфраструктуру, последний рубеж структурности, выходящей на поверхность в кризисные моменты, когда повседневные связи разрушались.
Например, эта инфраструктура сделалась явной во время революционного кризиса в 1988 г. в Бирме. Тотальный общественный кризис поставил общество на грань анархии и социального хаоса, и тут выяснилось, что последним оплотом порядка являются именно местные околомонастырские связи. Провинциальные монастыри аккумулировали все эти местные связи, фактически «монастырские комитеты» стали органами власти. Парадокс заключался в том, что коммунитарное, мироотвергающее учреждение превратилось на время в чрезвычайный, мироорганизующий орган. Такое положение длилось недолго (возможно, один-два месяца), но оно обнажило ту интегративную функцию сангхи, которая в стабильные периоды несколько затемнена, скрыта.
Другую функцию можно назвать социографической. Монастырь — это общество в миниатюре, сангха — зеркало, отражающее социальную картину. Социографическая функция противоположна и нивелирующей (объединяющей). Социография заключается в следующем: харизма, в поисках которой люди обращаются к сангхе (постригаясь, делая подношения), дробится на индивидуальные и групповые порции и как бы скрепляет ту или иную совокупность связей, группу, иерархию и т. д. Классическим примером ритуальной социографии, хотя прямо и не связанной с сангхой, была ежегодная (до середины 70-х годов) процессия лодок в Луангпхабанге; порядок движения лодок четко обозначал лаосскую космосоциальную иерархию [Zago, 1972, с. 362—363; Reynolds F., 1978d]. Другой пример — формирование социальных групп на основе совместного временного пребывания в монастыре; сложившиеся отношения сохраняются длительное время и после расстрижения [Moerman, 1966, с. 168]. Сфера влияния того или иного монастыря очерчивает границы той или иной группы на единой компактной территории [Condominas, 1973, с. 40], Ж. Кондоминас фиксирует случаи, когда совместное участие в религиозном строительстве (того или иного монастырского здания, пагоды и т. д.) кладет начало новой группе или оживляет, закрепляет старые связи [Condominas, 1973]. Эта религиозная акция, как и всякое ритуальное действие, играет роль благословения, духовной санкции новой групповой солидарности.
Тщательно проанализировав структуру связей и взаимозависимостей между монастырем и «приходом», можно безошибочно составить схему родственной, социальной, политической дифференциации в «приходе». На языке подношений (дана) можно записать социальные роли. Связь «монах— личный даритель» — это либо родственная связь, либо покровительство богатого соседа или знакомого; размер подношений определяет статус дарителя; в состав посреднического «монастырского комитета» входят, как правило, местные влиятельные люди [Moerman, 1966, с. 162—163]. Очень важно, что подношения всегда носят характер публичной демонстрации, они рекламируются, и чем крупнее дарение, тем больше рекламы; они записываются в специальные «книги учета заслуг», либо постоянные (при монастырях), либо заводимые по поводу какого-либо семейного торжества, предполагающего церемонии дана. Необходимость в публичности психологически объясняется, как считает К. Леман, желанием получить уверенность в том, что подношение дало нужный эффект в виде религиозной заслуги [Lehman, 1987а, с. 580]; но кроме того, это верный способ зафиксировать размер подношения и престиж, ему сопутствующий.
Как уже было сказано, во всех странах тхеравады, кроме Шри Ланки, временное пострижение является rite de passage. Это значит, что сангха не только отражает, подобно зеркалу, не только фиксирует социальную стратификацию, но и меняет ее. Монашество — один из немногих традиционных каналов социальной мобильности.
Если говорить о горизонтальной мобильности, то среди монахов она в целом выше, чем у членов их семей и прочих мирян: часто постриг принимается не в родных местах, возможна и смена монастыря, а затем выход из сангхи и устройство на новом месте. В XX в. это был один из распространенных способов миграции из деревни в город, где выходцы из крестьян в конце концов оседали [Bunnag, 1973, с. 44]. Но смена деревни на город в асимметрично развивающемся обществе — это и смена статуса. Вертикальная мобильность через сангху подтверждается множеством примеров. Именно на этом основании С. Тамбайя оспаривает выводы М. Спайро о типичных мотивах пострижения в странах тхеравады. В отличие от Спайро, выделяющего «желание уйти от ответственности» и «поиск беззаботной жизни», С. Тамбайя считает главным мотивом (за исключением чисто религиозных) именно повышение статуса [Tambiah, 1976, с. 309]. Это не значит, что все экс-монахи достигают цели, лишь немногим удается заметно подняться в социальной иерархии; но почти все так или иначе получают несомненные преимущества и возможности для мирского успеха.
В Сиаме еще во второй половине XIX в., по подсчетам Д. Вятта, около половины монахов, получивших высшее религиозное образование, вышли из сангхи, и 30% из их числа поступили на службу в государственные учреждения; по другим данным, с 1870 по 1890 г. почти 60% таких монахов покинули сангху, и большинство их получили достаточно высокие светские посты. «Эти преуспевавшие экс-монахи были, как правило, выходцами из социально приниженных слоев (пхрай — “простолюдинов”)» [Wyatt, 1966,—Цит. по: Tambiah, 1976, с. 289—292] (18). Примерно такая же картина была характерна для 50—60-х годов XX в. С. Тамбайя пишет о большой доле расстриг, многие из которых проникли в истеблишмент и достигли высоких должностей, вплоть до министров [Tambiah, 1976, с. 47, 293]. То же самое было и остается в провинции на уровне деревень, только здесь более скромные преимущества, ибо исключается фактор элитарного религиозного образования (19). Полевые исследования показали, что в Лаосе покидающие монастырь получают определенные титулы (они различаются в зависимости от длительности пострига), которые ставятся перед личным именем и закрепляются на всю жизнь [Condominas, 1973, с. 63]. Такие же престижные титулы есть и в Таиланде (maj и nan) [Moerman, 1966, с. 155]. Очень часто экс-монахи входят во влиятельные «монастырские комитеты», занимают разные околорелигиозные должности или даже являются религиозными лидерами деревень (не будучи уже в сангхе) [Condominas, 1973, с. 65—66; Tambiah, 1970, с. 129]. Другой пример. Покинувший сангху «настоятель» (главный монах) был избран деревенским старостой [Ingersoll, 1966, с. 62]. Человек, проведший некоторое время в монастыре, по общему мнению, «созревает», становится «зрелым» (тайск. sug), в то время как другие, не вкусившие религиозных плодов, еще «сыры», «незрелы» (dip) [Kirsch, 1977, с. 250]. Эти характеристики получают интересное преломление в преимуществах, которые «зрелые» (т. е. побывавшие в сангхе) имеют, как пишет А. Кирш, «на рынке женихов» [Kirsch, 1977 ]— в глазах общества они «созрели» для женитьбы, получили для нее моральное основание (монашество есть также и акт инициации) (20). Строжайшее сексуальное воздержание в монашестве оборачивается матримониальными преимуществами; этот пример инверсии ценностей подтверждает параллельный и взаимообусловливающий характер сакральных и земных «накоплений».
——————————————————————————————————-
(18) Д. Вятт был, возможно, первым, кто уделил повышенное внимание проблемам мобильности через сангху. О подобном явлении в доколониальном Лаосе см. [Stuart-Fox, 1983, с. 60]. Примерно в то же время бирманский правитель Миндон устраивал специальные религиозные экзамены (патхамабьян) для выявления среди монахов кандидатов на государственную службу [Taylor, 1987, с. 30].
(19) Сам по себе доступ к образованию и здесь играет важнейшую роль. Для бедных деревенских жителей сангха дает иногда единственную возможность получить образование. Целью переселения монахов из деревни в город часто является именно это [Bunnag, 1973, с. 44].
(20) Кхмерские монахи, так сказать, злоупотребляя служебным положением религиозным статусом, стремились получить согласие девушек выйти за них замуж после расстрижения. Приказом министерства внутренних дел и культов от 1920 г. эта практика запрещалась [Bizot, 1976, с. И].
——————————————————————————————————-
Сангха и политика: вне власти, опора власти, оппозиция власти
Принципы отношений сангхи и светской власти можно выявить на основе выводов, сделанных выше: 1) взаимоотношения сангхи и светского общества построены на обмене материального покровительства на харизму; 2) харизматическая сила, которой обладает или сангха в целом, или ее часть, или отдельный ее представитель, зависит от сложного сочетания символической отвлеченности и мирской вовлеченности; 3) влияние сангхи осуществляется как «растрата харизмы», что ведет к «самоисчерпанию», и вызывает потребность в восстановлении харизматической силы; 4) сангха может выполнять как социоинтегрирующую, так и социодифференцирующую функции; 5) сангха может играть роль охранителя общественного порядка и в то же время так или иначе способствовать индивидуальной и групповой мобильности и быть одной из сил, стремящихся к трансформации лого или иного порядка.
Главный узел проблемы «сангха и власть» — это отношение сангхи (или ее части) к политическому статус-кво. Сангха встроена в общество как иная структура, как символический образ неземного, метафизического порядка; выше я назвал ее «инфраструктурой», имея в виду, что густая сеть ее связующих нитей отчасти скрыта, невидима. Но эту скрытую, иную структуру можно интерпретировать двояко: как структуру, параллельную светскому политическому миру (иерархия монашеского благочестия параллельна иерархии власти), и как альтернативную структуру (религиозная харизма как «моральный капитал» — альтернатива земным, профанным приобретениям, таким, как власть и богатство). Если рассматривать сангху в качестве параллельной структуры, то ее обычной функцией следует признать освящение, легитимацию политического статус-кво, выполнение роли его священной опоры. В качестве альтернативной структуры сангха может выступать как динамическая сила, способная аккумулировать и выражать мнение политической оппозиции и протест.
Эта двойственность видна в оценках традиционных взаимоотношений сангхи и государства. Например, С. Тамбайя считает, что в истории тхеравадинских обществ расцвет сильной светской (царской) власти сопровождался усилением сангхи; сила сангхи как идеологического института «пульсировала» в унисон с политической мощью центра [Tambiah, 1978, с. 115]. Р. Тэйлор делает прямо противоположный вывод (в отношении Бирмы): сила светской власти и сила сангхи обратно пропорциональны друг другу ([Taylor, 1987,. с. 50].
И в той, и в другой оценке есть доля истины, однако обе они односторонни. Соотношение здесь более тонкое: на протяжении всей истории стран тхеравады в условиях существования мощной светской власти сангха, как правило, выступала в качестве параллельной структуры, и, таким образом, на первый план выходила функция обоснования светского порядка, освящения власти; в периоды же ослабления государства в сангхе доминировало ее альтернативное качество и на первый план выходила функция трансформации (обоснования ее) светского порядка. Если в первом случае преобладает тенденция к совпадению или союзу центра светской силы и центра сакральности, то во втором — сакральный центр как бы смещается на светскую периферию: центральная власть утрачивает сакральную поддержку, а оппозиционные социополитические группы, напротив, обретают ее.
В каждый момент эти две испостаси сангхи сосуществуют: ее официальная иерархия (формальный руководящий истеблишмент) находится в союзе с правящим светским режимом, в то время как рассредоточенная в обществе сеть ее неформальных групп, сект, течений и т. д. остается неподконтрольной правящему режиму. Все эти группы, секты, течения— независимые носители харизмы, которую они могут передавать или «продавать» (обменивать) оппозиционным, приниженным, периферийным группам и политическим силам.
Объем сакральности, которым располагает сангха или ее часть, тем больше, чем большей независимостью, несвязанностью с миром (в частности, с властью) и, следовательно, исконной религиозной чистотой она обладает (см. [Lehman,-1987b, с. 171]). Поэтому в политической игре, в процессе поиска сакральной легитимации власти светские силы с особой настойчивостью добиваются союза с такими влиятельными религиозными группами. У правящей светской власти есть два пути: либо свести к минимуму, подавить эти альтернативные источники харизмы, притягивающие политическую оппозицию, либо, напротив, вступить в соперничество с оппозицией за эти источники, перехватить у нее инициативу и в конце концов инкорпорировать эти неформальные группы сангхи в формальную, подконтрольную центру систему «союза алтаря и трона», и использовать их в своих целях, т. е. перевести эти группы из альтернативной плоскости? в параллельную.
На протяжении всей истории стран тхеравады светская власть неизменно стремилась превратить сангху в свою опору. Как безусловно крупнейший покровитель и даритель, монархический центр всегда получал (по принципу обмена материального на духовное) наибольший объем сакральности. Контролировать сангху в максимально возможной степени — значит контролировать «ресурсы религиозной харизмы», которые не менее важны, чем материальные или людские. В XX в. лучшим примером «союза алтаря и трона» может служить Таиланд, где общенациональная иерархия сангхи носит характер государственного идеологического института, организованного строго параллельно светской администрации. Три государственные реформы сангхи — в 1902, 1941 и 1962 гг. имели одну цель: централизовать, подчинить, унифицировать сангху, поставить ее под государственный контроль [Tambiah, 1976, с. 238]. Эти реформы — точная копия длинного ряда сходных акций, предпринимавшихся во всех странах тхеравады на всех этапах истории, как правило, в периоды усиления центра, бравшего на себя миссию очищения ордена. Однако, за этим праведным, чисто религиозным намерением всегда стоял другой, вполне политический мотив: приостановить дисперсию сакральных ресурсов, перекрыть доступ к ним оппозиции. В Лаосе до начала 70-х годов сохранялся, как и в Таиланде, строгий параллелизм светской и сакральной администрации [Condominas, 1973, с. 53]. В Бирме 50-е годы прошли под знаком утверждения «государственной религии» и попыток «регистрации» сангхи, т. е. создания того же параллелизма; схожие усилия предпринял режим «бирманского социализма», все-таки добившийся после неудач в 60-е годы «регистрации» монахов (хотя и весьма поверхностной) и созвавший в 1980 и 1985 гг. две конгрегации сангхи, которые провозгласили создание огосударствленной орденской структуры (21).
——————————————————————————————————-
(21) Учредительные документы конгрегации 1980 г. не оставляют сомнений в том, что замысел режима заключался в создании подчиненной ему сангхи. Интересно, что органам власти (народным советам) давалось право вмешиваться в вопросы религиозной дисциплины, если сангха окажется неспособной блюсти ее своими собственными силами [Taylor, 1987, с. 358]. Кроме того, запрещалось создание новых сект. Монахам выдавались специальные удостоверения [Tin Maung Maung Than, 1988, с. 42 43].
——————————————————————————————————-
Выше говорилось, что сангхе изначально свойственна скорее дисперсная, рассредоточенная структура, чем крупная иерархическая организация. Поэтому создание последней всегда было делом светского государства. Ответом же становилось глухое, пассивное или открытое сопротивление монашества. Преобладание светской власти над духовной в тхеравадинских обществах (в отличие, например, от христианских) никогда не ставилось под сомнение (см. [Мартынов, 19876, с. 6]) — сама сангха не предлагала и не могла предложить политически организованной альтернативы. (Было бы ошибкой рассматривать сангху как единую организованную политическую силу.) Однако никогда не было и полного подчинения; для сангхи было более естественным «свободно располагать харизмой» для открытого обмена с разными силами, имеющими на нее спрос.
Поэтому не следует преувеличивать степень контроля, даже когда она была наиболее высокой. События 1987— 1988 гг. в Бирме показали, что сангха осталась непокорной, а значит, и истинная цена «унификации» начала 80-х годов невысока. И даже в Таиланде вполне лояльная администрация сангхи — фасад, за которым скрывается разрыв между истеблишментом и массой монахов [Mulder, 1969, с. 28]. Опорой политических режимов служили и служат высшие иерархи; именно их влияние «пульсирует» в такт с государством, и чем ниже ступени иерархической лестницы, тем меньше эта зависимость. Не случайно масса членов «лояльной и покорной» тайской сангхи вышла на улицы во время демократического взрыва в середине 70-х годов.
И все же тайский тип отношений государства и сангхи наиболее стабилен и наиболее близок к традиционной модели взаимодействия двух параллельных структур. В остальных странах тхеравады в XX в. преобладает противоположная модель — альтернативность. Обе модели, как уже говорилось, в прошлом чередовались или сосуществовали, но с XIX в. в ход их истории вмешался такой мощный фактор, как колониализм. Таиланд сохранил суверенитет, а вместе с ним — традиционный «союз алтаря и трона»; после 1932 г. монархия из монопольной государственной силы превратилась в высший символический институт, осуществлявший, в частности, посредничество между государственной властью и сангхой. Так или иначе, в Таиланде поддерживалась традиция «государственно-духовного равновесия». Во всех остальных странах, оказавшихся в зависимости, произошел драматический раскол между центром силы и центром сакральности, сангха (даже ее высшая иерархия) была лишена государственного покровительства (просто потому, что само колониальное государство не нуждалось в буддийской харизме) (22). По инерции этот раскол продолжался и в постколониальное время, попытки же заново интегрировать сангху (как видно хотя бы на бирманском примере) были неудачны; похоже, что этот процесс необратим.
Сангха оказалась «беспризорной»; она рассыпалась на локальные группы, гетеродоксальные и милленаристские секты; монашество сильно политизировалось (23); монастыри, используя свое влияние, стали поддерживать союз с политической оппозицией, обездоленными и диссидентами. Когда сангха становится независимой, она притягивает к себе политически недовольных [Lehman, 1987b, с. 172] (24). Если монашество само по себе является rite de passage, сменой статуса, каналом вертикальной мобильности, т. е. альтернативой светской властной иерархии, то можно считать естественной внутреннюю готовность сангхи выразить недовольство или по крайней мере сакрально его обосновать.
——————————————————————————————————-
(22) Во французских протекторатах ситуация формально была несколько иной, но фактически отрыв сангхи от реальной светской власти был очевиден.
(23) До середины 70-х годов Таиланд не знал «политических монахов», которые давно и активно действовали в Бирме и на Ланке; теперь вывод об аполитичности тайской сангхи [Tambiah, 1976, с. 461; Skrobanek, 1976, с. 151] необходимо скорректировать: это только относительная аполитичность.
(24) Так было во все времена. Этому способствовало то, что монастыри гласно или негласно считались местом убежища для аутсайдеров. Ланкийские монастыри обладали территориальным иммунитетом от вторжения чиновников или воинов, обеспечивая политическое убежище [Семека, 1969, с. 56-58]. Бирманская средневековая секта аран, расцветшая в период, кризиса власти, — еще один пример.
В совсем ином культурном контексте Китая, где господство официального конфуцианства не оставляло буддийской сангхе никаких политических возможностей, все же просматривается та же схема: при всей подконтрольности открытой сангхи государству (вплоть до контроля над рекрутированием, содержанием проповедей, кругом используемых сакральных текстов) существовали и буддийские тайные общества, аккумулирующие недовольство и оппозицию [Кычанов, 1987, с. 81].
——————————————————————————————————-
Монахи были самой активной силой антианглийских восстаний в Бирме в конце XIX в. [Всеволодов, 1978, с. 108— 115; Taylor, 1987, с. 159]; кризис колониального правлении и движение за независимость в 20—30-х годах породили новый феномен — «политических монахов», прямых участников политического процесса в Бирме и Шри Ланке (25). Позднее, уже при независимости, политическая активность монашества вылилась в поддержку такого радикального движения, как левое повстанчество в Бирме (26). Ланкийская монашеская организация «Экзат Бхикху Перамуна» («Объединенный фронт монахов») во многом обеспечила победу Партии народной свободы и ее лидеру Соломону Бандаранаике в 1956 г. (это было пиком «буддийского ренессанса» в Шри Ланке) [Katz, Sowle, 1987, с. 432] (27). Позднее, в 60-е годы активность монашества в этих двух странах спала. В Шри Ланке после взрыва межэтнического конфликта в 1983 г. она снова несколько возросла: на политическую арену вышли несколько националистических монашеских групп или светских «патриотических» (десапреми) организаций с авторитетными монахами в качестве духовных руководителей. Наиболее популярный и активный религиозный политик — П. Чандананда из лесного монастыря (sic) Асгирия, который является «архетипическим примером фрустрации и страха, вызванных военными инициативами “Тигров” (тамильских сепаратистов.—Л. Л.) и неспособностью Коломбо разрешить внутренние ланкийские проблемы собственными силами» [Matthews, 1988, с. 629]. Его авторитет пыталась использовать находящаяся в оппозиции Сиримаво Бандаранаике.
——————————————————————————————————-
(25) На Ланке в 30—40-е годы монахи активно поддерживали радикальную троцкистскую партию «Ланка Самма Самаджа»; одним из ее основателей был монах Шри Серананкара тхера [Katz and Sowle, 1987, с. 431]. Подробнее о роли бирманской сангхи см. [Maung Maung, 1980], В Камбодже монахи были ведущей силой антивьетнамского восстания 1841-1845 гг. [Bechert, 1966, т. II, с. 236].
(26) Правящая партия Антифашистская лига народной свободы (АЛНС)и коммунисты вели постоянную борьбу за монахов. Монахи играли активную роль в межпартийной борьбе [Smith D., 1965, с. 138, 197—198].
(27) В сентябре 1959 г. Соломон Бандаранаике был убит монахом. Это было самое черное пятно в истории буддизма в XX в., самое крайнее проявление политизации монашества.
——————————————————————————————————-
Показательна и дальнейшая эволюция бирманской сангхи: военный режим Не Вина, отвергший в 1962 г. буддизм как государственную идеологию, с самого начала противопоставил сангху себе, вызвав ее сопротивление. Сангха оказалась во второй раз, после колониального времени, целиком отторгнутой от государства; ее дисперсность, организационная рыхлость усилились, несмотря на уже описанные попытки режима помешать этому. В условиях диктатуры сангха превратилась в лучшее убежище для инакомыслия и недовольства [Taylor, 1987, с. 358]; будучи сама, как правило, в оппозиции, она притягивала к себе и светскую оппозицию. Ореол гонимости и сиротства, на которые, вопреки традиции, правящий режим обрек сангху, наделял ее еще большей харизматической энергией, либо включаемой в «обменные» связи с нелегальным частным капиталом, либо цементирующей мистические и милленаристские группы, либо выплескиваемой в дни открытого протеста. Так, в 1965 г. около ста монахов были арестованы за инакомыслие; в 1974 г. монахи участвовали в антиправительственных выступлениях; в 1987—1988 гг. монахи стали одной из движущих сил демократической революции и духовными выразителями революционных идей (28).
——————————————————————————————————-
(28) Надо также учесть, что орденский истеблишмент с 1980 г. был включен в государственную машину и в 1987—1988 гг. занимал лояльную позицию.
——————————————————————————————————-
Участие сангхи в оппозиционной политике описано лаосистом М. Стюарт-Фоксом. Инициатива сотрудничества с сангхой была в какой-то момент упущена послеколониальными правительствами Лаоса и перехвачена марксистским фронтом «Патет Лао». Получив «свободную» буддийскую харизму, фронт возвысился в глазах общества, что расширило его социальную базу. В приходе фронта к власти в 1975 г. это сыграло не последнюю роль [Stuart-Fox, 1982, с. 63; 1983, с. 444] (29).
Что касается «лояльной», интегрированной в государство тайской сангхи, то было бы ошибкой утверждать, что ее альтернативное качество было совершенно незаметным в XX в. В первые десятилетия были отмечены милленаристские движения, особенно на Севере и Северо-Востоке [Skrobanek, 1976, с. 78—99]. В 30—50-е годы часть монахов была настроена весьма радикально и увлечена социализмом i[Skroba- nek, 1976, с. 152]. В начале 70-х годов молодые монахи критиковали режим в буддийском журнале «Буддхачак» [Suk- samran, 1982, с. 65]. В период свободной политики 1973—1976 гг. на улицы вышли «политические монахи», разделившиеся на правых и левых (последних было меньше); монахи участвовали в демонстрациях, предвыборных кампаниях, требовали реформы сангхи (в плане получения большей независимости от государства) и т. д. (30).
——————————————————————————————————-
(29) В Камбодже часть монахов примыкала к «Кхмер Иссарак», а позже в 1970-1975 гг., к оппозиционному Национальному единому фронту Кампучии [Бектимирова, 1981, с. 149—150].
(30) [Suksamran, 1982]: о правых и левых монашеских организациях — с. 85—92, об участии монахов в выборах — с. 103—105, о борьбе за реформу сангхи — с. 123—131, о взглядах и деятельности правого и весьма популярного монаха Киттхивуттхо — с. 92—99.
——————————————————————————————————-
Вовлеченность в политику, как и всякое нарушение канонической неотмирности, неоднократно осуждалась во всех странах; характерно, что чаще всего объектом критики было открытое участие монашества в оппозиционных движениях, но отнюдь не скрытая работа иерархов по освящению государственной власти (31). В то же время «политические монахи» оправдывали свою активность историческими прецедентами [Bechert, 1978а, с. 205]. Тем не менее действовало описанное выше правило: отстраненность приводила к накоплению харизматической энергии, а последующая вовлеченность— к растрате этой энергии и снижению престижа. Эта диалектика и некоторый циклизм в жизни сангхи проявлялись в том, что ланкийская и бирманская сангхи после 50-х годов, тайская — после середины 70-х, лаосская — после союза с «Патет Лао» теряли свое влияние в той же мере, в какой светские оппозиционные силы приобретали его благодаря близости к сангхе. В Камбодже четко виден контраст между режимами Сианука и Лон Нола (1970—1975). Первый, апеллируя к буддийским символам, саму сангху держал на расстоянии от политики, тем самым сохраняя ее высокий духовный престиж, что ему было необходимо для сакрализации правления. При Лон Ноле все резко изменилось — сангха была быстро втянута в политику, рассыпалась на части, ставшие сферами влияния разных светских сил, и, как следствие, утратила авторитет «морального наставника» нации, ее воплощенного духовного образца. Этот духовный вакуум был благоприятной атмосферой для тоталитаризма и принципиального аморализма красных кхмеров (см. [Бектимирова, 1981, с. 121]).
——————————————————————————————————-
(31) Х.-Д. Эверс свидетельствует, что монахи крупнейшей ланкийской обители Ланкатилака, осуждая «политических монахов», сами были тайно замешаны в политической игре [Evers, 1972, с. 21].
——————————————————————————————————-
Диалектика параллельности и альтернативности, которая просматривается в невероятно пестрой и богатой событиями истории участия бангхи в политической борьбе XX в., делает совершенно несостоятельными крайне упрощенный и однозначные оценки, в которых буддийское монашество связывается только или с «политическим консерватизмом» или с «политической оппозицией», а сангха объявляется только или «орудием правых сил» или «орудием левых сил». Сангха в этом столетии обнаруживала склонность и к западничеству, и к почвенничеству, симпатии и к политическому традиционализму, и к буржуазной модернизации либерального толка, и к социализму. Преобладающий консерватизм и преобладающая оппозиционность сменяли друг друга в виде циклических периодов; сангха дробилась на множество частей, что отражало плюрализм светских политических интересов. Хранимая сангхой религиозная харизма выставлялась ею на открытый национальный «рынок харизмы», где разные светские силы соперничали между собой за обладание этим важным идеологическим «товаром». Политическое участие сангхи зависело «не столько от нее самой, сколько от заинтересованности в ее активности тех или иных социальных сил» [Всеволодов, 1978, с. 183] (32).
——————————————————————————————————-
(32) О собственных корпоративных интересах сангхи, о монашестве как особой социальной силе можно говорить применительно к Шри Ланке. Что касается тайской сангхи, то С. Суксамран различает два типа «политеческих монахов»: тех, кто руководствуется идеологическими мотивами, и тех кто руководствуется эгоистическими (т. е. собственными) интереса- [Suksamran, 1982, с. 54]. Однако Суксамран не учитывает еще одного, пожалуй, решающего, фактора — мотивов светских политических сил, стоящих за той или иной группой монахов.
——————————————————————————————————-
Интересно воплотилась диалектика параллельности и альтернативностй в истории одной группы сангхи — маленькой тайской секты Тхаммают (Дхаммаютика-никая). Эта секта была основана будущим Рамой IV (Монгкутом) в середине XIX в. на основе новой для Сиама монской традиции монашеской ординации; секта отличалась от массовой Маха-никая более строгой монашеской дисциплиной и каноническим фундаментализмом. Впоследствии, после своей коронации, Монгкут приблизил к себе новую секту; его наследники Чулалонгкорн и Вачиравут сохранили это предпочтение, что было законодательно закреплено в 1902 г. В этот период (вторая половина XIX—первая четверть XX в.) монархия проводила последовательную политику интеграции и модернизации Сиама, и новая буддийская секта стала идеологическим инструментом этой государственной политики [Kirsch, 1978; Keyes, 1975]. После демократического переворота в 1932 г. государство стало поддерживать более массовую и «демократическую» Маха-никая (во всяком случае, законодательное предпочтение Тхаммают было отменено Актом 1941 г. [Reynolds F., 1977, с. 276]), но и позднее Тхаммают сохранила свои позиции как элитарная секта, связанная с политической элитой (33). Парадоксально, что наиболее традиционная и каноническая ортодоксальная группа сангхи объективно склонялась к союзу с социальными силами, в наибольшей степени ориентированными на модернизацию.
——————————————————————————————————-
(33) Составляя явное меньшинство в сангхе, монахи Тхаммают обладают относительно высоким престижем и влиянием. Например, в 1959 г. доля монахов Тхаммают в сангхе было 5%, но они занимали 50% ключевых постов в иерархии [Reynolds F., 1977, с. 101]. В провинции, по наблюдениям А. Кирша, их наиболее сильные покровители и дарители — местные лидеры, а также люди из сравнительно преуспевающих средних слоев (торговцы, учителя, лица городских профессий), ориентированных на модернизацию. Сторонники Маха-никая — более традиционная и менее влиятельная масса рядовых верующих [Kirsch, 1978, с. 62].
——————————————————————————————————-
Дело в том, что сама светская центральная власть стала изначально инициатором изменения политического статус-кво; она обратилась за харизматической поддержкой к наиболее чистой, невовлеченной и даже чужой (не тайской) по происхождению орденской традиции, используя для своих целей «энергетический потенциал», связанный с ее альтернативностью. В определенном смысле монархия (до 1932 г.) сама воплощала в себе оппозицию старому традиционному социополитическому порядку, поэтому ее союз с Тхаммают вполне соответствует закону взаимного влечения альтернативной линии в сангхе и светской оппозиции. Вместе с тем светский центр, оставаясь таковым, превратил Тхаммают в религиозную силу, параллельную государственной власти и легитимирующую ее. Объяснение этой головоломной ситуации в конечном итоге таково: поскольку сам центр был одновременно оппозиционной (модернизация) и консервативной (сохранение собственной абсолютной власти) силой, то и приближенная к нему секта выполняла одновременно роль альтернативной (по отношению к старому порядку) и параллельной (по отношению к светскому центру) религиозной организации. Высокая харизма этой секты использовалась и в интересах изменения общества, и в интересах общественной преемственности (34). Эта диалектика исторической миссии секты Тхаммают (35) является, как мне кажется, почти символическим воплощением диалектики исторической миссии тхеравадинской сангхи в XX в.
——————————————————————————————————-
(34) В Бирме в середине XIX в. возникла подобная Тхаммают «строгая» секта Шведжин, основатель которой — Шведжин саядо был духовным фаворитом царя Миндона (1853—1878). Будучи по преимуществу традиционалистской, эта секта выступила инициатором некоторых новшеств в организации и церемониях [Fergusson, 1978, с. 82]. В 20—50-е годы XX в.— время политической активности монахов — секта Шведжин строго воздерживалась от вовлеченности, сохраняя марку элитарности. Останься Бирма независимоой, эта секта, возможно, сыграла бы ту же роль, что Тхаммают — в Таиланде.
(35) В Камбодже Аун Дуонг, а затем и Нородом, который воспитывался в сиамском монастыре, создали аналогичную секту, следовавшую той же традиции и с тем же названием. Положение новой секты в сангхе- тоже было аналогичным. Это была фундаменталистская и элитарная секта, связанная с двором. «Ее последователи стремились “очистить” буддизм от всевозможных наслоений и тем самым сделать его в большей степени соответствующим потребностям сегодняшнего дня» [Бектимирова, 1981, с. 191].
——————————————————————————————————-
Сангха в XX в.: рискованное балансирование между небом и землей
Вопрос о роли сангхи в обществах буддийской Азии в XX в. в научной литературе и в общественном мнении решается, как правило, однозначно, вполне в духе линейного эволюционизма: сангха в течение XX в., несмотря на вспышки активности, под напором сильных «западных ветров» неуклонно теряла влияние вследствие ее отчуждения и консерватизма. В оценках самих буддистов доминирует слово «упадок»; правда, они указывают и на другие симптомы — обмирщение, забвение канонических правил. Так или иначе, упадок является оценочным фоном, столь характерным для века «заката культур» и безверия, моральных катастроф и воинствующего аморализма.
Вечная дилемма сангхи может быть сформулирована таким образом: либо сохранить символическую чистоту, связанную с парадигмой мироотказа, либо войти в мир и создать устойчивый интегрированный институт. Иначе говоря, сохраняя чистоту, утратить связь с обществом или укрепить эту связь, жертвуя чистотой. Ясно, однако, что это сугубо теоретическая дилемма, ибо она предполагает выбор из двух невозможностей: отчуждения от профанного мира и отчуждения от сакрального идеала. Единственный выход — компромисс, тонко выверенный баланс между полюсами, точная, дистанция, мера.
В XX в. само монашество решало эту дилемму в острых дискуссиях с неожиданными поворотами. Например, в Таиланде в 60-е годы официальная сангха подвергалась критике со стороны молодых монахов и «палийской интеллигенции» за политическую ангажированность (участие в программах развития); в 70-е годы, наоборот, орденское руководство осуждало «политических монахов» за их участие в демократической «игре» [Suksamran, 1982, с. 101]. При этом защитники пассивности напоминали о канонической идее «отказа», а сторонники активности обычно ссылались на не менее древнюю, с их точки зрения, идею «помощи людским страданиям» [Suksamran, 1982, с. 103] (здесь отчетливо видны противоположные архетипы архата и бодхисатты) (36). Таким образом, обе тенденции могут получить идеологическое обоснование, и, хотя XX век принес новые аргументы (связанные, например, с западными идеями «общественного блага» или «социального участия»), по сути своей указанная дилемма традиционна и существует столько же, сколько сама сангха.
——————————————————————————————————-
(36) Похожие аргументы в оправдание вовлеченности монахов приводил знаменитый бирманский монах У Оттама в 20-е годы. С ним резко полемизировали иерархи-традиционалисты [Taylor, 1987, с. 182].
——————————————————————————————————-
Совсем не случайно, что XX век дал обилие примеров обеих тенденций, которые могут быть названы очищением и обмирщением (восхождение к сакральному первообразу и нисхождение к профанному миру). Примерами очищения могут служить фундаментализм лесных монахов, возникновение более строгих направлений внутри сангхи, новое усвоение монашеской медитации и высокой палийской учености, рост количества малых эзотерических сект с интровертной ориентацией, государственные акции по усилению дисциплины в сангхе. Примеры обмирщения: вовлеченность монахов в политику, программы развития и т. п., увеличивающаяся открытость монастырской структуры в городах, сокращение разрыва между монахом и мирянином в ролях, социальных функциях, стиле жизни (37). Конечно, есть и более умеренные и более крайние проявления обеих тенденций. Крайности, как обычно, смыкаются, и некоторые явления трудно отнести к какой-либо из двух тенденций. Например, ланкийское движение «Тапасайо», основанное Тапаса Хими в 50-е годы, было настолько вызывающе радикальным в своем аскетизме, что в 1954 г. вылилось в прямую уличную агрессию его приверженцев против «нормальных» монахов: крайний ригоризм обернулся нарушением символической дисциплины [Carri- thers, 1983, с. 126].
——————————————————————————————————-
(37) Монах, зашедший в кафе и тем самым поставивший хозяина в двусмысленное положение [Sripraphai Р. and Sripraphai К., 1986, с. 18-19]; монах, сидящий в автомобиле или имеющий банковский счет [Turton, 1987, с. 81]; монах, совершивший преступление [Mendelson, 1975, с. 141—142], — эти картины, конечно, не являются нормой, но отнюдь не кажутся невероятными.
——————————————————————————————————-
Но крайности были неизбежными издержками рискованного балансирования в поисках «срединного пути». Сложность и риск определялись тем, что буддийские общества глубоко и резко менялись и сангха не могла не меняться вместе с ними. Поэтому дилемму сангхи можно сформулировать и так: сохранить традиционный сакральный статус и в то же время измениться адекватно изменению общества. Потеря сакрального статуса означала бы прекращение «производства» харизмы; отчуждение же от меняющегося общества сделало бы харизму бесполезной.
Вот примеры удачных поисков «срединности»: сочетание некоторыми фундаменталистскими группами или отдельными монахами строгой культовой практики с открытостью и проповедческой ориентацией; пропаганда медитации в широких слоях «паствы» (в городе); включение нетрадиционных предметов в учебные монастырские программы [Tambiah, 1973b, с. 69; Ariyaratne, 1980]; новые формы деятельности традиционалистских сект типа Тхаммают и Шведжин; монашеское благословение новых (городских и западных) форм экономической активности; традиционная культовая легитимация новых (например, демократических) форм политики, а также нацеленных на модернизацию общественных групп и сил. Во всем этом нащупывается компромисс, заключающийся в тонком, почти виртуозном вплетении новых узоров в традиционную ткань буддийского культа, сочетании новых целей со старыми средствами или усвоении новых средств (вплоть до аудиовизуальной техники) для достижения старых целей. Изменение и преемственность — такова, по сути, формула «срединного пути» современной сангхи. По-видимому, наиболее успешен в этом смысле опыт тайского монашества — точно так же (это необходимо добавить), как тайского общества в целом. Рискованная диалектика поиска говорит о том, что бирманская и ланкийская сангхи в какой-то момент оказались «слишком модернистскими», чтобы глубоко измениться; напротив, кхмерская сангха была, пожалуй, «слишком традиционалистской» — не это ли отчасти привело к тяжелому разгрому кхмерской культовой традиции в 70-е годы?
Что касается вопроса об упадке буддийской сангхи в целом, то, по-видимому, было бы упрощением говорить о XX веке, как о времени неуклонного упадка, равно как и об эпохе бурного возрождения. Материал этой главы показывает, что тенденции очищения и обмирщения чередовались, сосуществовали, а иногда и переходили одна в другую; очищение означало накопление харизмы и влияния, обмирщение — их растрату.
Вместе с тем есть факты, которые нельзя обойти: в этом столетии замечено снижение доли молодых людей, постригающихся в сангху [Pfanner, 1966, с. 84]; общее снижение доли монахов в населении; секуляризация государственных функций; сужение круга функций монахов в общине, что объясняется повышением роли современных специалистов (чиновников, политиков, учителей, врачей, юристов) [Pfanner, 1966, с. 86; Mulder, 1969; Zago, 1972, с. 385 и др]; несомненная утрата монастырями контроля над образованием. Не свидетельствует ли все это об упадке? Есть все основания утверждать, что в связи с влиянием Запада и внутренней исторической динамикой обществ тхеравады во второй половине XX в. произошел глубокий кризис традиционных форм буддийского культа. Но кризис еще не есть упадок и неизбежная обреченность. Во-первых, он последовал за бурным «ренессансом»; во-вторых, он компенсируется активизацией мирского (неклерикального) культового процесса; в-третьих, кризис — всегда преддверие обновления, стимул к замене отживших средств новыми.
Если посмотреть на историю сангхи в XX в. с позиций «большого времени», в масштабе ее многовековой исторической судьбы, то изменения не покажутся столь драматичными. Как и всегда ранее (т. е. со времен утверждения тхеравады), сангха в XX в. была основным хранителем культурной идентичности, образом и символом идеального порядка и нормативных ценностей, главным источником, из которого общество черпало необходимую ему харизму. Как и всегда ранее, сангха искала плодотворный баланс между символическими и институциональными требованиями, между канонической чистотой парадигмы мироотказа и гибким соответствием светскому обществу, она вынуждена была следовать рискованной диалектике неизменности и обновления, поскольку и то и другое являлось гарантией ее авторитета. Как и всегда ранее, сангха выполняла роль параллельной и одновременно альтернативной структуры по отношению к светскому общественному порядку, циклы очищения (38) сменялись циклами обмирщения или происходило напряженное соперничество обеих тенденций. Наконец, как никогда ранее, монашество в XX в. не обладало непогрешимой образцовостью. Это важно подчеркнуть, ибо часто оценка нынешнего состояния как упадка есть следствие его некорректно го сравнения с идеальной канонической моделью, которой в; действительности никогда и нигде не было. Когда традиционная сангха воспринимается как канонически образцовая, тогда современный упадок кажется очевидным. Этой иллюзии поддались не только буддийские традиционно настроенные идеологи, но и многие исследователи (39). С этой иллюзией связана и другая — преувеличение монашеского авторитета в традиционных обществах (отсюда — образ монаха как чуть ли не духовного диктатора локальной общины) и соответственно вывод об упадке влияния в XX в. Это слишком сильные и исторически неверные контрасты.
——————————————————————————————————-
(38) О многовековой (начиная с Ашоки) традиции государственных «очистительных» реформ см. [Carrithers, 1983, с. 139—142]. Чистота сангхи традиционно рассматривалась как национальная проблема. Очищение сангхи воспринималось как очищение государства, и наоборот, раздоры внутри ее были признаками ослабления государства — такая зависимость складывалась на протяжении веков [Семека, 1969, с. 94]. Не случайно расцвет царской власти сопровождался реформами сасаны (sasanavisudhana). Ланкийские примеры: реформы Маха Паракрама Баху (1153—1188) и Кирти Шри Раджасингха (1747—1782). Возможно, падение древнебирманской Паганской династии в 1287 г. было связано с ее неспособностью провести религиозные реформы очищения [Taylor, 1987, с. 51].
(39) Л. Габод резонно замечает, что так называемый классический буддизм — в значительной степени изобретение западных исследователей и современной городской элиты, черпающей знания из западных «догматических и тоталитарных» изданий [Gabaude, 1987, с. 513—514].
——————————————————————————————————-
Не следует преувеличивать как монашескую «власть над умами» и культовую активность сангхи в буддийских обществах до XX в., так и упадок в XX в. XX век не принес исторически кардинальных перемен сущности, форм, особенностей буддийского ритуального процесса. Можно утверждать, что его характерные черты, описанные выше, укладываются в исторически сложившиеся рамки и схему буддийского культа. Для XX в. это несомненно, в XXI в. заглядывать пока вряд ли уместно. Можно лишь предположить, что вопрос о будущей роли сангхи, как и всего буддийского ритуального процесса, является частью более общего вопроса — о судьбе буддийской цивилизации в целом в условиях мощного и не спадающего давления западно-христианской цивилизации, а также нарастающего давления дальневосточной цивилизации. Если изменится ценностный этос обществ, который мы ныне называем «буддийским», то глубоко изменится (или будет целиком заменена) система высших сакральных значений и, следовательно, появятся новые источники харизмы и сангха, такая, какая она есть сегодня, сойдет со сцены.
§ 3. Социокультурные архетипы в сангхе
В следующей главе будет дан анализ буддийской социальной программы, т. е. той системы значений, которые определяют облик обществ тхеравады. Но уже здесь на основе проведенного выше анализа религиозного института можно обозначить контуры этого предмета. Его внутренняя организация, а также процесс его общения с миром содержит некоторые архетипы общественных отношений. Разумеется, прямое перенесение этих архетипов на социальную структуру было бы ошибочно по двум причинам: во-первых, это модельные, образцовые архетипы, в которых зафиксированы представления о должном порядке вещей, а всякий должный порядок есть только утопия, играющая роль общего ориентира моральной (ценностной) стратегии; этот должный порядок заведомо игнорирует и даже заранее подавляет некоторые движущие силы человеческой деятельности, без которых общество немыслимо. Во-вторых, как было показано выше, социальное бытие сангхи несет на себе отпечаток «обратной связи, проникновения в нее мирских интересов, что деформирует нормативную модель и вносит погрешность в процедуру выявления чистых архетипов. Поэтому здесь следует ограничиться только осторожной констатацией самых общих положений, соотнесенных с символическими исходными качествами сангхи, т. е. такими качествами, которые призваны непосредственно предстацлять на земле высшие значения буддийской доктрины.
Основные положения (базовые архетипы):
Индивидуализм. Монах — человек, порывающий связи с другими, нацеленный прежде всего на собственное спасение. Разрыв связей — главное предварительное условие его успеха. «Техника» его сотериологии также состоит по преимуществу в индивидуальных действиях — в йогической практике и созерцании прежде всего. Структура сангхи призвана обеспечить максимум изоляции или автономии монастырю, отдельной монашеской резиденции и в крайнем случае отшельнику, оставшемуся «наедине со своими мыслями». Этот архетип автономности и независимости весьма отчетливо проглядывает сквозь все неизбежно складывающиеся групповые связи — внутри сангхи, между сангхой и внешней средой,— которые диктуются требованиями институционализации.
Равенство. Монашество представляет собой, как уже говорилось, состояние символической чистоты, или, выражаясь языком В. Тэрнера, «пустыню бесстатусности» [Тэрнер, 1981, с. 171]; в данном случае имеется в виду отказ от всяких социальных качеств и социальных статусов. Сангха — «братство», где все равны независимо от происхождения, мирского состояния или преимуществ в силе и власти, что символически подчеркивается униформностью быта, одежды и поведения. Этот эгалитаризм в глазах общества является образом исходного единства рода человеческого.
Обмен и взаимность. Этот архетип, лежащий в основе отношений монаха и мирянина (а отчасти и между монахами) выражает фундаментальный принцип человеческого общежития; в какой-то степени этот принцип основан просто на здравом смысле, подсказывающем неизбежность взаимообмена в обществе. В то же время в буддизме он подчеркнуто сакрален и как моральная норма противопоставлен бушующим в обществе стихиям господства и насилия. Кроме того, этот архетип, выраженный в виде дана, предполагает духовное и материальное как обменные величины. Само пострижение есть акт отказа от материального, и чем от большего человек отказывается, тем большую «духовную величину» получает; и наоборот, духовные приобретения воздадутся прочным и, главное, морально подтвержденным земным благополучием.
Иерархия. Очевидная в сангхе иерархия антиномически противоположна принципу равенства. Будда в своих предсмертных беседах проводил иерархические различия между старшими и младшими монахами [Mahaparinibbana-sutta, D. N.]. Несмотря на «демократическое» устройство сангхи, в ранних текстах ясно видна иерархия. Несмотря на внешний эгалитаризм, в сангхе мало ограничителей для естественно складывающейся иерархии [O’Connor, 1978, с. 77]. Примером может служить геронтократия. Сама «демократическая» процедура разрешения конфликтов на практике — и это вполне закономерно — сводится к совету старейшин — ubbahika [Carrithers, 1983, с. 251]. Вместо отвергнутых знаков социальной принадлежности существует четкая градация сакральных титулов, званий и статусов.
Личные заслуги как основа иерархии. Если отвлечься от привходящих факторов, связанных с влиянием внешнего мира на монастырскую иерархию, то станет очевидно: иерархизм в сангхе питается из специфических источников и оформляется совершенно специфически. В основе этой иерархии лежат сакральные критерии, которые, согласно буддийскому учению, выступают в виде личных религиозных заслуг, соответствующих тому или иному уровню психоэтического совершенствования. Эти критерии морального статуса коренным образом отличаются от критериев статуса социального. Здесь действует своего рода меритократия в том смысле, что статусная позиция, занимаемая индивидом, зависит исключительно от его личных способностей, усилий и достижений. На tabula гаsa наносятся знаки принципиально иных (чем все предписанные отличительные качества индивида) по типу качеств — качеств сакральных заслуг, субъектом которых может выступать только индивид лично. Источники таких статусных качеств в сангхе — углубленное проникновение в сакральный текст, созерцательная мудрость, психический самоконтроль, аскетическая строгость. Проявления подобных статусных различий тоже своеобразны: всякая их внешняя фиксация или акцент на них сознательно сведены к минимуму; они мыслятся как внутренние и видны только в распределении авторитета внутри монастыря, почитании и благоговении верующих и т. д.
Покровительство. Отношения между людьми, занимающими разные позиции в иерархии религиозных заслуг, превращаются в покровительство, в патернализм. Это архетип, воплощенный в ключевом для сангхи отношении «учитель — ученик», в наставничестве, которое заключается в передаче сакрального знания, является вариантом отношения «старший — младший». Такие отношения фиксируют не только различия в объеме знаний, но и различия в уровне продвижения по пути психоэтического совершенствования. Отношение «монах — мирянин» строится по этому же образцу. Все эти варианты предполагают, во-первых, диадический характер связей, т. е. личностные отношения «один на один», в которых принимают участие только два человека; во-вторых, разницу в статусе между двумя субъектами отношений;, в-третьих, вступление учителя (старшего) одновременно в несколько диадических связей с учениками (младшими), которые, как правило, имеют единственного учителя; в-четвертых, возможность для каждого члена сангхи выступать одновременно и в роли учителя (нескольких учеников), и в роли ученика (одного учителя); в-пятых, покровительство старшего и добровольную зависимость младшего.
Подвижные личностные связи. В результате в сангхе образуются сугубо неформальные, не подтвержденные никакими атрибутами и внешними обязательствами «сгустки отношений», складывающиеся вокруг влиятельных и заслуженных монахов (это группы типа пансала, кхана и т. д.). Такая группа — часть монастырского комплекса, но по своему значению как единица структуры сангхи она важнее монастыря [Bunnag, 1973, с. 97; Tambiah, 1976, с. 321]. Отношения внутри такой группы суть сумма диадических отношений «учитель (старший)—ученики (младшие)», притом что горизонтальные диадические связи между учениками гораздо менее выражены. В свою очередь, учитель может быть включен в подобную же группу более высокого порядка.
Мобильность монаха весьма велика; переходя из одного монастыря в другой, он незамедлительно вступает в качестве клиента в отношения с новым покровителем; такая подвижность облегчена относительной необязательностью личностных отношений. Открыта эта система связей и для вертикальной мобильности, поскольку единственным или по крайней мере доминирующим критерием статуса являются личные религиозные заслуги, накопление которых зависит от индивидуальных усилий и почти не ограничено какими-либо «структурными» препятствиями. Член сангхи непременно должен находиться в роли покровителя или зависимого, иначе он теряет всякую связь с сангхой как социальной системой, оказывается вне ее; в то же время эти роли чрезвычайно хрупки, слабо фиксированы и сугубо личностны. Внешне сангха может строиться по квази-бюрократическому принципу, в духе иерархического распределения авторитета (как рациональная государственная бюрократия или католическая церковь); однако за фасадом стоят патрон-клиентные отношения, которые представляют собой не столько отклонения, сколько базовый тип буддийских отношений.
<<К оглавлению книги
Содержание
§ 1. Основы мировоззрения
Онтология
Космология
Боги и люди
Психоэтика
Добро и зло
Камма
Ниббана
§ 2. Герменевтический процесс в XX в.
Западный «вызов» и «буддийский ренессанс» как «ответ»
Шаг первый: очищение высших значений и консолидация сакрального
Шаг второй: рационализация
Шаг третий: трансформация
Шаг четвертый: возвращение сакрального в мир
К вопросу о буддийской реформации и «буддийском протестантизме»
Массовая религиозность: эмоциональная компенсация
Секуляризм и «гражданская религия»
Бирманская государственная идеология — пример идейного синтеза
§ 1. Основы мировоззрения
Сиддхартха Гаутама Шакьямуни (Будда) проповедовал в середине I тысячелетия до н. э. рафинированные, сложные взгляды, впитавшие в себя высокие достижения брахманской духовности. Вся последующая история этого учения — беспрерывный рассказ о том, как оно застывало в текстах и камне, фиксировалось в фольклоре и лозунгах, обретало плоть в общественных институтах и поведении людей. Несколько столетий после смерти Учителя его идеи передавались изустно, неизбежно обрастая легендами, толкованиями и отражая возникавшие среди адептов разногласия, пока в I в. до н. з. на Ланке не были записаны «Три корзины закона» (tipitaka) на языке пали. Учение, содержащееся в «Типитаке», легло в основу буддизма тхеравада, не без оснований претендующего на максимально точную передачу смысла учения самого Будды. [….]
<<К оглавлению книги
Памяти моей мамы
Южный буддизм, или буддизм тхеравада, — одна из древнейших религиозных традиций, преобладающая в пяти современных обществах Азии — Шри Ланке, Бирме, Таиланде, Камбодже и Лаосе. Историю этих стран в XX в. невозможно представить без буддизма, вне его глубокого и многообразного влияния. Сам по себе буддизм — почти необъятный предмет. Это духовная, религиозная и психологическая традиция, корпус канонических и постканоничеоких текстов, система ритуалов и символов, ряд социально-религиозных институтов. В сущности, буддизм целая цивилизация. В указанных обществах тхеравада являлась фундаментом культуры изначально и составляет ее важнейшую часть сейчас.
В этом калейдоскопе надо найти фокус, точку отсчета и постараться как можно более четко очертить границы пред мета исследования. В буддологии существует, например, текстологическая традиция, связанная с переводом, классификацией и толкованием священных текстов. Можно сконцентрировать внимание на истории и структуре буддийских институтов — монашеских общин (сангхи), можно в рамках этнографии и культурантропологии заняться описанием и интерпретацией буддийской культовой практики. При том и другом подходе буддизм рассматривается sui generis, как нечто завершенное и целостное, со своей структурой и динамикой, как «вещь в себе», как чисто религиеведческий предмет.
В данной работе буддизм исследуется не сам по себе, а именно как часть общественного и культурного целого. Религиозный текст важен для меня только в связи с восприятием его в обществе и изменениями этого восприятия; монашеский орден представляет для меня интерес только в контексте его места в обществе, его социального состава, его реакции на мир (и реакции мира на него); верования и ритуалы для меня — формы социального поведения, символическая фиксация общественных структур и процессов. Буддизм и общество, буддизм во взаимодействии с обществом, буддизм как общественное явление — такова главная тема этой книги.
Но очерченные рамки все еще недостаточно жестки. В конце концов, любой элемент буддизма — будь то заповедь, ритуал, символ, пагода или монах — так или иначе тесно- связан с обществом. Следует уточнить приоритет выбранного подхода: акцент делается не столько на материальном бытии религии, сколько на буддийском мировоззрении, системе ценностей, моральных и поведенческих норм, выработанных буддизмом и бытующих в обществе.
Разумеется, сама религиозная практика, где буддийские ценности проявляются в наиболее прозрачной, непосредственной форме, тоже включена в исследование, но приоритетным объектом остается «мирская» практика, бытие религиозных ценностей в мире, а не внутри сакральных институтов. Соответственно в самой религиозной практике меня интересует не столько отношение «монах — монах», сколько отношение «монах— мирянин»; любой элемент культа (ритуал или текст) важен не сам по себе, а лишь в той мере, в какой он повернут к миру, к профанной жизни. Чисто религиозное действо если и рассматривается, то прежде всего как некая поведенческая модель, фиксирующая некие базовые ценности, предназначенные для «пересадки» в мир человеческой практики во всем ее многообразии.
Поскольку эти религиозные ценности, как представляется, имеют сквозной характер, сферами их влияния являются политика, экономика, социальная структура, идеология, которые так или иначе должны быть затронуты под ценностным углом зрения. Целостное мировоззрение, соприкасаясь с различными сторонами жизни, распадается, условно говоря, на отдельные фрагменты: в экономике, например, — это представления о богатстве и бедности, отношение к труду, образцы экономической деятельности; в политике — это стереотипы отношения к власти, характер лидерства, концепция государства; в социальной структуре — это принятая модель статусной иерархии, взгляды на социальную мобильность и пр.
Со всем этим связан особый интерес в этой книге скорее к живому, практическому буддизму, чем к чистому, каноническому. Разумеется, при изучении религиозного мировоззрения нельзя обойтись без первоначальной доктрины, священного писания, однако прямой перенос догм и заповедей писания на общественную практику привел бы к серьезным искажениям. Поэтому сведения о буддийских ценностях, «работающих» в обществе, следует прежде всего черпать из религиозной эмпирики, из тех религиозных форм, которые адаптированы к условиям конкретных обществ.
Наконец, последнее существенное уточнение предмета исследования. Буддизм тхеравада исследуется здесь в историческом контексте XX в.; раз в качестве опорного времени взят XX век, а в качестве материала — бытие буддийский ценностей в мире, значит, вся проблематика истории Востока в целом и буддийских стран в частности не может остаться за рамками работы. Общественно-исторический контекст буддизма в XX в. — это глубокое самоосмысление азиатских культур, сложная идеологическая полемика в поисках ответа на культурный «вызов» Запада, модернизация социальных структур, включение в новые мировые связи. Моя задача состоит в том, чтобы показать, каким образом эти процессы меняют темп и направление под влиянием меняющегося буддизма.
Факты и источники. Фактический материал, включаемый в исследование, как правило, ограничен двояко: его наличием или отсутствием (доступностью или недоступностью), с одной стороны, и сознательным или бессознательным выбором автора — с другой. Часто между этими двумя ограничителями существует зависимость: иногда выбор источников определен культурным, социальным и методологическим «заказом» (парадигмой науки), иногда наоборот, сам выбор и видение предмета диктуется данными, лежащими на поверхности.
Так было и в истории буддологии. XIX век открыл для европейской науки индийскую культуру и вместе с ней красивую легенду о принце Гаутаме, ставшем Буддой (Просветленным). Несколько десятилетий «ропотливо собирались и переводились древние и средневековые буддийские тексты, написанные на разных языках и принадлежавшие к разным культурам. «Классическая буддология» этого периода не знала, по существу, другого материала о буддизме, который воспринимался не иначе, как древняя философско-религиозная система. Сам материал диктовал такое восприятие. Но нужно учесть и то, что в условиях кризиса старой культуры, когда Европу лихорадило революциями и когда «умирали боги», когда появились первые признаки будущего, где «все относительно», новая экзотическая духовность, окутанная ореолом изначальной девственности, отвечала как академическим, так и неакадемическим вкусам. Поэтому выбор буддологами угла зрения и источников был не случаен. Что касается религиозной жизни буддийских стран, то на нее в лучшем случае легко переносились доктринальные постулаты, а чаще всего она не замечалась вообще.
Колониальный опыт предоставлял ученым факты совсем иного рода, взятые не из текстов канона, а из сводок и отчетов колониальных чиновников. Долгое время, однако, эта информация попадала, е соответствующими изменениями, на страницы беллетристики; ученые долго не знали, что делать с этими фактами. И только после первой мировой войны, когда ученые, следуя новым научным ориентациям и выполняя новые заказы, покинули кабинеты и окунулись в гущу современной восточной эмпирики, эти факты стали вводиться в научный оборот. Буддизм оказался не мертвой философией, а живой практикой, отраженной в культах, ритуалах, верованиях. После второй мировой войны начался настоящий расцвет антропологии, основанной на полевых исследованиях. Ученые «выбирали» уже не столько философские конструкции древних учителей, сколько биографии современных отшельников, тексты деревенских проповедей, особенности храмовых фестивалей.
Конец колониализма, в свою очередь, дал новые факты и новое видение. Это было связано с бурным возрождением буддизма и освободительным подъемом национальных восточных культур. Буддизм был в очередной раз заново открыт — теперь как активное и социально значимое явление, вторгающееся в экономические планы и политические решения, отраженное в массовых движениях и идеологиях. Параллельно шло научное осознание многообразия того, что раньше казалось единой древней традицией: выяснилось, что различия вариантов и оттенков буддизма почти неисчерпаемы. Историки древнего и средневекового буддизма стали тоже смотреть на него по-другому: их теперь интересовала не только история идей и история ордена, но и история всего буддийского, что было в обществе, в государстве, в сознании.
Учитывая богатый опыт буддологии и ее эволюцию, можно, по-видимому, рассматривать тхераваду как целостность, не сводящуюся ни к древним философским конструкциям, ни к современной религиозной практике. В прошлом буддизм был в той же мере социологическим феноменом, в какой он ныне остается феноменом мировоззренческим. Чтобы понять буддизм как единство ценностей и поведения, теории и практики, следует сопоставить и синтезировать опыты классической и современной буддологии. Этим и объясняется выбор фактического материала в данном исследовании.
Выделю пять главных групп фактического материала.
1. Тексты буддийского палийского канона и отчасти других (неканонических) буддийских книг. Здесь почерпнуты сведения об основах буддийского мировоззрения: учении о спасении (сотериологии), взглядах о человеке (антропологии), учении о будущей жизни человека, общества и космоса (эсхатологии), системе религиозной и социальной этики. В соответствии с моей задачей содержание текстов рассматривается не само по себе, а в виде его проекций на общественную жизнь.
2. Исторические сведения о формах бытования буддийских ценностей и институтов в обществах тхеравады: традиционной политической культуре (прежде всего буддийской концепции государства и власти), буддийских принципах социальной стратификации и мобильности, -месте и функциях буддийской монашеской общины. Все это необходимо для того, чтобы поставить современные данные в глубокую историческую ретроспективу, без чего невозможно объяснение современных явлений, связанных с воздействием на общество буддийских идей и институтов.
3. Материалы о практическом, «живом» буддизме, собранные в ходе антропологических полевых исследований. Факты, входящие в эту группу, — безусловно, важнейшие для данной работы. Они важны и потому, что относятся к XX в.— периоду, которому книга посвящена, и потому, что восполняют пробелы исторических источников о традиционной модели буддийского общества (при допущении, что современный материал отчасти традиционен по существу) — содержат сведения, в том числе и прямые свидетельства, о ценностных установках, нормах поведения, политических и экономических ориентациях и пр. Эта группа фактов бесценна и потому что демонстрирует на примерах народной жизни ход и существо изменений последнего времени, соотношение религиозной и социальной динамики. Данные полевых исследований в высшей степени информативны: они составляют сердцевину предмета этой книги — «социальную работу» буддийских ценностей.
4. Совокупность современных (относящихся к XX в.) политико-идеологических явлений, связанных с буддизмом: официальные и неофициальные правительственные и оппозиционные программы и движения; идейная и социально-политическая деятельность сангхи; примеры, показывающие роль и функции буддийских символов в идейных спорах века и событиях современной истории. Но в отличие от первой и третьей групп фактов эта труппа, как и вторая, не компактна, а разбросана по разнородным источникам.
5. Последняя группа фактического материала — то, что можно назвать «общими сведениями», создающими исторический фон исследования, но также, в силу характера предмета, имеющими самостоятельную ценность. Это данные, к буддизму прямо не относящиеся, но создающие «сценическое пространство» — ту среду, в которой буддизм живет и которая в то же время отчасти обусловлена его влиянием; это сведения о социальной, политической, -экономической динамике, т. е. о современном обществе как подвижной целостности.
Теоретические основы исследования. Попытаюсь изложить вкратце систему базовых категорий, лежащую в основе исследования, а также -мое видение проблематики, которой посвящена книга.
а) Деятельность и значения. Я буду исходить из широко признанного определения культуры как способа человеческой деятельности. Категория деятельности, или практики, играет решающую роль в предлагаемой концепции; она включает всю совокупность человеческого творчества, является источником и содержанием культуры. Деятельность следует понимать как постоянно возобновляющийся и воспроизводимый процесс, имеющий тяготение к коллективным, социальным формам. Ключевая же особенность человеческой деятельности состоит в том, что она всегда наделяется смыслом, или значением.
Систему значений, охватывающую всю мыслимую реальность, назовем мировоззрением; примером ее в данной работе будет мировоззрение буддизма тхеравада.
Первичная классификационная работа сознания состоит в выделении объектов мира и в назывании их; вторая же стадия сознания есть осмысление, и здесь мы уже имеем дело с классификацией второго порядка — аксиологической классификацией. Мировоззрение, в том числе религиозное, по необходимости строится по ценностно-иерархическому принципу, и каждый его элемент наделяется определенным значением согласно его месту в иерархии и связям внутри нее. На уровне этой вторичной классификации появляются различия между культурами, социальными группами и индивидами. Чем более абстрактен объект, тем явственнее различаются вкладываемые в него значения и тем в более сложной комбинации со значениями других объектов они находятся. Например, понятие «власть» может означать существенно разные вещи в разных культурах или в разных слоях и группах социума. Самые абстрактные объекты, такие, например, как «человек» и «бог», связаны с наиболее важными различиями в значениях и в сущности -наполняются подвижными многослойными семантическими комплексами, зыбкими и полными парадоксов.
Деятельность и значения (смыслы, ценности) находятся в постоянном взаимодействии: желание найти первое, «до- смысловое» действие столь же невыполнимо, как и попытка обнаружить чистое «допрактическое» значение. Система значений располагается логически и после, и до практики; значение может быть осмыслением опыта, т. е. a posteriori, или выступать как организующее и мотивирующее практику — a priori. Практика есть вечный процесс, поток неповторимых действий; значения же имеют тенденцию к «затвердеванию», превращению в некие застывшие формы — слова, идеи, доктрины, символы, наконец, общественные институты (1).
——————————————————————————————————-
(1) Общественный институт, с моей точки зрения, принадлежит к этому ряду и не может быть понят как некая «материальная структура». Институт – это своего рода сгусток значений и одновременно «уплотнение» социальной практики; он есть по существу структура связанных значений, наложенная на ограниченную область интенсивно взаимосвязанных социальных действий.
——————————————————————————————————-
Эти формы, в которых бытуют значения, не могут отразить все богатство практики; смысловая структура, пронизывающая деятельностный процесс, не способна полностью подчинить его себе. И в то же время именно «затвердевшие» значения организуют этот процесс, держат его в смысловых рамках, препятствуя его превращению в лишенный смысла хаос; имеется в виду то, что М. Элиаде называет «космизацией» (2). Это становится возможным именно благодаря некоторой степени независимости от практики, определенной внеданности, которую обретают значения в своем объективированном виде; но эта же оторванность «затвердевших» значений (идей, символов и пр.) от вечно меняющейся практики может привести к отчуждению, нарушению симметрии между действиями и смыслами.
——————————————————————————————————-
(2) «Космизацией» М. Элиаде называет именно процесс осмысления мира, акт миростроительства. Он же подробно группирует представления и ритуалы «вечного возвращения» к моменту сотворения, служащие, собственно, напоминанием о структурирующей роли смысла и об ужасах бесструктурного (или доструктурного) хаоса (см. [Элиаде, 1987]).
——————————————————————————————————-
Для данного исследования важен именно динамичный характер взаимодействия, своеобразный круговорот действий и смыслов: объективируясь, значения в конце концов порождают определенные нормы, установки и ориентации, так или иначе программирующие поведение; круговорот, условно говоря, начинается с действия и кончается им.
б) Религия. Это одна из наиболее распространенных и тотальных систем значений, фиксирующих и организующих человеческую деятельность. Религия предлагает радикальный способ снятия противоречий реальности, ее «космизации»; как и всякая система значений, она есть преодоление аномии с помощью установления номоса (или хаоса — с помощью космоса) [Berger, 1969, с. 19—22]. Р. Белла называет религию «культурным гороскопом» [Bellah, 1965, с. 175]. Религиозные символы — это пример «системы координат», помогающих человеку двигаться и существовать во времени и пространстве [Southwold, 1983, с. 89]. К. Герц определяет религию примерно как системное восполнение логических лакун [Geertz, 1973, с. 98—108]; она способна «восполнять» потому, что универсальна, дает картину мира в целом, концепцию общества (власти, социальных различий, истории), концепцию человека, его психической жизни и т. д. Религиозное мировоззрение строится на обещании счастья, понимаемого как устранение противоречий, как установление идеального смыслового космоса. Участие в религиозном действии призвано снять психологическую и социальную напряженность через достижение если и не самого спасения (освобождения), то по крайней мере уверенности в том, что оно наступит,— certitudo salutis.
Как и всякая система значений, религия выполняет две функции — a posteriori и a priori. Первую условно обозначим как функцию теодицеи (3), т. е. осмысления, объяснения и оправдания реальности; вторую можно назвать функцией программы, т. е. организации и структурирования этой реальности как предпосылки деятельности. Религия, по мнению К. Герца,— это одновременно и model of, и model for [Geertz, 1980, с. 93—94, 120]. «Космологии не только мыслятся, но и живутся»,— пишет С. Тамбайя [Tambiah, 1985, с. 4], выражая ту же идею о двуединстве. Эта идея очень важна: в равной степени ошибочно сведение религии только к отражению (т. е. к первой ее функции) или только к трансцендентному наставлению для мира и человека (т.е. к ее второй функции).
——————————————————————————————————-
(3) Понятие «теодицея» используется здесь не в прямом, изначальном смысле, как в христианской теологии, а условно и относится не только к теоцентрическим религиям.
——————————————————————————————————-
Религиозная смысловая структура представляет собой космос сакральных смыслов; в развитых мировых религиях, в том числе в буддизме, сакральное в высокой степени сосредоточено и противопоставлено профанному; высшие, «царокие» значения, символически воплощенные в образе первопророка, в священных текстах, институте религиозных специалистов и культово-ритуальном комплексе, концентрируют в себе сакральную энергию, тем или иным способом транслируемую в профанный мир деятельности и «заряжающую» его смыслом.
Для меня важен именно процесс нисхождения религиозных значений в мир социальной практики, процесс возвращения их в повседневность и воздействия на нее, т. е. выполнение религией того, что я обозначил как функцию программы. Буду исходить из взгляда на религию как на динамический, разворачивающийся процесс, состоящий из трех уровней раскрытия высших значений, или трех форм бытия религии.
Первичная форма социального бытия религии — доктрина; динамика разворачивания начинается с проповеди Учителя, священного писания; содержание доктрины есть максимально приближенное к высшим религиозным значениям их изложение, «подстрочный перевод», первая фиксация. Но уже здесь происходит интерпретация высших значений согласно принципу «избирательного сродства» (4); волна доктрины как бы накатывается на общество, но тут же окрашивается в разные оттенки, порождая множество толкований и производных форм. Этот сложный процесс я буду называть герменевтическим процессом (5). Ему посвящена глава I.
——————————————————————————————————-
(4) Термин введен М. Вебером, взявшим его из названия романа Гёте «Wahlverwandschaft». В русском переводе это название дается как «Избирательное сродство». У Вебера термин используется очень широко, означая взаимодействие духовных явлений и интересов социальных групп; Исторических факторов, относящихся к разным уровням и типам (например, между религией и экономикой). В английских переводах термин дается как «ellective affinity».
(5) Герменевтический процесс выражается, например, в появлении огромного корпуса околодоктринальных текстов — апокрифов, комментариев, проповедей, житий, культовых руководств. Истолкование может идти как по пути усложнения, специализации (эзотерическое направление), так и по пути упрощения, популяризации (экзотерическое направление). Таким образом, формируются две герменевтические традиции: высокая, интеллектуально-философская, с одной стороны, и народная — с другой. Еще один аспект герменевтического процесса — включение в доктринальный смысловой контекст идей и ценностей, относящихся к другим мировоззрениям, Другим религиозным традициям.
——————————————————————————————————-
Вторичная форма бытия религии — культовый корпус. Это религиозные учреждения, система символов и пластических средств, система ритуалов; культ есть второй этап «разворачивания» значений, иллюстрация и материальное закрепление доктрины, ее драматизация в коллективном проигрывании спектакля, напоминающего о высших ценностях и помогающего их усвоить. Этот процесс будем называть ритуальным процессом; ему посвящена глава II.
Третичная форма бытия религии, по моей классификации, — религиозная социальная программа. Это система практических социальных значений, отнесенных к высшим сакральным смыслам и приложенных непосредственно к социальной деятельности, т. е. нормативно-мотивационная структура этой деятельности. Образно говоря, социальная программа — это все то, что человек приносит в мир из стен храма, когда священная книга прочитана, а ритуал совершен. Процесс реализации программы, который можно назвать социорелигиозным, представляет собой последний этап «разворачивания» значений, последний акт их практического осмысления и применения. Этот аспект проблемы — ключевой для данного исследования, ему посвящены три последние главы: глава III касается собственно тхеравадинской социальной программы, глава IV — ее приложения к политике, глава V — ее приложения к экономике.
Принципиальны следующие вопросы: «доходят» ли высшие доктринальные значения до уровня практических ценностных ориентаций; как соотносятся учение и социальная программа, заповедь и поведение; и если высшие значения все же влияют на профанное социальное поведение людей, то что происходит с ними в процессе «разворачивания»? На эти вопросы я бы ответил так: деятельность бесконечно разнообразна и изменчива, и принцип «избирательного сродства» неизбежно приводит к амбивалентности (многозначности) религиозных учений; это значит, что недопустимо прямое выведение ценностных ориентаций из религиозных заповедей (6). В ходе «разворачивания» высшие значения превращаются, иногда изменяясь до неузнаваемости, происходит их профанация.
——————————————————————————————————-
(6) В выведении практических ценностных ориентаций из религиозных заповедей заключалась ошибка целого поколения религиоведов (см., например, критику М. Вебера у С. Тамбайи [Tambiah, 1973b, с. 55]). Интересное суждение по этому поводу (тоже применительно к буддизму) высказал Р. Гомбрич, предложивший различать когнитивное и аффективное восприятие доктрины, что снимает возможность прямого выведения практики из заповеди [Gombrich, 1971b, с. 5ff],
——————————————————————————————————-
Но следует отвергнуть и крайнее представление о том, что между доктриной и социальной программой нет ничего общего, что «практическая» религия абсолютно самостоятельна и не связана с первоучением, что, другими словами, Большая и малая религиозные традиции отчуждены друг от друга. Религия — тотальный феномен, дуализм «теории и практики» в ней невозможен. В социальной программе, как уже говорилось, высшие значения присутствуют в превращенном, адаптированном виде, но, несмотря на все непредсказуемые и парадоксальные превратности, доктринальная заданность в формировании практических ценностей все же сохраняется; эти последние опосредованно соотносятся с высшими целями религиозного сознания (7).
——————————————————————————————————-
(7) Предложенная Р. Редфилдом оппозиция Большой и малой традиций отразила ставший в какой-то момент очевидным факт отличий народных вариантов религиозности от самого учения; мысль Редфилда была исключительно продуктивной: был поставлен макросоциологический вопрос о «Центре» и «периферии» (это термины Э. Шилза; см. [Shils, 1975]). Но надо помнить, что само деление предполагает именно наличие единой традиции, а не двух, как бы далеко ни заходило различие между ними (дискуссию по поводу соотношения Большой и малой традиций в индологии см. [Mariott, 1955; Srinivas, 1952; Dumont, Pocock, 1957—1960]). Для описания процесса взаимодействия Большой и малой традиций были предложены термины «parochialization» (М. Мариотт) и «sansritization» (М. Шринивас), ставшие популярными в социологии и выражающие два взаимонаправленных процесса: нисхождения высших значений от доктрины к практике и обратного процесса — восхождения от практики к высшим значениям. В таком взаимодействии и состоит единство традиций. В том же духе П. Мус использует две категории — «application» (приложение высших значений к практике) и «prise de conscience» (усвоение высших значений на народном уровне) (см. [Mus, 1956—1959], ср. очень близкие нашему подходу мысли С. Тамбайи о тотальности религиозной традиции [Tambiah, 1970, с. 372—376]).
——————————————————————————————————-
в) Религия на Востоке XX в. Попытаюсь поставить очерченный выше категориальный аппарат в контекст современной социорелигиозной истории Востока. Отсчет современности для восточных обществ, согласно широко принятым взглядам, начинается с момента бурной внешней экспансии западнохристианской цивилизации; несомненно, что история XX в. была историей западного «вызова» и восточного «ответа» на него (точнее, нескольких «ответов» восточных цивилизаций) .
Но эта очевидность, воспринятая некритически, породила серьезную ошибку в ориенталистике: традиционное, т. е. все идущее от периода «до контактов», было понято как сумма пережитков, как статичная и пассивная структура; и наоборот, вся энергия общественной активности и динамики была связана с современностью, воспринятой с Запада и претендующей на универсальность. Это западоцентристское видение восточной истории постепенно усложнялось и, по мере того как накапливался опыт истории, не вмещавшийся в упрощенные схемы, преодолевалось. Линейная парадигма противоречила тому факту, что эволюция восточного общества происходит волнами, в виде чередования обновления и возвращения; что признаки и черты традиционного и современного неожиданно сочетаются, перекрещиваются и в каждом конкретном явлении могут быть переплетены до неразличимости. Признание этого многообразия и попытки уйти от крайних оценок привели к появлению в 60-е годы исследований, разрабатывавших идею диалектического взаимодействия традиционного и современного, при котором они могут в силу обстоятельств как бы меняться местами, скрыто нести в себе элементы друг друга. Наконец, сложилась идея синтеза, в которой дихотомия двух полюсов практически отсутствует (8).
——————————————————————————————————-
(8) Линейная парадигма была резко атакована и леворадикальной социологией. Ее представители утверждали, что развитие неотделимо от возрастающей зависимости, а цена за независимость — стагнация. «Левые» также считали, что восточные общества рассечены надвое, а разрыв между архаикой и модерном непреодолим и будет усиливаться. По существу,, этот подход был пессимистической изнанкой бодрого, прогрессистского убеждения в линейном прогрессе, ибо в основе того и другого лежит идея дихотомности. Преодоление дихотомии «старое — новое» произошло во многом благодаря работам Ш. Айзенштадта и Э. Шилза. Айзенштадт, например, подверг сомнению доминировавшие в начале 70-х годов взгляды; при этом он исходил из того, что модернизация — это не линейный универсальный процесс, а только серия схожих проблем, в решении- которых есть выбор [Eisenstadt, 1973а]. Идея синтеза — несколько более поздняя. В отечественном востоковедении она обобщена в «Эволюции восточных обществ» (см. [Эволюция, 1984]).
——————————————————————————————————-
Усложнилось, кроме временного, и пространственное видение восточной истории; универсалистская парадигма оказалась столь же упрощенной, как и линейная. Если долгое время Восток мыслился как целостность, как монолитный негатив Запада, то позднее, по мере усиления роли традиционных автохтонных общественных структур и культурного национализма, на поверхность стало выходить многообразие, обнаруживались явные признаки самобытности каждого из обществ. Становилось ясно, что их исторические судьбы определяются не только универсальными тенденциями, но и спецификой их культурного наследия. После «мирового пожара» («пожара капитализма», или «пожара мировой революции») «феникс многообразия» все-таки возродился из пепла (метафоры взяты из [Tambiah, 1985, с. 345]).
Все это заставляет обратиться к тому, что просмотрел «одноглазый гигант» социологии развития [Goulet, 1980], отождествлявший модернизацию восточных обществ с темпами экономического роста, техническим прогрессом и улучшением статистических показателей, а именно к качественной самобытности господствующих в обществе систем значений. Социология развития оказалась не готова к появлению идеи «своего пути», поиском которого были всегда заняты восточные идеологи; идея «своего пути» — это отражение того факта, что культурная традиция в значительной мере программирует современную историю.
Общество испытывает потребность в осмыслении своего исторического движения. Нарушение симметрии между значениями и деятельностью, между ценностями и практикой приводит к тому, что изменение в какой-то момент теряет смысловую и моральную обоснованность, становится неестественным и мыслится даже как враждебное обществу; рано или поздно нарушается общая стабильность, происходит взрыв традиционалистского «ответа». Модернизация на Востоке очень часто оказывалась тем, что можно назвать нелегитимным развитием [Wilber, Jameson, 1980, с. 467—468]; совершенно нелегитимными были планы, основанные на линейно-универсалистском подходе и замыкающиеся на количественных показателях; они приводили к большим «психологическим издержкам» модернизации, а затем — и к материальным [Nash, 1984, с. 32].
Сущность «своего пути» состоит в том, чтобы сделать развитие легитимным (9), определить тот объективный предел, за которым изменение перестает быть ценностно и морально обоснованным. Я исхожу из посылки, что только глубокое взаимосоотнесение господствующих систем значений с новым практическим опытом способно обеспечить стабильное и эффективное изменение. Такое соотнесение и легитимирует изменения, способствуя включению нового опыта в преемственный контекст культуры.
——————————————————————————————————-
(9) Слово «легитимный» употребляется здесь не в прямом юридическом смысле; речь идет о культурной легитимности (законности) исторического движения общества.
——————————————————————————————————-
Именно религия как система значений, фиксирующих и упорядочивающих всю сумму традиционного опыта, представляет в этом смысле особый интерес. Периоды ускоренных изменений и периоды замедления и отката в истории Востока XX в. всегда сопровождались теми или иными религиозными брожениями, работой по глубокой переоценке религиозных значений. Освободительное движение стало первой полосой религиозного возрождения; новый импульс ему дало восстановление независимости; в 80-е годы, после некоторого затишья, религия снова попала в фокус событий, особенно в мусульманском и дальневосточном регионах. Впрочем, и внешне спокойные периоды таили в себе глубокие, хотя и медленные сдвиги, были наполнены внутренним драматизмом.
Религиозные процессы, по-видимому, были фокусом восточного «ответа» на западный «вызов» XX в., и именно под этим углом зрения они рассматриваются в данной работе. Религия, будь то доктрина, культ или социальная программа, как правило, относится к числу консервативных факторов, сдерживающих изменения (10). Необходимо внести принципиальное уточнение в эту общепринятую оценку. С моей точки зрения, совершенно беспочвенно ожидать, что религия будет играть роль стимула изменений; но если взглянуть на проблему по-другому, то окажется, что религиозная система значений является, как правило, единственным ценностным материалом, который может морально обосновать изменение и обновление общества, сделать их легитимными. Динамическая функция религии состоит не в непосредственной инициативе, а в опосредовании инициативы изменений. Новый опыт в конечном счете становится органичной частью общества не вопреки религии, а, наоборот, только тогда, когда он опосредуется привычными религиозными смыслами; лишенный такой смысловой санкции, новый опыт (политический, экономический и пр.) остается в виде «анклава» с сомнительными перспективами, вызывает дезинтеграцию, «социальные неврозы», кризисы идентичности и общую нестабильность.
——————————————————————————————————-
(10) Г. Мюрдаль, например, пишет, что религия на Востоке всегда была только фактором социальной инерции, но никогда — фактором перемен [Мюрдаль, 1972, с. 150]. Ту же мысль, хотя и более тонко, высказывает М. Нэш. Религия, считает он, не может быть инструментом модернизации, а если ее саму не модернизировать, она может стать тормозом [Nash, 1984, с. 54]. Г. Мюрдаль, однако, противореча себе, пишет в другом месте: «Основные учения древних религий — …индуизма, ислама и буддизма — вовсе не обязательно враждебны модернизации» [Мюрдаль, 1972, с. 133]; он же напоминает, что на Западе (как и в Азии) религия и вся старая культура использовались как в поддержку, так и против идеалов модернизации. В целом господствующая точка зрения обычно, в лучшем случае, оставляла религии шанс быть нейтральной и содержала обращенный к политикам- реформаторам совет нейтрализовать ее, вынести ее за скобки модернизации.
——————————————————————————————————-
Что позволяет религии выполнять эту функцию? По-видимому, парадоксальное сочетание духовного авторитета, основанного на неизменности и преемственности, с удивительной многозначностью и открытостью к интерпретациям. Для всякой религии это ключевая внутренняя дилемма, и ее разрешение состоит в некоем компромиссе, в трудно уловимом равновесии между необходимостью остаться неизменной, и необходимостью меняться. XX век, принесший на Восток глубокие перемены, заставил религию сполна продемонстрировать эту способность к гибкости.
В результате большинство социальных движений и конфликтов на Востоке умещалось в религиозные рамки, оформлялось религиозными идеями и освящалось религиозными символами. Религия, кроме того, часто была той стабилизирующей силой, которая, предлагая единые государственные и моральные символы и идеи, снимала напряжение и обеспечивала относительную плавность исторического движения (например, тайский буддизм или японский императорский синтоизм). Далее, именно реформированная религия освящала и сам процесс складывания в обществах новых групп, делая легитимным их самоутверждение (обоснование новых экономических ролей, высоких «рыночных» доходов, статусное и культурное самоутверждение интеллигенции). Для традиционно приниженных групп переосмысленные религиозные ценности служили опорой для повышения статуса и включения в демократический процесс (например, движение низких каст в Индии). Образование наций, а также национальных меньшинств в рамках современных полиэтнических государственных систем — еще один яркий пример изменений, опосредованных религией.
Разумеется, не следует забывать и религиозный консерватизм, примеров которого достаточно; но мне важно подчеркнуть, что и ничто новое не сможет обойтись без посредничества религиозных ценностей; религия способна не только духовно обосновать волю к изменению отдельных групп: социума, но и предоставить средства мировоззренческой, символической и психологической легитимации самого процесса изменений всего социума в целом (например, в концепциях исламского или буддийского пути, исламского или буддийского социализма и т. п.).
Нельзя обойти и вопрос о протестантской этике, той самой христианской социальной программе, которой, согласно М. Веберу, недоставало восточным религиям для легитимации капитализма (см. [Weber, 1960; 1964]). Споры вокруг этого тезиса продолжаются до сих пор, в том числе и в востоковедении (см. [Kantowsky, 1986]) (11). Одни исследователи, в полном согласии с М. Вебером, отказывают азиатским религиям в зачатках тех ценностных ориентаций, которые могли бы породить нечто сходное с протестантской этикой; другие (среди них большинство азиатских ученых), напротив, пытаются отыскать в исламе, индуизме или конфуцианстве элементы протестантской этики.
——————————————————————————————————-
(11) Подробный анализ современной индологической «веберианы» см. в диссертации Н. Г. Зарубиной [Зарубина, 1990].
——————————————————————————————————-
Ошибка обоих подходов, на мой взгляд, в том, что предметом спора является наличие или отсутствие в азиатских религиях ценностной программы, которая могла появиться только в рамках западного христианства и только в определенный исторический момент. В основе этой ошибки — все тот же западоцентризм: иллюзия, что развитие всегда и везде должно быть облечено в западную форму и что, следовательно, культурно-религиозная программа этого развития должна быть подобна той, что сложилась на Западе в ходе модернизации. Между тем истина, по-видимому, в том, что в разное время и в разных обществах могут возникать иные по содержанию системы значений, выполняющие ту же функцию, что и протестантская этика на Западе в XVI—XVIII вв., т. е. функцию обоснования, упорядочения и направления быстрых структурных изменений. Поэтому в иных культурах следует искать не элементы протестантской этики как таковой, а некий функциональный аналог тому, чем была протестантская этика на Западе. Аналогию по функции надо отличать от аналогии по содержанию, ибо в каждой из азиатских культур своеобразен и исходный мировоззренческий материал, и способ его толкования (реформы); модернизация в каждом случае имеет свою мировоззренческую программу («свой путь») (12).
——————————————————————————————————-
(12) Интересна дискуссия о конфуцианской этике. Быстрая модернизация, стран дальневосточного региона, находящихся в орбите китайско-корфуцианской культурной традиции, долгое время рассматривалась как утверждение западных ценностей и преодоление конфуцианской этики с соответствующими структурными особенностями (групповая ориентация, гуманитарная направленность, ритуальность, возрастной и социальный иерархизм, политизация экономики и пр.). С конца 70-х годов оценки стали стремительно меняться. Конфуцианская традиция была объявлена не препятствием, а благоприятной психологической почвой для быстрых перемен: модернизация вопреки конфуцианской этике оказалась модернизацией благодаря ей. Открыла современную дискуссию статья Р. Макфаркуара [McFarqu- har, 1980]. Японский менталитет под этим углом зрения был рассмотрен уже в одной из первых и лучших работ о японской системе ценностей, написанной Р. Бенедикт [Benedict, 1946]. Может показаться, что такой крутой поворот в оценках — следствие идеологического произвола ученых, экспертов и политиков. Но скорее всего в современном издании неоконфуцианcтва (восходящего к чжусианству и особенно к Ван Янмину) обнару- жилось некоторое созвучие с западно-протестантской ценностной программой: идея долга, этика упорного труда, идея призвания, наконец, специфический индивидуальный характер, нацеленный на материальный успех к деятельный энтузиазм. Здесь есть и прямое влияние, но многие ценности этого ряда имели традиционное происхождение (самый известный пример — самурайский кодекс бусидо, в XVIII в. распространившийся на все японское общество, то, что М. Морисима назвал «секуляризацией бусидо» dorishima, 1984, с. 50]).
Если вынести за скобки чисто исторические (ситуационные) факторы, игравшие решающую роль в модернизации дальневосточных обществ, можно утверждать, что конфигурация неоконфуцианских ценностей явно содействовала этому процессу. Но самое главное состоит в том, что в целом ценностно-психологическая основа дальневосточной модернизации совершенно специфична, а значит, очень специфична и сама социальная практика, тип организации модернизированных, постконфуцианских обществ. В этой модели, в отличие от западной, гораздо большую роль играют групповая солидарность и корпоративность (внутри фирм и компаний), семейные и родственные связи, внеэкономические принципы организации и оплаты рабочей силы (пожизненный наем и возрастная карьера), интетегративная функция государства, политический консенсус на общенациональном уровне (страновые различия не затрагиваются). Все это означает, что сложившиеся здесь типы обществ только с оговорками можно назвать капиталистическими или демократическими в западном смысле. Это пример самобытного «ответа» иной цивилизации на западный цивилнзационый «вызов», пример, помогающий определить границы, аналогии между протестантской этикой и динамичными религиозными (ценностными) системами на Востоке, которые или уже сложились, или сложатся в будущем.
——————————————————————————————————-
Именно выработка такой специфической ценностной системы, способной легитимировать изменения, и была содержанием духовных поисков на Востоке в этом столетии; именно к этому сводились герменевтический и ритуальный процессы (толкование учений и модификация культовой практики); именно в этом состояли стихийные переоценки в недрах традиционных социальных программ каждой из религиозных культур.
Место религии и связанных с ней систем значений определяется в конечном счете потребностью в балансе между изменениями и преемственностью, модернизацией и самобытностью, т. е. балансе, который должен лежать в основе легитимного развития. В таком случае будущие восточные общества сохранят не только свои языки, фольклор, литературу, искусство, но также, по-видимому, и некоторые важные социокультурные значения, восходящие к традиционным религиозным мировоззрениям. Но если это так, то будущие восточные общества сохранят своеобразие и в самой человеческой деятельности, социальной организации, структуре институтов, типе личности, несмотря на то что у истоков становления всех этих новых форм стоят, в числе прочих, и западные прототипы.
<<К оглавлению книги
Буддизм и легитимное развитие
В этом исследовании я пытался показать как многообразные социальные значения, восходящие к буддийскому тхеравадинскому мировоззрению, преломились в социальных процессах нынешнего века. Я исходил из того, что, во-первых, вся история XX в. есть история «вызова», брошенного западной цивилизацией «Modernity», и, во-вторых, все прочие цивилизации реагировали на этот «вызов» по-разному.
Выше была показана реакция на него буддийской культуры на разных уровнях и в разных сферах; в совокупности весь исследованный материал свидетельствует о поисках каждой культурой самобытной модели развития, собственного места в новом мире, своего лица. Самобытность — это не каприз консерваторов и традиционалистов, сопротивляющихся всему новому. Теперь уже почти общепризнано, что она имеет и более глубокое историософское значение: самобытность есть гарантия выживания культуры как самостоятельной уникальной единицы; ощущение почвы, родового культурного корня, чувство идентичности столь же необходимы, как и материальное благополучие; потребность в значении не менее важна, чем потребность в хлебе насущном. История XX в. знает примеры, когда, жертвуя чем-то одним, общество оказывалось ни с чем. Развитие, в жертву которому приносится космос первичных культурных смыслов, со временем приводит к социальному хаосу. Модернизация, лишенная смыслового, культурного, а проще говоря, морального обоснования, не имеет, по-видимому, перспективы, и рано или поздно неизбежно встает проблема такого обоснования. Возможно, легитимное развитие — это лишь идеал, который недостижим, а если и достигается, то только на короткие исторические отрезки. Однако важно стремление к нему, остающееся безусловным императивом часто на уровне коллективного бессознательного.
Поэтому самобытны пути развития, самобытны «ответы» на западный «вызов». В контексте культурной традиции западные институты и ценности неизбежно меняются. Но то же касается и традиционных ценностей и институтов. Переосмысление собственной культуры так же необходимо, как и осмысление инокультурного. Выше было показано, и не один раз, что формирование нестандартных взглядов «на импортированные» новшества сопровождалось переменами и во взглядах на самих себя, неожиданными интерпретациями старых понятий, перестановкой акцентов в традиции и т. д. Все восточные культуры пережили в XX в. более или менее острый кризис идентичности, и все они с большим или меньшим успехом обрели ее вновь, но в такой переосмысленной, форме, которая могла бы стать культурным обоснованием нового опыта. Религиозные и светские мыслители сотрудничали и спорили, поверхностные истолкования сменялись всплесками ортодоксальности, а в глубинах воссоздаваемой ортодоксии рождались более тонкие и фундаментальные интерпретации.
Тхеравада включилась в эту сложную интерпретационную работу, причем на всех уровнях. На уровне доктрины, как говорилось в главе I, шел четырехступенчатый герменевтический процесс: возрождение и консолидация высших сакральных смыслов; рационализация сакральных смыслов, призваннная сделать их более гибкими и приспособленными для перетолкований; изменение сакральных смыслов; их возвращение в профанный мир в обновленном виде, более созвучном новым формам практики. Эти превратности элитарного сознания не были предназначены для массового понимания, но некоторые их следствия (обмирщенный вариант ниббаны, общедоступность медитации и пр.) имели сильный резонанс в широких городских слоях. Однако рациональное толкование не могло заменить всего традиционного религиозного опыта, поэтому в городе оживились религиозные «эмоции» в виде мистики и старых видов магии, принесенных массой бывших обитателей деревень, переселившихся в город. И рациональное и эмоционально-магическое направления религиозного сознания в новых условиях города смыкались в общей потребности обрести психологическую устойчивость, увязать новые виды деятельности и новый стиль жизни с привычным смысловым контекстом. Вся культурная атмосфера буддийских городов XX в. способствовала усвоению общественных новшеств и одновременно сохранению национально-культурной идентичности, связанной прежде всего с буддизмом. По-разному толкуемый буддизм мог иногда стать .источником замкнутости и ксенофобии, но в конечном счете он выполнял семантическое посредничество в усвоении новых значений и новых социальных ролей.
На уровне религиозного культа в XX в. наблюдается преемственность как и на протяжении всей прежней истории тхеравады, сангха, выполняя антиномическую роль символа-института, балансирует между интровертной чистотой и исполнением социальных функций. В контексте «большого времени» XX век был в целом периодом обмирщения, растворения культовой практики в повседневности и даже перехода ряда ритуальных функций к мирянам (бурный расцвет мирского буддизма в городах) (1). В то же время угроза размывания культовой специализации, а значит, и грани между сакральным и профанным, полное исчезновение которой означало бы конец религиозной традиции, вызывала к жизни и обратную тенденцию. И монахи и миряне предпринимали энергичные усилия, направленные на возрождение чистоты и канонической замкнутости сангхи, чтобы тем самым сохранить ее авторитет и роль источника харизмы, столь необходимой для всякого, а тем более меняющегося общества. Проявление этой тенденции — возрождение строгих аскетических мотивов в культовой практике. Многие миряне, в том числе элитные группы, обращаются к сангхе в поисках харизмы — той сакральной материи, которая легитимирует их власть или преуспеяние в собственных и чужих глазах. Для некоторых групп мирян сангха является и средством повышения статуса, приближения к сакральному или светскому центру общественной системы.
——————————————————————————————————-
(1) Обмирщение сангхи было все же не таким всеохватывающим, как, например, обмирщение католической церкви в Азии, Африке и Латинской Америке, особенно после II Ватиканского Собора (60-е годы). Последнее было целенаправленным и дисциплинированным поворотом к миру. Четыре пятых опрошенных священников на Филиппинах безоговорочно ориентированы на активную социальную работу (см. [Mehden, 1986, с. 87], а также [Подберезский, 1988]).
——————————————————————————————————-
Подобно доктрине и культу менялась и тхеравадинская социальная программа — совокупность ценностей, непосредственно упорядочивающих социальную практику. Ни политику, ни экономику буддийских стран в XX в. адекватно не понять вне проблемы социальной семантики. Традиционная политическая культура, как было показано выше, многообразно преломлялась, иногда неявно, в ходе государственной интеграции, при формировании системы управления, в политическом соперничестве, а главное, дала о себе знать в конкретном наполнении всех человеческих связей, имеющих отношение к власти и подчинению. Через призму политической традиции воспринимались все новые (западные) формы политической организации — как ценности (свобода, демократия, законность и пр.), так и соответствующие институты (избирательное право, парламент и пр.). В области экономики новые виды деятельности, новые специальные экономические роли, новые формализованные обменные связи также не миновали посредничества тхеравадинских ценностей: последние прямо вплетались в экономику в виде оценок и предпочтений, концепций экономической морали («буддийская экономика»), косвенно воспроизводились в виде традиционных форм человеческих связей и мотивов поведения (если даже эти формы и мотивы внешне не имели чисто религиозного содержания). Эксплицитно новые городские роли были вполне секулярными, но старые значения социальной программы нельзя было обойти. Западные политико-правовые и экономические формы, переведенные на язык буддийского менталитета и поведения, искажались довольно существенно, но только такое искажение — в тех случаях, когда не было прямого отрицания,— делало их понятными и готовыми к усвоению.
|Парадокс модернизации XX в. состоит в том, что принципиальные новшества и неожиданные резкие всплески традиционности сменяют друг друга; взлеты секулярного мышления происходят одновременно с обострением религиозных чувств; воля к заимствованию так же очевидна, как и воля к почвенному пуританизму. Эти внешние колебания, ожесточенные споры, соперничество символов и идей — отражение глубокого структурного диалога ценностей, нащупывающих взаимность, стыкующихся в разных комбинациях. Смысл и цель этого диалога — формирование такого буддийского легитимного «ответа», который мог бы стать духовным фундаментом «самобытной современности» (или «современной самобытности») каждого из обществ.
Новые социальные группы тхеравадинских обществ нуждались в религиозной легитимации в не меньшей, а возможно, и в большей степени, чем традиционные консервативные группы. Новые роли и новый стиль жизни всегда требуют более интенсивного и радикального морального оправдания.
Не случайно поэтому именно город как источник всех новшеств стал ареной религиозного «ренессанса», именно средние городские слои — наиболее динамичная часть восточных обществ этого столетия — были субъектами возрожденной религиозности. Может показаться, что «ренессанс» буддизма (как и ислама в мусульманских городах) последовал за быстрым переселением в города набожной деревни, т. е. традиционализацией городов. Это верно лишь отчасти; действительно, наблюдался расцвет архаических вариантов религиозного синкретизма, включая магию и экзорсизм, принесенные в города новыми насельниками, но к религиозному возрожденчеству, реформе, скриптурализму и рационализации учения деревенская архаика не имеет отношения.
Субъекты «ренессанса» — это уже не вчерашние крестьяне, составляющие городские низы, а средние горожане, вынужденные включаться в чисто городской ритм и живущие по законам нового социального пространства. Здесь все непривычно, старые устойчивые связи и традиционные институтуты не работают, новые чужеродны и непонятны. Это — социальный хаос, но люди не могут жить в условиях хаоса. Они стремятся упорядочить тесное городское пространство, поэтому с особым рвением и настойчивостью «вспоминают» старые религиозные смыслы (конечно, по-новому истолковывая их), чтобы наполнить ими новые отношения и новые виды практики и в конце концов ценностно легитимировать свое право на существование, а затем и право на доступ к успеху и власти. Разумеется, в поисках ценностной легитимации к религии обращаются, как уже говорилось, и другие группы — бедные и элитарные, но «новые средние» — наиболее важное явление XX в. (2).
——————————————————————————————————-
(2) Вот некоторые примеры поиска религиозной легитимации «новыми средними» социальными группами. На растущие средние, прежде всего образованные, слои был рассчитан «буддийский протестантизм» и «Daily Code for the Layman» Дхармапалы [Gombrich, Obeyesekere, 1988, c. 213— 214]. Средние слои были главными дарителями сангхе в Бирме в 50-е годы [Taylor, 1987, с. 181], можно предположить, что с их религиозной активностью связано увеличение подношений в 80-е годы [Tin Maung Maung Than, 1988, с. 59]. Принадлежность к разным сектам в Шри Ланке коррелирует с социальной градацией (Рамання-никая связана с прибрежной буржуазией [Краснодембская, 1982, с. 182]). Возросла религиозность тайского среднего класса в 70-е годы (см. [Tambiah, 1984, с. 168—169]); рационализированный элитарный буддизм в XX в. приобрел «буржуазный» характер (см. [Southwold, 1983, с. 150]). Верно, однако, и то, что буддизм остался религией всех слоев [Tambiah, 1976, с. 429], но в разных субкультурных вариантах.
——————————————————————————————————-
Страновые различия. Во всех тхеравадинских странах смысл религиозных процессов был схожим. И тем не менее судьбы этих пяти стран в XX в. существенно различались, настолько существенно, что тезис о единстве тхеравадинской цивилизации может быть подвергнут сомнению. Большая религиозная традиция на протяжении веков объединяла эти страны, но в XX в. различающие факторы оказались сильнее. Различие судеб государств, принадлежащих к одной религиозной традиции, определяется, по-видимому, уникальным в каждом случае стечением исторических обстоятельств. Сначала следует рассмотреть различия нерелигиозных факторов, так или иначе повлиявших на место и форму тхеравады в каждой из стран.
Для Шри Ланки такими факторами стали длительность интенсивных контактов с Западом и продолжительность колониального статуса (XVI—XX вв.); островное положение и, как следствие,— компактность государственного пространства; соседство мощной индийской культуры, имеющей форпост в виде тамильской Джаффны. Результатом всего этого стали сравнительно высокий и стабильный уровень жизни, относительно устойчивый рост рыночной экономики, а в политике — националистический радикализм, восходящий к освободительному движению, острая проблема интеграции в независимом государстве.
Для Бирмы главными историческими обстоятельствами были жестокая и сжатая по времени колониальная экспансия, разрушившая традиционную социополитическую структуру, следствием чего стал сильный структурный дуализм, а значит, еще более острый, чем на Ланке, политический радикализм; тяжелые последствия второй мировой войны и, следовательно, экономическая нестабильность; этническая гетерогенность (большая, чем на Ланке), а поэтому невероятная сложность интеграции в единое национальное государство (типа nation-state).
В Лаосе решающее значение имели такие обстоятельства, как бесконечные, длившиеся много столетий внутренние конфликты, отсутствие единого сильного центра социополитической интеграции; постоянная пассивная вовлеченность в войны соседних государств, а во второй половине XX в.— в геополитические игры держав; полиэтничность (как в Бирме); специфика французского колониального правления (Франция относилась к Лаосу как к буферу-периферии своих владений, не прибегала к интенсивному администрированию и не предпринимала больших усилий для модернизации страны).
В исторической судьбе Камбоджи много схожего, за исключением, несомненно, более высокой степени интеграциии до и после периода протектората; однако, как и Лаос, Камбоджа превратилась в арену внешних распрей, радикализировавших до предела и внутреннюю жизнь. Этническая однородность и наличие единого центра, возможно, и привели к тому, что гражданская война приняла здесь ужасающие по жестокости формы (гетерогенность Лаоса можно рассматривать, по-видимому, как фактор смягчения политического радикализма).
Для Таиланда решающими обстоятельствами, определившими его судьбу, были удачное избежание прямой колониальной зависимости благодаря раскладу интересов держав и тактической гибкости правителей из династии Чакри; возрожденная в начале XIX в. стабильная сила социополитического центра, эффективно контролировавшего страну, делавущего частичные уступки ради сохранения ее независимости, открывшего страну с тем, чтобы провести выборочное заимствование элементов западной цивилизации, не поколебав при этом самобытный строй символов и ценностей, и модернизировавшего страну «сверху» — политически и экономически. Еще один важный фактор современной тайской истории — относительная этническая однородность (отказ от имперских окраин в пользу Англии и Франции в конце XIX в. сыграл в этом смысле положительную роль). В результате Таиланд превратился в высоко интегрированное nation-state с эффективным и специализированным бюрократическим аппаратом, с формирующейся демократической традицией (в итоге революций 1932 и 1973 гг.), с динамично развивающейся экономикой, с меняющейся социальной структурой, с высокой культурной открытостью. Тайское общество, в отличие от других тхеравадинских обществ, не знало ни массового радикализма, ни сильного увлечения социализмом. В тайской истории постепенность явно преобладала над порывистостью реформаторства. Если Бирма, Лаос и Камбоджа, делая «скачки в будущее», оказывались отброшенными в прошлое, Таиланд, меняясь без спешки, обновлялся.
Без всяких сомнений именно внекультурные факторы обусловили различия исторических судеб пяти стран. Но логика исследования требует и выяснения того, какую роль сыграли в этих судьбах особенности страновых культурных традиций, или малых традиций тхеравады (3). В каждом из обществ комбинации буддийских, местных (автохтонных этнических) и различных индуистских элементов были уникальны, культурный строй и степень его открытости были несхожи.
——————————————————————————————————-
(3) Мне известна только одна статья, где речь идет о малых традициях Бирмы, Таиланда и Лаоса [Cohen, 1987].
——————————————————————————————————-
Сингальская буддийская культура, например, всегда была сильно индуизированной и сочеталась с развитым культом небуддийских божеств. Собственно буддийский комплекс на Ланке не был четко обособлен, индуистские критерии «чистоты—нечистоты» проникли и в тхераваду (чего не было в других странах Юго-Восточной Азии); граница сакрального и профанного была строгой (отсутствовало временное монашество). Общество, как и культура, здесь всегда было более стратифицированным, чем в других тхеравадинских странах. Соседство с Индией и родственную близость к ней можно считать и благом и бременем, и это, наряду с невероятной исторической глубиной буддийской традиции (более двух тысяч лет), привело к появлению (или возрождению) в XX в. самого сильного в буддийской Азии «культурного национализма» (когда национализм питается не столько чувством этнорасовой, сколько культурно-религиозной солидарности). Комбинированный характер религиозной культуры, сохранение в смягченном виде кастово-родственной стратификации, множественность региональных вариантов (исторические области Раджарата, Канди, Западный прибрежный район, Рухуна) при существовании единой «сингальской расы» сделали в течение нескольких веков это общество достаточно открытым.
Говоря о различиях малых традиций тхеравады в контексте современной истории, уместно вспомнить о «вторичности» лаосского этнического буддизма по отношению к тайскому, о глубокой архаике проникшего в него субстрата примитивных верований и представлений, о неоформленности собственно лаосской (именно вселаосской) тхеравадинской традиции. Все это объясняет, хотя бы отчасти, отсутствие в XX в. концентрированной стержневой концепции развития, основанной на толковании буддийской традиции. По-видимому, отсутствие центра силы в лаосской истории как-то связано с отсутствием прочного символического центра.
Что касается кхмерской культуры, то ее главная особенность заключается в том, что она более древняя, чем соседние материковые культуры. Ее древность сопоставима с сингальской, но в отличие от последней она имела богатую и зримую добуддийскую цивилизованную историю. Кхмерская культура сильно индуизированна по своим корням. В то же время монашеская, дисциплинарная сторона тхеравады здесь была весьма развитой и канонически строгой, она не отличалась сильной мистической ориентацией, но ей не была свойственна и активная мирская вовлеченность. Поэтому буддизм в XX в. был более заметен в области идеологии, чем в политике. В силу многослойности кхмерской духовной традиции тхеравадинские символы не были единственными и монолитными компонентами в идеологии и политике.
Малые традиции Бирмы и Таиланда удобно рассматривать в сравнении. Особенностью бирманской тхеравады, по- видимому, была сильная ориентация на потусторонний мистицизм (особое внимание уделялось абхидхаммической созерцательности); тайская тхеравада была, напротив, ориентирована на активное ритуальное упорядочение профанного мира (экстравертность сангхи, интерес к суттам и практической морали). Бирманская сангха была более политически отчужденной, тайская — более сращенной с политикой, государством, царской властью; колониальная дезинтеграция религии и политии в Бирме и сближение их в Таиланде (в тот же период), видимо, лишь усилили различие. Сравнение политий на рубеже XVIII и XIX вв. (династия Конбаун возникла в середине XVIII в., династия Чакри — в конце того же века) показывает, что тайская, в отличие от бирманской, уже тогда развивалась в направлении большего рационализма и эффективности, в ней был меньше «гипноз сакральности» монархии и несоизмеримо более высока степень кодификации права (в том числе административного). «Посюсторонность» тайского буддизма сделала общий климат тайской культуры более располагающим к открытию страны, к заимствованию (после, впрочем, полуторавековой закрытости, что напоминает японский опыт). Тайская система ценностей оказалась более эластичной и приспособляемой. Бирманская же буддийская культура была менее гибкой, менее терпимой, более национально изоляционистской; западный «вызов» в XIX в. получил почти однозначный негативный «ответ», а в 60-е годы XX в. «ответ» повторился. Из-за меньшей гибкости бирманской тхеравадинской культуры рыхлость групповой солидарности, индивидуальная автономость, т.е. то, что было изначально заложено буддизмом в социальную программу, вызвали в XX в. рост милленаристского эгалитаризма, способствовали популярности радикальной анархической идеи равенства и оппозиционной политизации монашества (что было и на Ланке). В Таиланде же традиционные значения были истолкованы в другом ключе — здесь преобладали иерархические межличностные связи, эластичность которых повысилась с ослаблением жесткой социальной организации кхмерско-индуистского образца, существовавшей до XIX в.
Таким образом, ценностные и чисто исторические (объективные) причины различий иногда переплетаются чрезвычайно тесно: сама интерпретация исходной традиции тоже зависела от обстоятельств истории, но и обратную зависимость вряд ли можно игнорировать.
Я не исключаю того, что говорить о тхеравадинских обществах конца XX в. уместнее в терминах страновых особенностей, чем постбуддийского (цивилизационного) единства; слишком далеко и очевидно разошлись судьбы пяти изучаемых стран. Но вряд ли следует преувеличивать и их сходство в прошлом. История каждого их этих обществ и сто, и двести, и пятьсот лет назад была уникальной, их самобытные этнические культуры всегда различались. Даже и малые традиции тхеравады в прошлом, как и сейчас, были: всегда настолько несхожи, что цивилизационное единство осознавалось гораздо меньше, чем национальная специфика. И тем не менее в масштабах «большого времени» их объединяет Большая традиция палийского буддизма; и в той мере, в какой мыслимо такое единство, можно говорить о сохраняющейся одной цивилизации, общей корневой структуре, в конце концов,— о едином моральном и смысловом фундаменте истории тхеравадинских обществ в XX в.
Стали ли эти общества менее буддийскими под мощным давлением чужих богатств и чужих понятий? Трудно дать однозначный ответ. Энергия освобождения вылилась в религиозный романтизм, в новую волну буддизации. В историю тхеравады в масштабах «большого времени» XX век войдет как этап нового буддийского фундаменталистского наступления на религиозную дописьменную архаику, хотя вторая половина века была и временем частичной гетеродоксальной реакции. Одновременно XX век заставил буддийскую культуру в невиданной степени раскрыться остальному миру. Христианизации, однако, не произошло — этот факт заслуживает внимания. Современный западный секуляризм, в его разных вариантах, имел большой успех, но о какой из пяти стран и теперь можно сказать, что она вполне секулярна? Буддизм остался символическим ядром культуры, и не исключено, что идеологический акцент на этой его роли еще усилится в той или иной стране. Но что еще более важно моральный строй, культурное самосознание, мировоззренческие принципы массы людей и теперь немыслимы вне буддизма. По-видимому, вне буддизма и будущая история этих стран не может быть легитимной.
<<К оглавлению книги
Содержание
§ 1. «Я», индивид, личность
Первый мотив: отрицание «я»
Второй мотив: индивидуализм сотериологии
Социокультурные следствия
«Незавершенный индивид»
§ 2. «Я» и другие. Межличностные отношения
Мирская религиозная мораль
Всеобщая взаимосвязь
Метафизика заслуг. Ценность связей
Социальная фиксация праведности
Равенство и иерархия
Бодхисатта и каруна. Характер межличностных связей
§ 3. Индивид и группа
Группа в буддийской социальной программе
Особенности системы родства
Буддийский персонализм. Патрон-клиентные отношения
Непостоянство и мобильность
§ 4. Буддийская социальная программа как историческое явление и идеальный тип
«Встречные факторы» при формировании программы
Западная экспансия как «встречный фактор»
Буддийская социальная программа (идеальный тип)
Третья форма бытия религии, представляющая наибольший интерес для данного исследования,— ее социальная программа, т. е. система социальных значений (ценностей), сформированных на базе религиозного мировоззрения и предназначенных непосредственно для светской общественной практики. В этой главе будет сделана попытка ответить на следующие вопросы. Каковы в культурном ареале тхеравады значения понятий «индивид» («личность»), «межиндивидуальное отношение», «группа», «иерархия», «власть», «богатство», а также значения всех производных и связанных с ними понятий? Каковы, следовательно, характерные для тхеравады представления о должном (идеальном) обществе? Каковы характерные для тхеравадинского ареала типы и формы общественных связей? Каково современное взаимодействие этих буддийских ценностных структур с иными ценностями и меняющейся общественной практикой?
При ответе на эти вопросы возникает ряд методических трудностей. Первая — невозможность выведения социальных норм из религиозных доктрин и заповедей: надо помнить, что общественная практика всегда связана с новым сотворением древних значений, с их постоянным истолкованием, с переводом сакральных смыслов на язык прагматического действия. Другая трудность состоит в том, что в сотериологическом учении, ставящем самые предельные духовные цели, собственно социальным значениям не уделено много места, точнее говоря, социальность, как правило, сведена к сумме идеальных образцовых норм, облегчающих путь к спасению. Поэтому сразу же следует обозначить глубокую специфику буддизма, в котором слабая артикуляция мирских социальных ценностей особенно очевидна.
Исламская традиция в этом смысле дает наиболее резкий контраст: там божественный закон претендует на буквальное тождество с законом общества, кораническая нормативность — с социальной нормативностью. Конфуцианский культ вообще социо- и политоцентричен, трансцендентное здесь является абстрактным выражением принципов повседневного межличностного взаимодействия; конфуцианство — техника управления, а не «трансцендентная истина, раскрывающая смысл бытия» [Мартынов, 19876, с. 20]. Католическая и православная традиции в христианстве, четко различая высшую эзотерику священства и упрощенную мораль мирского «благоразумия», все же уделили, каждая по-своему, много внимания и тому и другому. В них с одинаковым усердием и глубиной разрабатывались теории и Божьего, и земного «града»; интерес к человеческой истории, к светскому политическому устройству, к общественной организации в целом восходил к евангельским первоосновам, возможно, к ранним концепциям Богочеловека и Церкви. После Реформации собственно социальная проблематика в христианстве вообще вышла на первый план, вызвав теоретизирование вокруг того, что я бы назвал «христианской социальной программой».
В буддийской, и особенно в тхеравадинской традиции чрезвычайно мало канонических и постканонических текстов, трактующих общественные темы; даже артикуляция мирской этики весьма слаба. На почве этой традиции так и не появилось сколько-нибудь значительной склонности к правотворчеству (1), к методическому осмыслению и упорядочению социальных отношений, политического и экономического процессов (ср. с «Артхашастрой» в индуизме). По-видимому, в отличие от других религиозных традиций буддизм не создал обширной и самостоятельной светской культуры. И хотя граница между монашеской и мирской жизнью была прочерчена достаточно ярко, сакральное разрабатывалось детально и глубоко, в то время как профанное, светское имело довольно зыбкие контуры, оставалось областью неясности, необязательности.
——————————————————————————————————-
(1) В отличие от христианских и исламских университетов, брахманских или раввинских школ, право и юриспруденция никогда не включались в буддийское монастырское образование [Tambiah, 1978, 133].
——————————————————————————————————-
Самое общее и, по-моему, самое верное объяснение сводится к принципиальному миро- и социоотвержению раннего буддизма, блокировавшему систематическое познание профанного мира, включая светское общество. Вместе с тем в отличие от мусульманской традиции, где чисто религиозный нормативный порядок проецируется на профанный мир, в буддийской традиции светское общество находится как бы вне сферы порядка, предоставлено самому себе, свободно от тяжести строгих заповедных и предписывающих норм. Поэтому в канонических текстах (за некоторым исключением) и в более поздней религиозной литературе нет смысла искать подробных социальных рекомендаций, систематического изложения социальных ценностей и принцип организации социума.
Однако ни в коей мере нельзя отрицать наличия буддийской социальной программы. Надо лишь помнить, что она, как правило, содержится в доктрине имплицитно; всякая доктрина, имеющая сугубо трансцендентный смысл, может быть переведена в социальную плоскость, выражена социальным языком. Социальная программа заложена и в культовом комплексе, где высшие ценности воплощены в земном институте. В конце концов, социальная программа есть результат синтеза, в котором нисходящие буддийские «ценностные потоки» корректируются потребностями социальной жизни.
§ 1. «Я», индивид, личность
Первый мотив: отрицание «я»
Палийская каноническая традиция проникнута отрицанием «индивидуальной души»; доктрина anatta (отсутствие «я», «не я») является, пожалуй, ключевым знаком доктринального отмежевания буддизма от брахманизма, которому буддизм противопоставляется в качестве гетеродоксии. Для брахманизма atman, субъектная субстанция — основа основ мировоззрения. Буддизм исходит из вечного непостоянства (anicca), отрицающего какую бы то ни было длящуюся субстанцию и, следовательно, индивидуальное «я» (atta) как ее разновидность (как и «я» любой вещи). В одном из фрагментов «Дикха Никаи» Будда полемизирует с «62 взглядами», признающими «я» как постоянную субстанцию [Brahmajala-sutta pathanam, D. N.].
Следует оговориться, что в прямой форме канон и позднейшая литература не отрицают «я» в качестве чего-то такого, что можно обозначить как «я» в отличие от всего остального; пафос отрицания направлен на длительное и субстанциональное качество обозначаемого, а не на само понятие (2). Известно, что на прямой вопрос о том, существует ли «я», Будда многозначительно промолчал. Эта проблема часто поднималась в истории буддийской мысли. Но в данном случае интерес представляет не собственно философская проблема!— как обойтись без «я», чтобы сохранить связность учения, а само учение, очевидно направленное на последовательную, безжалостную редукцию всякого «ячества», всяких устойчивых определений и качеств ego. «Я» состоит из комбинации «пяти кхандх» (khandho — элементы существования) (3), но ни каждая из них, ни все они вкупе не постоянны [Mahavagga, V. Р., 1, 6]. То же можно сказать о каждом из человеческих чувств и их совокупности [Girimanandasutta, A. N.].
——————————————————————————————————-
(2) См., например, [Humphreys, 1983, с. 786—787]. Там же содержатся ссылки на другие сходные мнения. Впрочем, следует учесть желание некоторых симпатизирующих буддизму писателей вернуть ему индивидуальную душу, дать ему шанс восприниматься в христианских категориях.
(3) Rupa, vedana, sanna, sankhara, vinnana (грубые переводы: форма- тело, чувства, сознание-восприятие, скопление качеств, сознание-мышление).
——————————————————————————————————-
Целостное, твердое, завершенное «я» — иллюзия, которую следует преодолеть. Вся буддийская сотериология построена вокруг этого преодоления. Собственно, главный «грех» для канонического буддизма — это воля к «я», желание быть «самостью», за которым тянется цепочка следствий, ведущая к страданию (вторая «благородная истина» и paticcasamup- pada). В конце концов, именно в ликвидации «иллюзии “я”» состоит окончательное спасение: «Благостна свобода от страстей в этом мире, освобождение от всех желаний; благостно прекращение гордыни, идущей от мысли: “я есмь!” Воистину это высшее счастье» (таков финал одной из проповедей) [Mahavagga, V. Р., 1,3]. «Созерцание отсутствия “я”» в качестве важнейшего компонента входит в медитативную практику. Нет в буддийском учении идеи, которая бы повторялась столь настойчиво и на разные лады (см. [Милиндапань- ха, II, 1]).
Отрицание «я» тотально, оно не есть отрицание отдельной индивидуальной «самости» ради реальности внеположенного эмпирического мира; этот последний тоже иллюзия, продолжающая «иллюзию “я”»; следовательно, вместе с «я» отрицаются все предикаты «я» и все объекты, являющиеся «моими» или могущие быть «моими». Все, что попадает в сферу обладания, все дары мира сего, воспринимаемые как «мои», объявлены источниками страдания (4) и становятся печальным исходным пунктом, поводом для сотериологии. Ее пафос — разоблачение иллюзии обладания и отказ от обладания. Понятие «мое» (mamata) решительно обесценивается. Надо уточнить, что дихотомия двух планов — «бытия и обладания» — это свойство западного мышления, проблематика «быть или иметь» — чисто западная. Канонический буддизм, как будет показано ниже, отрицает непрерывное единство «я» и «мое», покоящееся на иллюзорной и тлетворной субстанции (upadhi). Множество сутт в прямой или притчевой форме призывают к отказу от обладания; знаменитый диалог преуспевающего пастуха Дханьи и Будды [Dhaniya- sutta, S. Nip., 1], построенный по принципу зеркального противоположения мирских и неотмирных ценностей, и другие тексты очень ярко и настойчиво, в духе Екклезиаста,говорят о бренности обладания, собственности, трудов в мире. Отсюда следует важнейший принцип Пути и религиозной этики: последовательное самоосвобождение от обладаний, ибо каждое отвергнутое обладание есть звено в отрицании «я», т. е. новая заслуга и/или новый шаг в направлении ниббаны; отсюда же — обоснование дара, пожертвования как важнейшего ритуального акта.
——————————————————————————————————-
(4) «Кто страстно жаждет удовольствий — полей, вещей или золота, коров и лошадей, слуг, женщин, связей, — того поработят грехи, того сломят опасности, и как вода устремляется в разбитое судно, так и его настигает горе» [Kama-sutta, S. N.].
——————————————————————————————————-
«Мое» можно представить, однако, как нечто вторичное, производное по отношению к главному источнику страдания — желанию быть-обладать, привязывающему «я» к миру. Привязанности можно считать предметом наиболее острой критики в каноническом буддизме («мое» есть только объективация привязанности). Все, что привязывает к иллюзорному миру, есть неведение, источник страдания. Поэтому сведение связей к минимуму, вплоть до их полного разрыва в монашеской аскезе и в архатстве (святости) относится к числу важных мотивов проповеди. В диалоге с Дханьей Будда игнорирует его доводы, связанные с добропорядочностью его жены и детей, с его семейным благополучием; в другом месте [Khaggavisana-sutta, S. Nip., I] Будда рекомендует отказаться от семьи, спутников, друзей и вообще от каких бы то ни было связей. Надо еще раз подчеркнуть, что разрыв связей (как и отказ от обладания) мыслится как способ редукции «я», а не как утверждение «я», свободного от груза внешних оболочек, от тяжести «не я». Отказ от «моего» и от («моих») связей — это и есть достигнутое уничтожение «ячества» (точнее, его иллюзии). Иными словами, предметы обладания и, главное, связи с внешним миром, с другими, воспринимаются как составляющие части «я», как его компоненты, его продолжение. Порывая каждую связь, мы всякий раз теряем что-то в «я», уменьшаем его, приближаемся к идеалу его полного уничтожения.
Второй мотив: индивидуализм сотериологии
Итак, в буддийском мировоззрении, с одной стороны, отвергаются ego и составляющие его владения и связи, с другой — постулируется полная автономность «я» в осуществлении Благородного Пути к спасению. Проще говоря, у ранней буддийской сотериологии антииндивидуалистическая цель, но индивидуалистические средства. Верно, что конечная задача адепта — уничтожение «иллюзии ”я”», но это достигается исключительно собственными усилиями самого «я». Последний мотив, который по своему духу наиболее близок к раннему буддизму, особенно отчетливо сохранился в тхеравадинской традиции.
Мысль, афористически выраженная в предсмертной беседе Будды, повторяется часто: «Будьте островами сами в себе, будьте убежищем для самих себя, не ищите убежища в других» [Mahaparinibbana-sutta, D. N., II, 33]. Ибо другие не спасут и не могут спасти [Guhatthaka-sutta, Sutta Nipata, IV]. Как уже говорилось, в строгом буддизме нельзя найти Спасителя и благодати (5). Техника достижения все более и более совершенных состояний основана на самоконцентрации; отсюда следует то, что М. Спайро называет «нарциссизмом» монашества [Spiro, 1970, с. 348], а также возрастание самодостаточности и, по мере повышения морально-космического статуса живых существ, автономии. Эта зависимость очевидна в космографических построениях [Reynolds С., 1976, с. 205; Traibhum, 1982]. Автономия, одиночество, интровертность оказываются не только целью (отказ от «я» и связей), но и практическим следствием, жизненной стратегией.
——————————————————————————————————-
(5) Иногда персонажи канона просят Будду о помощи и сострадании. Учитель, однако, отвергает эти просьбы, призывая к тому, чтобы каждый постигал Дхамму самостоятельно [Dhotakakamana-vapukkha, S. N.]. Конечно, уже в каноне и тем более в практической религии есть множество элементов поклонения, надежды на помощь Будды. В махаяне эти элементы выросли в целые направления и конфессии. Однако состояние надежды в буддизме нельзя отождествить с христианским ожиданием благодати.
——————————————————————————————————-
Главным основанием сотериологического индивидуализма является, конечно, доктрина каммы: она обращена к индивидуальному моральному агенту, воздаяние она относит в плоскость внутреннего (значит, личного) намерения, критерием сакрального состояния считает объем внутренних (значит, личных) заслуг. Как уже говорилось, эта религиозноэтическая (но не философски утонченная) интерпретация каммы противоречит доктрине anatta, выражая доктринальное напряжение между целью и средствами спасения. Идея заслуг в сочетании с верой в перерождение косвенно интегрирует «я», «соотносит “я” настоящее с “я” прошлым и “я” будущим» (см. [Spiro, 1970, с. 73, 444]) и, следовательно, восстанавливает ту субстанциональную длительность, которая отвергается в концепции anatta. Само понятие «заслуги» и представление об объеме (количестве) заслуг создают то, чем с успехом можно заменить расщепленное и отвергнутое «я»; индивидуальная камма становится новой субстанцией, душой, личностью, характером. Это новое качество предполагает такие источники, которые теоретически связаны со вполне автономной и даже эгоцентрической психотехникой.
Социокультурные следствия
Буддийская сотериологическая метафизика рассматривается здесь не ради ее самой, а с целью выяснения возможных социокультурных следствий. В концепции «я» обнаруживаются два мотива: отрицание «я» как цель, как условие спасения, и индивидуальный характер средств спасения. Эти два мотива имеют очевидные различия. Рассматривая один из них в отрыве от другого, легко ошибиться в их социологических проекциях. Если взять, например, концепцию anatta в усеченном виде, то может создаться впечатление, что индивидуальное начало абсолютно не развито, и напрашивается вывод об ориентации на социокосмическое «растворение личности», о деперсонализации и господстве роевых, соборных тенденций. Если добавить к этому отрицание связей и обладаний как атрибутов «я», то получится парадоксальное сочетание «безличности» и «бессоциальности» — картина почти безысходной социальной пустыни. Если взять второй мотив в изоляции от всего прочего, то умозрительная проекция его на социум, по-видимому, обнаружит, напротив, исключительный индивидуализм (6).
——————————————————————————————————-
(6) Именно эту социопсихологическую черту выделяет Г. Филлипс как основную в хинаяне [Phillips, 1965, с. 88]. Помещенный в совершенно иной социокультурный контекст, буддизм на Западе был воспринят именно как глубоко индивидуалистическое миросозерцание, чего не может не оспорить буддийский интеллектуал [Suksamran, 1982, с. 49].
——————————————————————————————————-
Практическое приложение высших значений доктрины на массовом уровне произошло в формах, которые свидетельствуют о реабилитации эмпирического «я». В среде массовой, «демократической» религиозности высокие доктрины воспринимаются совсем по-иному, чем в раннем «аристократическом» изложении. Нигде, кроме как у самых строгих отшельников, нет сознательных попыток отказа от «я», обладаний и связей — ведь ясно, что на таком ценностном основании не может быть построен социум. Доктрина anatta либо неизвестна среднему буддисту [Ingersoll, 1975, с. 245], либо непонятна ему [Spiro, 1970, с. 36]. Господствующая в массовом сознании концепция заслуг, будучи переведена на повседневный социальный язык, интегрирует «я», наделяет его определенным статусом, «историей» (в этой жизни и в континууме множества жизней) (7) и встраивает индивид в систему многообразных связей, о чем речь пойдет далее. В реабилитацию «я» внесли свой вклад махаяна и брахманизм, входящие в традиционный субстрат обыденного менталитета. Кроме всего прочего есть законы биологические, есть потребность в социальности, есть, наконец, здравый смысл практического поведения.
——————————————————————————————————-
(7) См. кропотливое case study Я. Ингерсолла, который прослеживает, как идея заслуг структурирует личность [Ingersoll, 1975, с. 228—229]. Р. Гомбрич на материале сингальской деревни показывает, как в массовом сознании соотносятся когнитивное и аффективное (эмоциональное) восприятие тхеравадинской догматики: идея кармического перерождения аффективно переживается как нечто личное, как воскресение данной личности в новом существовании [Gombrich, 1971b, с. 73]. Структура похоронных обрядов в Бирме, по мнению М. Спайро, свидетельствует о том, что смерть воспринимается как конец одного и начало другого отрезка в истории именно этой личности [Spiro, 1970, с. 86].
——————————————————————————————————
И тем не менее можно увидеть, как преломляются в социуме высокие доктрины, например anatta. Погрузившись в общественную атмосферу современных буддийских стран, можно обнаружить психологические и этические мотивы, сдерживающие эгоцентрические самоутверждение и самовозвеличивание; в буддийском обществе, особенно в более традиционной среде, осуждается индивидуальное стремление к внешнему блеску, к демонстрации мирских индивидуальных достижений. В человеческих характерах трудно встретить тип homme d’honneur (по-видимому, чисто западный тип, производный от идеи рыцарской чести), тип Герострата, жертвующего всем ради славы; трудно представить и «буддийского Робинзона» — деятельного и полностью независимого индивидуалиста-практика. В буддийской культуре невозможно обнаружить ярко выраженное чувство индивидуального авторства — в искусстве ли, в политике ли, в повседневном ли поведении. Личное творчество в истории, идеология «героев» (в духе Карлейля), личный антидогматический бунт или «авторская» реформа для этой культуры нехарактерны. Здесь нет профанного антропоцентризма, как и осознанной проблематики «личность и общество», ибо личность не считает себя самодостаточным «атомом» или микрокосмом. В буддийской традиции не было и не могло быть глубинного и намеренного проникновения во внутренний мир, в сложную структуру душевного склада, в имманентную борьбу страстей и сугубо личных переживаний. Буддийский индивид сравнительно слабо структурирован, его самосознание более аморфно, он не эгоист, он не способен презреть все вокруг ради самоутверждения; в нем есть некоторая склонность к самоограничению, к созерцательности, к успокоенности, в нем трудно обнаружить фаустовское беспокойство со всеми его созидательными и разрушительными последствиями.
Нельзя преуменьшать роли доктрины anatta и смежных представлений в формировании описанных особенностей. Прямого влияния нет, и, как было сказано, «я» на практике не может отрицаться. Однако есть своего рода культурный вектор, или, как говорит С. Коллинз, «направляющая стрелка», уводящая от сферы «я» [Collins, 1982]. Этот вектор культуры, проявившийся в отказе от сколько-нибудь глубокой проработки темы индивидуального «я» в позитивных категориях, косвенным образом отражается на самосознании живых людей, если вообще принять постулат о связанности, единстве культурной традиции, ее высокого и обыденного потоков. Рядовой буддист постоянно видит перед собой образы и символы отчуждения от «я» (в истории Будды, которую он хорошо знает, в символике сангхи, которая сопровождает его всю жизнь). В простых этических руководствах, в ежедневной этической атмосфере монастыря или праведного семейства звучит не сама идея anatta, но соотнесенная с нею «я»-ограничительная дидактика, напоминающая о дурных плодах эгоизма, о непостоянстве и бренности всех «я»-атрибутов, приобретений, достижений, о необходимости «держать в узде свое “я”, как держит возница благородного коня». Вряд ли этот мотив столь же очевиден в какой-либо другой религии. Странно было бы, если бы все эти «живые тексты» не воздействовали на менталитет ребенка и взрослого (8).
——————————————————————————————————-
(8) Я. Ингерсолл замечает, что рядовые тайцы просто не знакомы с доктриной анатта (в строгом виде) и в то же время, как кажется, живут в соответствии с ней, подобно тому как рядовой западный человек верит в неотъемлемые права человека, не зная о существовании трактата Дж. Локка [Ingersoll, 1975, с. 246].
——————————————————————————————————-
Описанная картина слишком похожа на классический и расхожий западный стереотип «восточного конформистского общества» со слабо выраженной личностью. Этот стереотип сложился именно в виде оппозиции по отношению к западной действительности нового времени. Однако исследователи индокитайских буддийских обществ, приблизившись после второй мировой войны к эмпирическому материалу, были чрезвычайно удивлены, не обнаружив в них «жестко институированного конформизма», который ожидали увидеть, исходя из стереотипа тотальной регламентации социальной жизни, присущей, по общему мнению, всему традиционному Востоку [Гордон, 1980, с. 23]. В удобную схему безличного коллективизма, которая приложима mutatis mutandis к индийскому, японскому, китайскому, мусульманским обществам, социальная реальность стран тхеравады укладывалась не очень гладко.
Дж. Эмбри создал в 1950 г. концепцию рыхлой структуры [Embree, 1950], вызвавшую бурную и долгую дискуссию (см. [Гордон, 1980]). В этой модели индивид оказывался освобожденным от формализованной, жестко детерминирующей поведение нормативной системы и как бы предоставлялся самому себе. В русле ли идеи «рыхлой структуры», независимо ли от нее исследователи стали находить в тхеравадинских обществах индивидуализм; он проявлялся, по их мнению, в психологической «автономности и независимости», в непредсказуемости и даже «экзистенциальное» поведения и восприятия [Mead, 1971, с. 42; Nash, 1965, с. 70; Hanks, 1949; Zago, 1972, с. 375]. Р. Моул считает, что тайский индивидуализм даже превосходит американский [Mole,. 1973, с. 65]. Наиболее последовательно и настойчиво идею тайского индивидуализма обосновывает Г. Филлипс (см. [Phillips, 1965, с. 62—76], об индивидуализме в политике см. [Wilson D., 1962]). Картина дополняется такими особенностями, как сравнительная выделенное индивида из родственных структур, вообще нечеткость и аморфность системы родства, очевидный хозяйственный индивидуализм и стремление к экономической самостоятельности [Mizuno,. 1973, с. 131] и пр. Современный городской социальный ландшафт обнаруживает во многом сходные черты, по крайней мере не противоречит им.
Можно привести множество объяснений подобных фактов (как всегда, социальная практика многокаузальна и не может быть сведена к некоей первопричине). Здесь и «открытость земельной границы», и слабое демографическое давление, и особенности традиционных систем родства, и современные процессы индивидуализации (особенно в том, что касается города). Мне хотелось бы выделить в этой композиции аргументов только один — буддийский менталитет. Он приводится практически всеми исследователями, стремящимися обосновать или объяснить индивидуализм буддийского образца. Действительно, индивидуальная центровка сотериологии («будьте островами в самих себе»), концепция личных заслуг и личной каммы, вера в личное перерождение (на эффективном, массовом уровне), воздействие образа независимого отшельника, аскета, архата,— все это достаточно глубоко вошло в буддийское сознание, подкреплено анимистическим номинализмом и брахмано-махаянистской верой в душевную субстанцию. Как говорит Г. Филлипс, «установка буддийского учения на преобладание индивидуальных действий и индивидуальной ответственности является идеологической основой тайского индивидуализма» [Phillips, 1965, с. 88]. Одинокий монах, усердно ищущий свое собственное спасение, кажется точным прообразом мирянина, накапливающего заслуги и независимого в своем поведении.
Возникают, однако, два серьезных вопроса. Во-первых, как совместить индивидуализм с концепцией anatta в их приложении к социальной программе. И, во-вторых, каково позитивное содержание буддийского индивидуализма — является он структурным аналогом западного индивидуализма или обладает особой, внутренней природой?
При более внимательном взгляде оказывается, что западный термин «индивидуализм» неадекватен буддийскому значению термина «индивид». Если объединить индивидуализм средств спасения с культурным вектором anatta, то получится не столько законченный «атомический» индивид западного типа, вступающий в отношения с внешним миром в качестве цельного, строго структурированного субъекта (личности), сколько «незавершенный в себе», лишенный сознания самоцелостности индивид с более аморфной личностной структурой. Буддийский индивид гораздо меньше детерминирован как в мышлении, так и в поведении; его автономность, независимость и непредсказуемость суть не столько результат осознания собственной самодостаточности в обществе и мире, сколько следствие неопределенности позитивных ожиданий. С. Пайкер пишет: «“Автономия” означает здесь не контроль над собственной ситуацией, а скорее свободу от внешних ограничений» [Piker, 1968]. «Маленькая толика автономии и прав в Боге, Мироздании, Обществе», отмечает Е. Б. Рашковский, получены западным индивидом из иудейской мысли о причастности человека Божьему замыслу, эллинской идеи о Логосе как разумном постижении мира и из римско-правовой концепции автономии личности [Эволюция, 1984, с. 407]. Это позитивная автономия. Буддийский индивид хочет уклониться, его автономия есть не свобода в себе и для себя, это свобода от. Эти характеристики еще неполны, многое прояснится, когда речь пойдет об отношениях индивида с другими и его месте в группе. Но некоторые важные значения в понятии «индивид» в буддийской социальной программе уже очевидны.
«Незавершенный индивид»
Каков промежуточно-итоговый облик индивида, сложившийся на почве буддийской тхеравадинской культуры? Прежде всего, можно предположить, что канонический блок anicca-anatta (непостоянство, «не я»), с учетом всех его превращений, выразился в конце концов в формировании «незавершенного индивида», сущностное самосознание которого не является атомически самодостаточным. Хотя буддийский индивид аффективно осознает себя в качестве субъекта мыслей и поступков, его субъективность не может быть им осознана как единственный и вполне самостоятельный источник восприятия внешнего мира (в том числе общества), оценки этого мира, мотиваций и волевого побуждения к действию в этом мире; осознание неделимости (in-dividuum), целостности здесь сравнительно слабое, индивидуальное «я» больше похоже на агломерацию (скопление) множества «я»-частиц или «я»-кадров, находящихся в постоянном движении. «Я»-концепция не разделяет с достаточной определенностью субъекта и объекта, «я» и внешнюю действительность; внешние объекты включены в «я» наряду с «психикой» и «физикой» (условный перевод «namarupam»). В примере О. Розенберга субъект-объектное единство явлено как неразделенность «я» (субъект) и солнца (объект) в формуле «я, видящий солнце» (см. [Розенберг, 1991, с. 90]). Это значит, что реальное целое, стоящее за этой формулой (она есть несомненная смысловая синтагма),— ощущение, и в таком случае «я» скорее сумма и чередование таких актуальных ощущений, чем нечто исходное, потенциально способное ощущать; к тому же всякое обладание и всякое отношение (в том числе к другим и с другими) тоже может быть приведено к общему знаменателю — ощущению, а значит, и отнесено к «я» как его содержанию (поэтому редукция «я», как уже отмечалось, состоит именно в редукции обладаний и связей).
Есть соблазн рассматривать концепцию кхандх (пяти групп — носителей качеств «я») как теорию именно субъекта, однако при строгом подходе обнаруживается, что эта. концепция также ориентирована на ощущение, что она снимает субъективную замкнутость и постоянство и скорее заставляет вспомнить о теориях субъективного опыта (9). В традиционном народном сознании сложились сходные понятия, хотя и с более простым и позитивным содержанием, например тайское khwan (элементы души, напоминающие кхандхи) [Kirsch, 1977, с. 253], хотя наряду с этим есть представления о постоянной сущности — winjan (от vinnana — «сознание»), отлетающей после смерти [Ingersoll, 1975, с. 24; Tambiah, 1970, с. 59]. Во временном плане «я» индивида представляется как поток (это важнейший образ буддийской культуры) — поток ощущений, не имеющий строго осознанной направленности и непрерывный: просто santana (поток) или, как у Васубандху,— skandhasamtana (поток кхандх) [Perret, 1987, с. 72]. Несомненно, что это отражается в массовом сознании. Напомню слова М. Нэша: «Жизнь бирманца—это серия довольно разобщенных мгновенных событий без прочной связи с прошлым и заботы о будущем» [Nash, 1984, с. 62].
——————————————————————————————————-
(9) См. [Gethin, 1986, с. 49]. Иногда буддийская психология обнаруживает, как это не раз отмечалось, сходство с теориями чувственного опыта в духе Д. Юма. Иногда предлагается другое сравнение — с бихевиоризмом и вообще прагматизмом. Это делает, например, П. Мус: «Вместо признания существ (des etres), которые производят действия… буддизм, наоборот, видит только действия (des actes), которые производят… существа». Индивид — это только «взаимосвязанное целое его действий, определяющих и “собирающих” его существо». «Согласно буддизму, ошибка, которая вечно возвращает нас в круг перерождений, заключается в том, что мы рассматриваем существо (etre) в качестве длящейся реальности, атрибутивно производящей свои действия, которые включены в рамки космической системы и которые в то же время сгущаются в силу обстоятельств, в эфемерные существа» [Mus, 1987, с. 63—64]. С каким бы направлением западной мысли ни сравнивались буддийские идеи (а всякое такое сравнение достаточно произвольно), ясно, что всегда подчеркивается не длительный, не субстанциональный характер «я», которое мыслится как «сгущение», нестабильная «конденсация» интерсубъективных, метаиндивидуальных реальностей, будь то ощущение или действие.
——————————————————————————————————-
«Незавершенность» индивида следует и из представлений о каммических перерождениях. «Я» — мгновенный кадр в бесчисленном ряду прошлых и будущих существований, индивидуальная жизнь не рассматривается как уникальный (единственный) и бесценный дар, за личностью не может быть закреплена абсолютная ценность, в буддийской культуре даже нет такой темы. Острота переживания личного успеха здесь невелика, а значит, и побуждения к такому успеху и целенаправленная систематическая ориентация на его достижение сравнительно менее выражены. Но в то же время ослаблено и переживание личной неудачи, нет ощущения «жизненной трагедии» или «личной катастрофы». С точки зрения массового сознания результат действий отнесен в будущие рождения, а прошлую камму не дано знать, поэтому «вот эта» индивидуальная жизнь в известной мере открыта для всего: нет ощущения роковой прикрепленности к любому состоянию, есть известная непредсказуемость и оправданность любого мгновенного воления и импульсивного поступка, спокойное объяснение и принятие любого поворота в индивидуальной судьбе (10). В этом смысле индивид тоже «не завершен».
——————————————————————————————————-
(10) В ходе полевых исследований выявлено, что закон каммы влияет на жизнь буддистов лишь «в общем плане», «по большому счету», это предварительный условный фон, на котором протекает жизнь индивида [Gombrich, 1971b, с. 145; Keyes, 1983а, с. 269]. Р. Гомбрич записал такую формулировку: «Пусть твои желания исполнятся, если, конечно, камма позволит» [Gombrich, 1971b, с. 220], Иными словами, камма — скорее ограничивающая, чем предписывающая сила. Именно тот факт, что закон каммы действует en gros, открывает простор для разных причинных истолкований эмпирических событий этой жизни (фатализма нет!), а также почти равного обоснования всех их. Вместе с тем и свобода растянута на бесчисленное количество жизней, теряет свою остроту и силу как свобода именно «здесь и сейчас» и не мыслится (по крайней мере в ключевых жизненных ситуациях) как намеренный, сознательный выбор.
——————————————————————————————————-
Однако было бы неверно говорить о полной бесструктурности. В одном важном пункте мировоззрения есть сильный источник индивидуальной идентичности — личные заслуги. Объем личных заслуг — критерий ценности индивида. Ориентация на личные заслуги нормирует поведение индивида. Разумеется, здесь видна некоторая неопределенность (что есть заслуга и какое действие заслуженно?), кроме того, как будет показано ниже, концепция эта носит скорее межличностный, а не личностный характер. Тем не менее эта доминирующая идея приводит к особого рода персонализму, по крайней мере в том смысле, что она делает акцент на внутренних, индивидуальных качествах в ущерб всем извне предписанным качествам индивида, связанным с его членством в группе. Этот персонализм, как уже отмечалось, основан на том, что высшее благо, спасение, как и каждая ступенька к нему, мыслятся в личностных категориях.
Нестабильный поток ощущений и нестабильный объем личных заслуг и есть в сумме буддийский индивид как культурный тип. Как он соотносится с окружающим миром? Выше говорилось о его «автономности». Теперь можно уточнить значение этого термина. «Автономность» следует именно из таких особенностей, как неустойчивость, ненормированное, нестабильность отношений «я» с окружающим миром, и даже некоторая неопределенность границ «я», его открытость. Представляется, что определение значения «автономности» связано с проблемой научной интерпретации: использование западных подходов и категорий позволяет обнаруживать в буддийском индивиде смысловой вакуум, отсутствие стабильных и очевидных отношений между «я» и «не я», ясных и четких социальных установок, норм, регулирующих поведение. Не находя в человеке, принадлежащем к другой культуре, привычной нам личности, мы делаем вывод об отсутствии личности вообще. Если же признать, что перед нами иная культура, то следует допустить существование иной личности, построенной на иных нормах и отношениях, и попытаться ее найти.
«Автономность» индивида в тхеравадинских обществах такого свойства, что предполагает чувство зависимости и, возможно, даже стремление к зависимости как гарантию безопасности. Об этом, например, говорит М. Спайро, называя «потребность в зависимости» «явной и яркой чертой в личностной организации» (см. [Spiro, 1970, с. 341]; см. там же ссылку на [Sein Tu, 1964]). Modus vivendi тхеравадинского монаха антиномично включает в себя независимость (разрыв связей с миром) и вполне сознательную материальную зависимость от этого мира (от мирских подношений). Этот архетип Сангхи обнаруживается и в облике буддиста-мирянина. Возможно, «потребность в зависимости» звучит слишком сильно, но по крайней мере потребность в связях, потребность быть включенным в систему связей представляется несомненной не только по естественно-социальным, но и по мировоззренческим причинам: «незавершенность» субъекта вызывает потребность в объекте; «незавершенный в себе индивид» стремится «завершить» себя в других, в связях с ними; «автономный» индивид на самом деле оказывается полностью связанным.
§ 2. «Я» и другие межличностные отношения
Мирская религиозная мораль
Простая логика подсказывает, что для определения воздействия на человеческие связи религиозного мировоззрения нужно обратиться к позитивному содержанию этической проповеди, к списку ясных предписаний, аналогичных Моисееву декалогу или Нагорной проповеди. Как ни различны строгий законнический дух ветхозаветной этики с его запретительной формой и побудительно-рекомендательная тенденция в этике евангельской, их сближает конкретность изложения и обращенность к миру, легко переводимая в простые назидательные формулы и ясно осознаваемые нормы поведения. Потусторонность «последних» христианских ценностей не подавляет простой и общедоступной обыденной морали, обращенной к каждому смертному.
Создается впечатление, что буддийская традиция не создала такого исчерпывающего корпуса мирской этики, как христианская. Это не значит, что в каноне нет обращенной к простым смертным морали или что поздняя дидактическая литература небогата. Однако буддийская позитивная этика, в отличие от христианский, по месту и по отведенной ей роли явно уступает другим сторонам учения, в частности тончайшей психоэтике максималистской стратегии спасения, предназначенной для монахов и святых. Буддийская этика скорее аристократична. Перевод ее на демократический язык повседневного благонравия мало занимал буддийских учителей. Форма доступного катехизиса по вопросам этики здесь была сравнительно мало известна.
Проблематика отношений между людьми, как и проблематика индивидуального жизненного пути, подробнейшим образом разработана применительно к сангхе, и весьма поверхностно для мирян. Тщательно описанные в «Винае» нормы отношений внутри сангхи вряд ли можно прямо перевести в мирские категории.
Что касается прямых рекомендаций для мирского употребления, то к ним относятся обширная комментаторская литература и джатаки, построенные вокруг совершенного образа Будды; не менее обширна и весьма популярная литература niti (руководства к поведению, практические наставления), включающая всю сумму светских предметов, как правило, не систематизированных (см., например, сборник пословиц и афоризмов [Gray, 1886]); устная дидактика, часто фиксируемая в литературе и сводящаяся к перечислению важнейших заповедей (11). Кроме того, в самом каноне есть тексты, содержащие поучения о моральных основах земного преуспеяния в чрезвычайно популярной форме. В «Сутта- питаке», например, это «Махамангала-сутта» [S. N. II, 4], «Уггака-сутта» [A. N., V, 4, 33] и особенно «Сигалавада- сутта» [D. N., III, 31]. Эти тексты буддологи приводят для опровержения тезиса о буддийском невнимании к мирской морали [Butr-Indr, 1979, с. 87ff; Hung, 1970, с. 96—110]. Действительно, они содержат весьма четкие нормы, регулирующие человеческие контакты: родителей и детей,’ мужа и жены, друзей, хозяев и слуг. Их общий пафос — мягкость и взаимность.
——————————————————————————————————-
(11) Пять самых популярных заповедей для мирян отрицают убийство, ложь, прелюбодеяние, воровство, употребление опьяняющих веществ.
——————————————————————————————————-
И тем не менее вряд ли можно спорить с тем, что доктринальный буддизм внешне невнимателен к миру и не представляет ему готовых этических норм. Тхеравадинской этике присущи две особенности, тесно связанные друг с другом. Во-первых, она слабо артикулирована, не носит формы обязательных предписаний, исключающих толкования, ее нормативность снисходительна, она не стремится жестко нормировать поведение. Во-вторых, источником этически должного является не столько заповедующий вербальный текст, сколько образно-символический текст — образ Будды, монаха, праведника, служащий примером для подражания, наглядно демонстрирующий границу между добром и злом [Mizuno, 1973, с. 120]. (Поэтому так важны выделенные выше архетипы сангхи.)
Разрыв между разработанным корпусом монашеской этики и снисходительной мирской моралью, между «путем монаха» и «путем мирянина», при всей его очевидности, нельзя, как уже говорилось, абсолютизировать. Можно предположить, что кроме тех отрывочных этических норм, которые все же прослеживаются в назидательных текстах, и кроме символов-образцов, столь важных для буддийского мировосприятия, в тхераваде имеются и некоторые другие средства упорядочения межиндивидуальных связей, некоторые сквозные значения, преодолевающие разрыв между «аристократической» монастырской и «демократической» мирской моралью, между мироотвергающим пафосом высокой доктрины и мироутверждающими ценностями социальной программы. Основными такими понятиями-концепциями, касающимися связей между людьми, являются «камма» (и заслуги) и «бодхисатта».
Всеобщая взаимосвязь
Ментальный фон, на котором строятся отношения между людьми в буддийских обществах,— сильное ощущение взаимосвязи всего со всем в этом мире. Оно присутствует в текстах, например в доктрине paticcasamuppada — законе причинного соподчинения, охватывающем все феномены. На уровне обыденного сознания причинность в строгом смысле не воспринимается, она превращается в стихийную взаимозависимость, где уже не столь важно, где причина, а где следствие. Идея всеобщей взаимосвязи отнесена прежде всего к живым существам (животным, людям, богам, духам). Только живые существа производят камму — ту моральную энергию, которая и составляет потоки элементов. В законе каммы все категории учения переносятся в этическую плоскость, причинная связь и связь вообще мыслится как этическая, как связь поступка и вознаграждения (или наказания). Все живые существа оказываются этически взаимосвязанными.
Идея каммы только при поверхностном взгляде кажется индивидуалистической; если вспомнить о «незавершенности» индивида как субъекта в себе, о размытости границы между «я» и «не я», о тесной связи заслуги и (обращенного к другим) действия, можно понять, в какой степени доктрина каммы предполагает взаимозависимость и социальную вовлеченность. В конечном счете все индивидуальные каммы взаимосвязаны [Chamarik, 1979, с. 14; Lester, 1973, с. 7]. Поэтому, в свете закона каммы, перед нами предстает «тотально контролируемая, этизированная вселенная», которая «полярно противоположна одинокому искателю спасения» [Gombrich, 1975, с. 219].
Несомненно, есть представление о том, что существует «своя», индивидуальная судьба-камма, однако в литературе и в обыденном сознании доминирует вера в ее зависимость от множества чужих каммических обстоятельств (12). Каждое действие, создающее камму, влияет на совокупность всех камм, приводит в действие всю систему моральных потоков; и наоборот, индивидуальная камма формируется под влиянием всех прочих камм. Кроме того, в чисто практическом смысле камму создают действия и намерения, направленные вовне, на других, т. е. этические действия. Уже в XX в. эта мысль неоднократно подчеркивалась буддийскими мыслителями. Встречаются, например, такие рассуждения: «Хотя человек создает свою собственную карму, все, что он делает, влияет также на его окружение… Добро, которое он совершает, приносит выгоду не только ему самому, но и тем, кто живет вокруг, всем живым существам. И наоборот, от его зла пострадает не только он один» (цит. по [McDermott, 1984, с. 151]). Или такие: «Тонкая нить каммы, которую мы считаем “своей”, не является исключительно нашей,— как может быть иначе, если в конечном счете “нас” не существует? Многочисленные живые нити так называемой каммы индивида переплетаются с другими нитями и меняют направление и цвет их к лучшему или худшему, согласно тому, добрая или злая наша собственная нить» (цит. по [McDermott, 1984, с. 151 —152]). Т. Хунг, пытающийся вывести из этого ощущения взаимосвязи позитивный буддийский социологизм, полагает, что «доктрина взаимозависимого происхождения приводит ко взаимоидентификации всех вещей» и в результате «движение одного (индивида.— А. А.) отражается в образах всех других, как в системе зеркал» [Hung, 1970, с. 47, 50]; см. также [Smith В., 1978а, с-61]).
——————————————————————————————————-
(12) Дж. Макдермотт приводит следующий пример из текстов: если N оказался братоубийцей, то не только потому, что такова, его камма, но и потому, что, согласно камме его брата, он (брат) должен пасть жертвой N, а согласно камме родителей, один из их сыновей должен убить другого. Поэтому в каждой конкретной ситуации камма одного из ее участников тесно связана с каммой всех других [McDermott, 1984, с. 13].
——————————————————————————————————-
Метафизика заслуг. Ценность связей
Камма каждого состоит из определенной суммы накопленных заслуг и антизаслуг. Это моральная субстанция интегрирует «я». Но поскольку существует убеждение во взаимосвязи всех камм, заслуги никогда не замыкаются на одном индивиде, приобретают межличностный характер, вид этической энергии, присутствующей в каждом межиндивидуальном взаимодействии. Концепция заслуг лежит в основе не только «я»-осознания, но и восприятия и упорядочения всех контактов между людьми. Ее удобство состоит именно в обезличенности заслуг (хотя они «сгущаются» в индивидах); это превращает заслуги в своего рода имущество или «духовный капитал» («spiritual currency» [Keyes, 1983а, с. 283]), моральный обменный эквивалент при всяком контакте. Об этом уже говорилось выше, здесь же хочется подчеркнуть, именно социализирующую функцию этой концепции.
Следует обратить внимание на то, что заслуги и измеряемая ими моральная харизма могут, как и всякое имущество, перераспределяться, переходить, передаваться «из рук в руки», при этом они выполняют связесозидающую функцию. Феномен «передачи заслуг» — один из центральных в тхераваде, и ему уделяется много внимания в исследованиях. Он; выражает нечто очень важное именно с точки зрения социальной роли тхеравады. «Передача заслуг» — представление, зафиксированное в сравнительно поздних частях канона (например, в «Петаваттху») и отражающее эволюцию доктрины, обретение ею большей простоты и популярности; оно более органично в махаяне, но не меньше распространено и в массовой тхераваде [McDermott, 1984, с. 37—39, 155]. Изначально это «передача» заслуг умершим или живым родственникам и близким (pattidana), т. е. ритуально оформленное перераспределение заслуги (на бирманском материале подробнее см. [Spiro, 1970; с. 124—127], см. также [Keyes, 1983, с. 280; Краснодембская, 1982, с. 133—134; Gombrich,. 19711з, с. 226; Zago, 1972, с. 99]); другой вариант — «участие» в чужой заслуге (anumodana), как бы навлекание на себя (магическими средствами) благотворной ауры чужого действия, при том что сам субъект дана может и не знать об этом [Malalasekera, 1967] (13). В конечном счете представление о «передаче заслуг», разделении их с другими восходит к вселенскому благодеянию, которое совершил Будда: полученный им колоссальный объем заслуг разделен между всеми людьми (это напоминает благодать Искупления). Впрочем, для нас важен не этот абсолютный образец, а сам архетип социальной связи через заслугу и благодаря заслуге. Индивидуализм cотериологии в традиционной тхеравадинской среде решительным образом ослаблен, затушеван: идеей «передачи заслуг».
——————————————————————————————————-
(13) Х.-Д. Эверс перевел ланкийскую надпись 1344 г., где даритель выражает желание передать полученную им заслугу «всем хорошим людям» [Evers, 1972, с. 110].
——————————————————————————————————-
Каковы источники заслуг? Традиционно это три чисто религиозных источника: dana (дар), sila (моральность), bhavana (медитация); это три способа улучшения каммы, накопления харизматической энергии. Два крайних понятия в этой триаде — «дана» и «бхавана» — находятся в оппозиции друг к другу, представляя соответственно мирскую и монастырскую стратегии спасения (среднее понятие — «сила» относится к обеим стратегиям в равной мере). Бхавана — главный способ накопления заслуг для монаха, дана для них — фактор второстепенный. Напротив, для мирянина решающий способ «производства заслуг» — дана, медитация уходит на второй план и даже воспринимается в категориях дана (mahadana — медитация как высший тип дара) [Spiro, 1970, с. 96]. Дана — это универсальный принцип обмена, целью которого является накопление, распределение и перераспределение заслуги (харизмы) посредством связей. Дана есть деятельный принцип, он осуществляется через действие и только так.
Следует заключить, что, во-первых, «производство заслуг» есть социальный феномен, заслуга возникает в ходе ритуального или светского действия, во-вторых, заслуга интегрирует личность, она основа его самосознания, в-третьих, заслуга подлежит распределению и перераспределению, она переходит от «я» к другим, структурирует связи «я» с другими (14). Заслуги возникают в связях и реализуются в них. Через заслуги и благодаря заслугам человек «завершает» себя в связях. Суть метафизики заслуг с точки зрения буддийской социальной программы заключается в следующем: заслуги, получаемые за то или иное действие, являются духовной энергией, харизмой, выполняющей роль той силы, которая скрепляет, фиксирует, сакрализует, в конце концов, наделяет смыслом всякое отношение между людьми. В обществе «производится» определенный объем заслуг (харизмы), который используется для наделения смыслом социальных связей, придания им характера совместного сотериологического действия; даже если конечная цель (спасение) остается за кадром (а в повседневной жизни не может быть иначе), харизма подтверждает благость и смысловую полновесность связей между людьми.
——————————————————————————————————-
(14) Лучше всего это показано в прекрасной статье Я. Ингерсолла [Ingersoll, 1975].
——————————————————————————————————-
Не произошло ли здесь неожиданного превращения? Действительно, вместо доктрины мироотказа, предполагающей разрыв всех связей, в массовом буддизме, наоборот, социальные связи становятся источником и смыслом религиозной благости; социальная связь сама по себе считается благом, ибо она — канал для потоков заслуг (харизмы). Превращение доктринальных значений действительно кардинально. Не отказ от связей, а приобретение их считается религиозно праведным поведением в мирской среде в отличие от монастырской. «Социабельность» ценится в мирянине так же, как асоциальность в отшельнике. Обилие связей есть признак обилия моральной энергии, рост объема связей есть рост этой энергии. «Автономия», индивидуальная безопасность возрастают не вследствие экономии контактов, отсечения лишних связей, а по мере расширения сферы контактов, все большего вовлечения в них. Индивид тем «завершеннее», чем он более прочно вовлечен в социум, ибо он, собственно, и складывается из своих связей с другими; то, что для западного человека является «распылением» индивидуальности в других, для буддийского индивида есть, наоборот, «сгущение», сосредоточение индивидуальности из отношений с другими; поэтому индивид здесь только совокупность потоков его ощущений, отношений, действий, наконец, потока харизмы, которая наделяет его смыслом и ценностью,.
Социальная фиксация праведности
Нестабильные потоки харизмы, формирующие «я» и связи «я» с другими, должны как-то фиксироваться, заслуги требуют внешнего подтверждения; высокая ценность социальных связей делает желательной и естественной их публичную демонстрацию. Таковы предпосылки чрезвычайно яркой особенности буддийской религиозной практики — ее нарочитой демонстративности (при том, что выпячивание чисто мирских индивидуальных достижений не характерно).
От канонического акцента на намерении (cetana), на внутренней моральности как решающем источнике заслуг и каммы — идеи, восходящей еще к «Упанишадам» [Радхакришнан, 1956, т. I, с. 179],— массовая тхеравада пришла к преобладающему акценту на поступке, на зримом ритуальном действии (хотя намерению, мотиву действия уделяется, все же больше места, чем в индуизме). В социальной тхераваде нет аскетически сокровенного внутреннего совершенствования, она характеризуется нарочито откровенным показом совершенств. Тихая, скромная мирская праведность (как и скрытые, сдержанные сила и власть) — тема, довольно популярная в христианской культуре,— буддизму в целом, не свойственна. Подношения во всех их формах, семейные и общинные обряды, спонсорство религиозного строительства,— все это делается демонстративно, у всех на виду, с максимально возможной щедростью [Kirsch, 1977, с. 247; Ingersoll, 1975, с. 234, 225]. Религиозные церемонии носили всегда массовый, общинный характер, «производство заслуг» считалось радостным общим действом. Публичность ритуалов — не просто каприз и тщеславие, но осознанная необходимость, гарантия эффективности ритуала [Lehman, 1987а, с. 580] (15). Индивид, получающий заслугу, стремится увековечить свою причастность к ней. Существует старая, сохранившаяся до наших дней традиция надписей примерно одинакового содержания [Lubeigt, 1987, с. 65]. В конце такой надписи автор обычно демонстрирует щедрость, распространяя полученную заслугу на родственников, близких или даже на все живые существа. Это благословение призвано расширить сферу влияния собственной харизмы и тем самым преумножить ее объем. Другая форма фиксации заслуг — уже упоминавшиеся (и теперь встречающиеся только в традиционной среде) «книги учета заслуг», хранящиеся при монастырях или в частных домах (на случай семейных торжеств), куда с бухгалтерской точностью вносятся имена дарителей и размеры дарений: как и всякое имущество, заслуга подлежит учету. Так же тщательно записываются имена паломников, посетивших знаменитые пагоды [Lubeigt, 1987, с. 53].
——————————————————————————————————-
(15) Поэтому вряд ли уместны упреки, которые бирманский диктатор Не Вин в 80-е годы адресовал религиозным бирманцам, обвиняя их в «показухе» при дарениях сангхе [Tin Maung Maung Than, 1988, с. 29]. Разумеется, нельзя отрицать возможность религиозного лицемерия, но это уже другой вопрос. Публичность, своего рода «показуха» — непременная черта таких ритуалов.
——————————————————————————————————-
Это «религиозное тщеславие» имеет очень важные последствия, оно подчеркивает социальный характер заслуг и каммы, тот факт, что они рождаются в ходе человеческих отношений и в то же время оживляют, подтверждают эти отношения. Но очевиден и индивидуальный характер измерения заслуг, всегда сохраняется индивидуальное авторство деяния; как бы ни были подвижны и текучи потоки харизмы, как бы индивид не стремился распространить ее на всех живущих, она остается именно его харизмой (его объемом заслуг); это создает предпосылки для измерения социального качества, а значит, и социального статуса индивида по тому объему заслуг, которым он лично обладает, пусть даже сам этот объект, как уже говорилось, в решающей степени определяется количеством и характером связей с другими.
Фиксация личной харизмы на первом этапе не выходит за рамки чисто религиозной практики; например, чем более значительно дарение, а значит, и «ставка» заслуги, тем более широко и публично оно демонстрируется [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 353]. Но дальше следует важная трансформациям чисто религиозная харизма, полученная индивидом за ритуальные действия, выходит за рамки религиозной практики, переносится в социум, в повседневность. Религиозная благость индивида престижна, его религиозная харизма социально действенна; связи, установленные в процессе ритуальных действий, продлеваются и распространяются на внеритуальную жизнь социума. Харизма «создана», теперь она начинает свободное движение в области нерелигиозных отношений. Заслуги превращаются в социальный престиж (описание этого процесса см. [Nash, 1965, с. 271—272; Zago, 1972, с. 115]). Объем личных заслуг определяет относительную величину престижа. По существу, это мировоззренческая основа и объяснение статусной дифференциации в обществах тхеравады (16).
——————————————————————————————————-
(16) Это чисто логическое, а потому условное построение. На практике нет ни этапов формирования статуса, ни четкой границы между социальным и религиозным престижем. Источником престижа и влияния является вся совокупность обстоятельств индивидуальной жизни, включая социальное наследство индивида (властный статус, богатство и пр.). Но даже в этом случае важно то, что престиж человека мыслится именно в описанных выше категориях, и поэтому он вынужден подтверждать свой престиж, принимая существующие правила игры.
——————————————————————————————————-
Равенство и иерархия
Раннее учение буддизма, как и христианство, несет в себе мощный коммунитарный заряд, а значит, и энергию равенства. Проповедь Будды питается острой критикой абсолютного иерархизма брахманской ортодоксии с ее кастовым сознанием и типом homo hierarchicus. (Разумеется, в индуизме были свои формы коммунитарности, своя энергия равенства, хотя и менее выраженная.) Этот заряд в тхеравадинской традиции усиливался или ослабевал, но всегда сохранялся и был использован в XX в. для эгалитарных идеологических аргументов, для концепции демократии на буддийской почве.
Будда отверг свой княжеский статус, тем самым ниспровергнув всю систему статусов; его царство, как и Царство Христово, не от мира сего; вне его социального порядка; «вступив в поток», прозелит поворачивается спиной к «этому берегу», стряхивает с себя груз социальной нормативности; ниббана есть абсолютная ценность, в которой теряют смысл все частные ценности, все человеческие различия (17). Уравнивает всех и исходное страдание в сансаре (как первородный грех).
——————————————————————————————————-
(17) Дж. Ферниволл замечает: «В деревне один монах — и для бедных, и для богатых» [Furnivall, 1931, с. 35]. «Самый бедный крестьянин может стать монахом,— утверждает С. Сиваракса,— и, став им, он оказывается в духовном смысле на уровне царя» [Sivaraksa, 1979].
——————————————————————————————————-
Уравнительный (в идеале) облик монастырской жизни в качестве символического архетипа «братства» воспринимается как должный порядок межиндивидуальных отношений. Это позволяет говорить, пользуясь терминологией М. Вебера [Weber, 1960, с. 240], о латентном демократизме буддизма, разумеется, только в том смысле, в каком в первоначальной доктрине, в сущности «аристократической», была заложена идея внекастового равенства, равенства в мироотказе.
Нельзя отрицать, что этот латентный демократизм, точнее,— эгалитаризм, отчасти переносится на мир, на светский порядок, эгализирует нормы человеческих отношений. Традиционное деревенское общество в тхеравадинских странах кажется сравнительно уравненным [Nash, 1965, с. 244; Tambiah, 1970, с. 23—24]. В буддийском праве тоже прослеживается «дух равенства», например, в том, что касается имущественных отношений мужа и жены и наследственных прав детей [Lee, 1978, с. xxi—xxii]. Отсутствие выраженных социальных групп и индивидуальная автономия (в смысле непринадлежности к солидарным группам) усиливает и подчеркивает это впечатление (см. [Nash, 1965, с. 162]). Мировоззренчески равенство подтверждается акцентом на том, что спасение в конце концов индивидуально. Раз сама возможность спасения закреплена за индивидом, нет никакой необходимости фиксировать некоторые устойчивые социальные (т. е. коллективные) статусные позиции, наделенные большей или меньшей священностью, большей или меньшей близостью к спасению (как касты). Еще более глубокая мировоззренческая основа эгалитарного потока в буддийской социальной программе — «незавершенность» индивида, отрицание стабильного, субстанционального «я». Эту связь тонко подметил П. Мус: индуистский atman является опорой полновесного индивида (purusa), по отношению к которому люди вне касты религиозно ущербны, что дает четкое обоснование социального неравенства; напротив, в буддизме, где теряется этот изначальный опорный элемент структуры — atman (в доктрине anatta),— происходит «уравнивание всех существ от богов до париев». Это не значит, замечаем П. Мус, что на практике снимаются все социальные различия (ведь в профанном буддизме доктринальные положения сильно изменены), но по крайней мере «они теряют абсолютный характер», «растворяются» в бесконечности новых и новых рождений [Mus, 1987, с. 64].
В свете сказанного может показаться парадоксальным следующее утверждение: буддийское общество и буддийская социальная программа глубоко иерархичны. Но это будет выглядеть естественным, если принять априори, что всякий социальный порядок неизбежно иерархичен. Иерархизм буддийской социальной программы есть ответ буддизма на потребность общества быть иерархичным. Но иерархия в античной Греции, в средневековом Китае или в современной Америке — не одно и то же. Нужно понять, какой специфический тип иерархии сложился в буддийской культурной зоне.
Иерархия в сангхе антиномически противопоставлена монастырскому «братству»; но здесь следует отличать иерархию, возникающую в сангхе в результате проекции на нее мирских интересов и являющуюся естественным отклонением от символической чистоты, о чем говорилось выше, от иерархии имманентной, внутренне обоснованной, имеющей собственно религиозную логику. Принцип градации здесь совершенно особый: это иерархия, фиксирующая степень духовного совершенства, ступени на Благородном Пути к освобождению (ariyamagga), приобщенности к созерцательной мудрости и дхаммическому знанию. Это особый тип благородства (18). Критерии такой иерархии противоположны социальным критериям, они имеют другой знак, это не иерархия овладения миром, а иерархия свободы от него (или овладения неотмирными качествами). Институционально эта иерархия закреплена разными степенями и титулами. В тхераваде детальнейшим образом разработана иерархия священных психоэтических состояний, где имеют значение тончайшие оттенки приобретенных прозелитом созерцательных способностей. Кроме того, иногда признается изначальное неравенство возможностей того или иного человека в овладении техникой созерцания (19). В сущности, это неравенство в готовности к спасению, в возможности спастись, в близости к последней цели для религиозного сознания — самый веский критерий положения в иерархии.
——————————————————————————————————-
(18) Ср. канонический эпизод в Ambattha-sutta [D. N., I, 8], в котором Будда обвиняет пришедшего к нему брахмана Амбаттху в незнании этикета. Амбаттха, в свою очередь, обвиняет род Шакиев (род Будды) в грубости, в неуважении к брахманам, в том, что они — разбогатевшие parvenus. Будда напоминает Амбаттхе о том, что его род был когда-то в рабстве у Шакиев. Амбаттхе нечего ответить, он падает ниц и признает свое низкое происхождение. Но неожиданно Будда сам начинает хвалить род Амбаттхи, один из членов которого был большой мудрец и оказал глубокое духовное влияние на одного из предков Будды. Следует развязка-вывод: люди благородного происхождения выше всех прочих, «но тот, кто наделен религиозным знанием и добродетелями, превыше всех между богами и людьми… кто обладает этим несравненным достоянием (религиозным.— А. А.) — знанием и добродетелями, для того не существует (критериев.— А. А.) каст, семьи, слов гордости, и он не говорит: “ты мне неровня” или “ты мне ровня”». Пораженный Амбаттха понимает, что перед ним «великий человек» (mahapurisa), и вступает в орден Будды. Итак, Будда не отрицает социального благородства, но почти полностью девальвирует его, делает его относительным в свете высшего религиозного благородства.
(19) Об опыте дифференциации людей по их внутренней восприимчивости к тем или иным способам медитации современного тайского ученого монаха Пхра Пхимолатхама см. [Tambiah, 1984, с. 180—181].
——————————————————————————————————-
Каким образом религиозный иерархизм становится частью социальной программы? В буддизме за конкретными социальными отношениями между двумя людьми стоит соотношение их объемов заслуг; но выше было показано, что заслуга мыслится как моральное имущество, которое превращается в социальный престиж и влияние, а значит, в определенное социальное положение. Чем больше объем заслуг, тем выше престиж и тем чаще индивид выступает в роли старшего, вышестоящего и тем реже — в роли младшего, зависимого; социальная иерархия — как бы превращенная ипостась религиозной иерархии. Альтернативная, перевернутая иерархия религиозного совершенства превращается в иерархию, параллельную мирской иерархии, ее объясняющую и обосновывающую. Определенному объему духовных накоплений соответствует определенный объем мирских достижений, внутреннему моральному статусу — определенный социальный статус. Можно сказать так: у социальной иерархии есть внутренняя «моральная подкладка» в виде иерархии заслуг или, наоборот, иерархия заслуг формирует социальный иерархический порядок в качестве своего внешнего воплощения. Так или иначе, обе иерархии параллельны друг другу; в итоге социальный порядок сакрализуется, наделяется смыслом.
Всеобщий иерархизм характерен для традиционных космологий, примером которых может служить тайская «Трайб- хум» XIV в., оказавшая сильнейшее влияние на тайское мировоззрение [Traibhum]. Здесь еще заметен брахманистский дух жесткой и детальной классификации существ, но уже прослеживается тенденция к использованию критерия личных заслуг в определении того, к какому классу то или иное существо принадлежит. В народном сознании нынешняя социальная позиция индивида рационализируется с помощью отнесения к его прошлой камме; чем больше объем заслуг в прошлых жизнях, тем выше социальное положение. Однако в отличие от индуизма, где статус в этой жизни, обоснованный прошлой каммой, определен раз и навсегда и уже не изменится (изменение возможно только в будущих жизнях), в тхераваде изменения вполне допустимы и даже неизбежны в течение этой жизни, ибо прошлая камма непрерывно дает новые результаты и возможности для рационализации всякой личностной статусной перемены почти неограниченны.
Специфика тхеравадинского типа иерархии состоит, по- видимому, в том, что это иерархия отдельных индивидов, или личностная иерархия, а не иерархия безличных, раз и навсегда установленных статусов; это иерархия конкретных людей, различающихся по объему личного совершенства (личных качеств, заслуг), а не иерархия абстрактных позиций (каст, кланов, классов и т. д.). Иерархическое неравенство всегда присутствует в отношениях двух конкретных людей- иерархические отношения играют в этих обществах гораздо большую роль, чем отношения равных. «Я» стремится увидеть и видит в другом почти всегда либо высшего, либо низшего и почти никогда— равного [Mole, 1973, с. 109]; конкретная пара «высший — низший» («господин — подчиненный», «старший — младший» и т. д.) является, по существу элементарной ячейкой социума (см. ссылку Дж. Буннаг [Bunnag, 1973, с. 181] на Дж. Мозела [Mosel, 1965]). Иерархия и в Шри Ланке чувствуется во всем [Краснодембская, 1982, с. 182]. Но в буддийских обществах она смягчена тем, что нет фиксации статусов вне конкретных, «мгновенных» актов отношений между парами людей; скорее она подчеркивается с помощью средств этикета (20).
——————————————————————————————————-
(20) Этикет и стилизация отношений между высшим и низшим в тхера- вадинских обществах развиты чрезвычайно сильно, при этом используется система лингвистических и пластических средств. Этикет, конечно, фиксирует иерархию, но в способе этикетной фиксации есть одна тонкость, которую точно подметила Дж. Буннаг: этикет есть та внешняя форма, которая облегчает обмен ролями в отношениях между людьми [Bunnag, 1973, с. 182], т. е. этикетное правило не привязывает индивида к роли, а значит, к классу, статусной группе и т. д., а, наоборот, создает гибкую ситуацию, когда стиль отношений выбирается в зависимости от других, внутренних критериев различий. Этикет — удобное средство, с помощью которого индивид сейчас выступает в роли высшего (господина), а через минуту, общаясь с другим человеком, становится низшим (подчиненным).
——————————————————————————————————-
Разумеется, я не утверждаю, что тхеравадинское общество — строгое воплощение описанной социальной программы. Во всех странах тхеравады социальная структура формировалась при весьма активном участии индуистского кастового компонента; в Шри Ланке он представлен своей очень древней разновидностью, в материковой Юго-Восточной Азии кастовый компонент постепенно формировался в ходе индианизации (значительно раньше прихода тхеравады) и серьезно повлиял сначала на кхмерское, а затем на бирманское лаосское и тайское общества. Это влияние осуществлялось сверху, через новые формы государственности; периодически воссоздавались жесткие иерархические структуры, не отличавшиеся, однако, законченностью, систематичностью и как правило, долговечностью. Внутри этих обществ, на уровне базовых отношений доминировала в основном тхеравадинская социальная программа. Неверно, что она «не способствовала иерархии, но легко ее признавала», как пишет О’Коннор [O’Connor, 1978, с. 75]; социальная программа предполагала иерархию и мировоззренчески обосновывала ее, но это была иерархия особого типа.
Каким же образом внутри социальной программы тхеравады соотносятся и взаимодействуют эгалитарная и иерархическая темы? Они прочно связаны друг с другом. Равенство состоит в слабой прикрепленное индивида к строго определенным позициям, в возможности сменить роль и продвинуться по иерархической лестнице. В конечном счете это «равенство возможностей», латентное равенство. Равенство не снимает и не может снять иерархии, ибо иерархия — необходимое условие «завершения» индивида, но предполагает ее особый личностный характер и в какой-то степени размягчает, или разрыхляет ее (21).
——————————————————————————————————-
(21) С. Сиваракса [Sivaraksa, 1981, с. 196] противопоставляет «кхмероиндуистскую идиому иерархии» исконному «буддийскому равенству». «Тайская иерархия,— пишет он,— представляется скорее кхмерской или индуистской, чем тайской, в отличие от буддийского равенства». Это противопоставление кажется мне не совсем точным. Сама тхеравада предполагает Иерархию. Верно, однако, что тхеравада благодаря своему латентному эгалитаризму подтачивает всякую жесткость в иерархической организации.
——————————————————————————————————-
Бодхисатта и каруна. Характер межличностных связей
Для того чтобы описать характер связей высшего и низшего, необходимо обратиться к еще одной чрезвычайно важной доктрине — бодхисатты (будущего Будды, совершенного существа, находящегося в шаге от ниббаны, но отложившего его ради помощи другим). Выше о ней уже говорилось. В национальных вариантах тхеравады эта доктрина очень популярна и имеет богатую традицию. Бодхисатта считается носителем каруны (karuna) — сострадания, сочувствия всему живому (22). В общем контексте буддийского мировоззрения эта идея имеет ряд взаимосвязанных следствий. В народных традициях каруна воспринимается подобно благодатной силе свыше, как божественный ответ на просьбу и ожидание помощи; эта сила отчасти смягчает детерминизм каммы, делает перспективу спасения более близкой и вообще демократизирует сотериологию, заземляет ее. Кроме того, каруна наряду с метта (metta) — альтруистической любовью — представляет собой мотивационное обоснование передачи, перераспределения заслуг, соучастия в действиях, приносящих заслугу. Смысл действий бодхисатты заключается именно в том, чтобы вовлечь живые существа в благотворную ауру его совершенства; акт передачи заслуг, сакрализующий всякую связь между людьми, есть маленькое претворение большого архетипического действия бодхисатты. Как следует из всего сказанного, образ бодхисатты и его сочувствие как бы дробятся на множество осколков, проникающих во все сферы общества, в любые отношения, в каждую межличную связь как ее образцовая, морально-нормативная сторона; каруна — это должный тип связи, ее моральное основание.
——————————————————————————————————-
(22) О ключевой роли понятия «каруна» в социальной программе тхеравады см. [Sarkisyanz, 1978, с. 88].
——————————————————————————————————-
Ошибочно считать бодхисатту только одной из ступеней совершенствования мироотвергающего искателя ниббаны, а каруну только состоянием на пути просветления (как считал М. Вебер [Weber, 1960, с. 213]) (23). При переносе этой концепции в плоскость мироутверждения, где и заслуга и связь получают положительный знак, каруна становится решающим мировоззренческим фактором, благодаря которому «буддизм из этической секты превращается в одну из наиболее политически эффективных этических систем в мире» (цит. по [Hung, 1970, с. 57]). В свете этой идеи каждое иерархическое отношение между двумя людьми высшим и низшим, господином и подчиненным — содержит в себе каруна как моральное долженствование, как моральный ориентир.
——————————————————————————————————-
(23) Согласно М. Веберу, буддийские идеи каруна и метта не могут нести социальной нагрузки, поскольку, по его мнению, социабельное сострадание возможно только в контексте субъект-объектного отношения, отсутствующего в буддийском мировоззрении (критику этого аргумента см. [Hung,1970, с. 29, 33]).
——————————————————————————————————-
В большинстве случаев отношения высшего и низшего во всем социуме изначально строятся на силе и интересе; такова докультурная, почти биологическая основа социальной иерархии. Культура создает свои средства «теодицеи», легитимации зла, которое несет в себе голая сила, и смягчения, преодоления крайностей произвольного силового принципа. Нельзя считать, как это делается в имморалистической традиции общественной мысли, что подобные средства культуры лишь прикрывают циничное зло силовой стихии, являются «фальшивыми цветами», «призрачным сознанием», «опиумом». Это слишком вульгарно. Культурный космос несет в себе не только «теодицею», но и «программу» для социума. Идея бодхисатты в буддизме не просто маскирует иерархические отношения (а в тхераваде они составляют основную массу отношений), но и формируют определенный и считающийся нормативным тип отношений. Это отношения покровительства. Каждый высший — маленький бодхисатта, покровитель; каждый низший — добровольный искатель чужого покровительства. Отношения строятся на взаимных обязательствах. Стереотип взаимности усиленно акцентируется. Как и в отношениях монаха и мирянина, в которых духовное обменивается на материальное, связь между высшим и низшим носит обменный характер. Выполнение низшим обязанностей — это своего рода дана. На всякую неравную связь переносится этот архетип, в котором силовой компонент минимален, например, отношение «старший — младший» (возрастное), отношение «учитель — ученик»; и то и другое оценивается очень высоко [Sivaraksa, 1979, с. 52; Tambiah, 1976, с. 320; Bunnag, 1973, с. 98]. Т. Линг замечает, что в буддийской социальной программе нет «клятвы повиновения» низшего высшему [Ling, 1986, № II], т. е. подчиненность не воспринимается как священный долг слуги, скрепленный клятвой верности, личной преданностью или договором (как в дальневосточных и западно-христианских обществах). Отношение к высшему менее устойчиво, зависимость не жесткая, отказ от нее упрощен, в нем нет драматизма «разрыва» и нарушения долга (24).
——————————————————————————————————-
(24) Долговая зависимость, например, в тайском обществе обычно была, как пишет С. Тамбайя, «асимметричным отношением взаимной выгоды хозяина-кредитора и слуги» [Tambiah, 1985, с. 278]. Он указывает, что схожие явления наблюдались в Малайе, и ссылается при этом на Дж. Таллина [Gullic, 1958].
——————————————————————————————————-
Во всех обществах существуют стремление к гармонизации иерархических отношений и соответствующие средства. В контексте тхеравадинской социальной программы идея гармоничных связей имеет конкретный смысл — взаимности покровительства и непрочной щадящей зависимости. В тхеравадинском социуме вообще акцентируется избегание прямых конфликтов, их предупреждение; агрессивная речь или действия осуждаются [Мizuno, 1973, с. 132; Chou Meng Tarr, 1985, с. 229; Ingersoll, 1975, с. 227; Ling, 1979а, с. 141].
Если, учитывая все сказанное, характеризовать иерархические связи в функциональных категориях, то типичным отношением в этих обществах является отношение «патрон — клиент», смысл которого состоит в обмене личного покровительства на личную зависимость между двумя индивидами; скрытый нерв такого отношения, его мировоззренческое основание — это передача харизмы (заслуг) высшим и поиск низшим причастности к ней. Индивиды стремятся «завершить» себя в иерархических связях, испытывают потребность в том, чтобы покровительствовать и/или быть зависимыми. Влияние и зависимость насыщены буддийскими значениями и, стало быть, сакрализованы; но из этого вовсе не следует, что всякое отношение субъективно воспринимается как сакральное,— в большинстве случаев буддийская семантика действует как непременный, но скрытый подтекст социальной практики. «Типичность» подобных отношений, социологически очевидная, есть инобытие морального долженствования.
§ 3. Индивид и группа
Группа в буддийской социальной программе
Одной из особенностей тхеравады можно считать отсутствие безличной системы статусов и ролей, безличного социального кодекса, а также некоторой сакрализованной структуры, служащей реальным коррелятом религиозной доктрины, например, по контрасту с индуизмом, где касты всегда воспринимались как «прикладная» структура для упорядочения божественных предписаний. В буддизме нет своей теории социальной организации; религиозная теория и практика не предполагают дифференцированного группового воплощения, нет четкой иерархии групп, которая была бы религиозно освящена. Здесь не найти религиозности, прямо основанной на чувстве принадлежности к данной конкретной группе, а также прочной длительной групповой солидарности, скрепленной религиозным чувством. Индивидуализм тхеравадинской сотериологии столь же естественно приводит к «незавершенности» группы, как доктрина анатта к «незавершенности» индивида. Вместе с тем само доктринальное отрицание субстанции размывает почву всякого группоцентризма: как нет твердого индивидуального «я», так нет и «я» группы, групповой «души», наполняющей собой сознание каждого индивидуального члена.
Разумеется, несмотря на отсутствие прямых и кристаллически ясных принципов группоформирования, тхеравада обладает косвенными социодифференцирующими средствами. О некоторых из них говорилось уже. Это совместное пребывание в сангхе как источник групповой солидарности, создание примонастырских групп мирян для управления монастырским хозяйством и т. д. В традиционной деревенской тхераваде изолированная деревня, несомненно, была в какой-то мере «духовной общиной» с единым центром (пагода, монастырь) и единым ритуальным циклом [Obeyesekere, 1966; Lubeigt, 1974, с. 264]. Впрочем, такого рода моральная общность, или «паства»,— довольно аморфна (25), она не дает чувства исключительности членства в группе. Важнейшее средство интеграции — культово-доктринальный комплекс «камма — дарение — заслуга», ритуально связывающий всех членов группы сетью взаимных церемониальных обязательств, которые превращаются в социальный обмен, а точнее, потоки харизмы являются энергией социальных связей вообще, а не сакральным обоснованием фиксированных групповых границ; в конце концов, эти потоки легко пересекают любые такие границы (26).
——————————————————————————————————-
(25) Дж. Буннаг приводит соответствующий тайский термин — «phuak wat» [Bunnag, 1973, с. 136].
(26) Например, катхин — одна из популярнейших церемоний типа да;на — состоит в подношении монашеских роб, как правило, чужим монахам (из соседних или более дальних монастырей); традиционно это было одним из факторов межобщинных связей.
——————————————————————————————————-
Тем не менее в той же концепции «камма — заслуга» есть представление о групповой, или коллективной, камме; в традиционной среде встречается даже вера в групповое перерождение (т. е. будущее существование группы в нынешнем ее виде) [Pfanner, Ingersoll, 1962, с. 353]. В современной буддийской литературе упоминаются кроме индивидуальной каммы также расовая, национальная, семейная камма (см. [McDermott, 1984, с. 151 —153]). Коллективная камма, считает Т. Хунг, может создать благоприятные условия для индивидуального каммического прогресса члена коллектива, и наоборот, индивидуальные заслуги поднимают уровень групповой каммы [Hung, 1970, с. 41].
Однако подвижный, непрочный характер каммических потоков предполагает множество запутанных связей, но не очерчивает групповых границ. Поэтому естественное группообразование в тхеравадинских обществах не имеет твердого идеологического подкрепления: в традиционных секторах современных обществ, как, видимо, и в прошлом, чувство группы индивид получает скорее в ходе примитивных ритуалов (общение с локальными духами), чем в ходе чисто буддийской религиозной практики [Condominas, 1973, с. 32; Za- go, 1972, с. 359] (27). В городе процесс формирования групп идет в большей степени с помощью современных идеологических средств.
——————————————————————————————————-
(27) М. Заго замечает, что во время церемоний, посвященных местным духам-покровителям, перед святилищем собираются все жители деревни, но без чужаков, в то время как буддийская пагода открыта для всех [Zago, 1973].
——————————————————————————————————-
Относительная нечеткость ритуальных групп отражается на социальной структуре. Тхеравадинское общество традиционно имело сравнительно неразвитую корпоративность, слабую и нечеткую градацию статусных групп, скрепленных внутренней солидарностью. Исследователи обратили внимание на то, что постоянные формализованные группы в традиционной деревне редки (кроме административных, навязанных сверху) [Bunnag, 1973, с. 183, 187; Wijeyevardene, 1967, с. 83]; С. Пайкер не находит функциональных малых групп, кроме монахов и нуклеарной семьи [Piker, 1968, с. 391]. Сторонники концепции «рыхлой структуры» в Таиланде указывают на «немногочисленность оформленных группировок и статусных делений», отсутствие классов, каст, кланов, четко выраженных возрастных и соседских групп, вообще малое число групп, к которым может принадлежать индивид [Гордон, 1980, с. 15]. Много сходства имеют, по описаниям, другие тхеравадинские общества [Nash, 1984; Rodgers, 1984].
Иным на первый взгляд кажется общество выше уровня grass-roots. Однако и здесь нет выраженной корпоративности. Один из примеров — ланкийская кастовая система. На протяжении всей истории Шри Ланки касты играли довольно значительную роль, находясь, однако, в двусмысленных, отношениях с такой принципиально антикастовой идеологией, как буддизм. Буддийский культ универсален, уравнителен (28). В последние три столетия сложилась зависимость между кастовой дифференциацией и сектами (никаями) в сангхе, но с середины XIX в. вплоть до сего дня открыто и настойчиво ведется критика каст с буддийских позиций [Gombrich, 1971b, с. 311] — именно с буддийских, а не только с новозападных. В каноне каста объясняется следствием каммы; то же объяснение есть в индуизме, однако с точки зрения буддизма рождение в данной касте является только одним из эффектов каммы в этой жизни, само по себе оно не считается причиной последующих событий (см., например, [McDermott, 1984, с. 10—12]); здесь нет детерминизма по рождению (происхождению). Ясно, что под влиянием подобных интерпретаций кастовая система деформируется, становится размягченной и эластичной. Сингальское общество является примером такой эволюции: задолго до современной («модернистской») критики кастовая система на Ланке разительно отличалась от индийской и по масштабам, и по иерархической детализации, и по роли в обществе. До сих пор касты сохраняют значение при заключении браков, в разделении труда и в некоторых других случаях (см., например, [Ryan, 1953, с. 154—159]). В целом, однако, в традиционном сингальском социуме касты уже потеряли строгое логическое обоснование. Как пишет Р. Гомбрич [Gombrich, 1971b, с. 317], даже если они не осуждались, акцент на них не делался (см. также [Gothoni, 1986, с. 20; Meyer, 1977, с. 20; Silva К., 1981, с. 41] (29). Судьба кастовой системы на Ланке иллюстрирует общий антикорпо- ративный дух тхеравады, ее безразличие к устойчивой группе и иерархии групп.
——————————————————————————————————-
(28) Любопытно, что во время паломничеств к буддийским святыням формы межкастовых отношений в Шри Ланке не соблюдаются [Obeyeseke- fre, 1979b, с. 291].
(29) Б. Райан пишет: «Хотя… буддизм не находится и никогда не находился в оппозиции к кастовой структуре, он, несомненно, ослаблял сверхъестественные и сакральные санкции касты» [Ryan, 1953, с. 9]. Он же говорит об «историческом смягчении (reconciliation) кастовой системы», указывая на слабость критерия «чистоты—нечистоты» (и отсутствие неприкасаемых), а также на «отделение священства от кастовой системы». Буддизм в какой-то мере адаптировался к кастовой системе, однако в целом она структурирована сравнительно рыхло, что, по мнению Б. Райана, укладывается в схему «рыхлой структуры», предложенной Дж. Эмбри для Таиланда [Ryan, 1953, с. 17, 21, 32—45, 270—271].
——————————————————————————————————-
В традиционных обществах Юго-Восточной Азии встречаются несколько видоизмененные варианты социальной иерархии, восходящие к индуистским образцам, как и сингальские касты. Это, например, тайская система сакди на которая складывалась с XV в. и представляла собой иерархию рангов, дававших право на определенное число зависимых людей (пхрай) и определенное количество земли. Эта безличная иерархия рангов-групп кажется несовместимой с буддизмом. Действительно, в тайском обществе она не имела чисто буддийского обоснования, существовала как бы вне буддийской социальной логики и была «сугубо формальным заимствованием» ранней (дотхеравадской) кхмерской модели [Wales, 1965, с. 49] (кхмерское влияние резко усилилось после захвата таями Ангкора в 1431 г.). В системе сакди на «тщетно искать четкую классовую градацию» [Skrobanek, 1976, с. 30]; с самого начала она строилась на принципах личностных связей, и сразу же фиксированные межранговые отношения «господства — подчинения» стали превращаться в неформальные личностные отношения [Abibhadana, 1969, с- 113—122»; Skrobanek, 1976, с. 33] (30). Это значит, что и в XV в., и в особенности позднее, в XIX в., система рангов представляла собой фасад организации, внутренняя жизнь которой подчинялась иным принципам. Рискну предположить, что эти скрытые принципы сформировались под влиянием буддийской социальной программы; во всяком случае, очевидна тенденция к размыванию фиксированных межгрупповых границ, очень созвучная буддийской системе ценностей.
——————————————————————————————————-
(30) О сочетании в XIX в. системы рангов и патрон-клиентных отношений см. также [Gravers, 1986, с. 286]. Характеризуя социальную иерархию раннеаютийского периода, Э. О. Берзин пишет: «Простолюдин приучался чтить не своего конкретного начальника как личность, а его должность. По мысли идеологов сиамской феодальной монархии, личность — ничто, а должность — все» [Берзин, 1973, с. 62—63]. Культ безличной должности — это скорее индо-кхмерская, а не буддийская черта тайского общества XV в., со временем деформировавшаяся.
——————————————————————————————————-
Буддизм неудобен для создания групповой идеологии. На его почве не возникают специфические формы группового, классового сознания, ибо в религиозной морали нет стандартных статусных вариантов. Можно сказать, что буддизм не предоставляет идеологического материала для выработки групповых норм поведения, «чувства группы», группоцентризма. Например, за всю историю тхеравадинских стран на почве буддизма не сложился, несмотря на обилие войн и важную роль милитаризма, специфический кодекс воинского поведения, особый esprit de corps [Ling, 1979b, c. 136], столь очевидный в дальневосточной, индуистской, христианской культурных традициях. Если в этих странах и существовала градация социокультурных «стилей жизни», то у нее, как правило, были иные, небуддийские источники (сильный брахманистский элемент в элитарной культуре двора). По-видимому, представление о «социальном типе» (в западном смысле) здесь всегда было довольно призрачным, условным и отчасти заменялось оценкой человека с точки зрения его места в государственной иерархии (31).
——————————————————————————————————-
(31) Дж. Малдер находит в современном тайском романе сильную социальную типификацию героев; этот факт, считает он, противоречит концепции рыхлой структуры [Mulder, 1983, с. 326]. Вместе с тем Дж. Малдер Дает понять, что эта типификация весьма условна и надуманна. Не является ли она усвоенным литературным приемом западной беллетристики, с помощью которого тайские писатели хотят упорядочить трудно поддающуюся типификации динамичную реальность личностных отношении?
——————————————————————————————————-
Можно сделать следующий, весьма осторожный вывод: буддийская социальная программа в целом безразлична к проблеме группы и дает мало оснований для сильной групповой солидарности, что находит отражение в сравнительно слабой оформленности групповых границ как в горизонтальной (например, община — община), так и в вертикальной (статусные группы — сословия — классы) плоскостях. Обычно для всего Востока предлагается примерно такая схема традиционной социальной структуры: жесткие солидарные группы плюс острые межгрупповые конфликты [Брасов, 1982, с. 24]. Но по крайней мере для тхеравадинских обществ эта схема представляется неточной.
Особенности системы родства
Системы родства, распространенные в странах тхеравады, удивительно созвучны некоторым чертам буддийской социальной программы. Очевидно, что основные принципы родства сложились здесь до принятия тхеравады и объединяют буддийские общества с соседними обществами небуддийской Юго-Восточной Азии. Несомненно, однако, что постепенно буддийские социальные значения и принципы родства были приспособлены друг к другу и переплелись.
Канонический буддизм объективно направлен на ослабление и даже разрушение родственных уз: вспомним нашедшую отражение в каноне обеспокоенность магадхских семей деятельностью ордена Будды, увлекавшей их сыновей проповедью мироотказа (32). Однако отдельные элементы популярного толкования родства в буддизме неизбежно появляются; например, адресаты «передачи заслуг» в ритуалах по большей части именно родственники широкого круга (Ч. Кейес приводит соответствующие тексты из Северного Таиланда [Keyes, 1983а, с. 275]). Даже заслуги, полученные членами сангхи за сам факт монашества, предназначаются, согласно массовым верованиям, не только им, но и родственникам, живым и умершим. Вопреки парадигме мироотказа, нити родственных связей проникают, как уже говорилось, в санш ху, а в Шри Ланке вообще определяют динамику отношений сангхи и мира.
——————————————————————————————————-
(32) Жители Магадхи роптали: «Аскет Готама пришел проповедовать бездетность, аскет Готама пришел проповедовать вдовство, аскет Готама пришел производить погибель родов» (см. [Ольденберг, 1891, с. 106]).
——————————————————————————————————-
Эти элементы суть вынужденный ответ буддийского мировоззрения на потребность традиционного общества, на огромную роль родства в социуме типа Gemeinschaft [Redfield, 1962, с. 242—244]. В то же время эмпирика тхеравадинских обществ свидетельствует о некоторой аморфности систем родства, сложившихся уже в дотхеравадинскую эпоху, т. е. до какого-либо «программирующего» влияния тхеравады. Например, отсчет родства здесь билатерален, что представляется принципиальной чертой; билатеральность с самого начала снимает жесткую заданность в формировании круга предпочтительных родственных связей, оставляет индивиду свободу выбирать тех, кого он хочет считать родней [Bunnag, 1973, с. 18]. Широкое родственное домохозяйство никогда не имело здесь четких границ, оно очень легко расширялось за счет сирот или усыновленных детей (простота усыновления—характерная норма здешнего обычного права) [Bunnag, 1973, с. 17]. Нет и не было четких различий в родственных обязательствах в соответствии с типом родственной связи, степенью родства [Tambiah, 1970, с. 17].
Свобода в выборе референтного родственного круга приводит к преобладанию эго-ориентированных родственных групп (сеть личностных связей вокруг данного индивида) над наследственными родовыми или даже «домашними» группами (построенными по принципу совместного прожива- ния и хозяйствования) [Mizuno, 1973, с. 128; Tambiah, 1970, с. 15]. Характерно (по крайней мере в отношении дальних степеней родства) и преобладание возрастного критерия над родственным: старшинство неродственника (или даже более дальнего родственника) важнее и весомее собственно родственной близости сверстника [Turton, 1987, с. 108—109; Bun- nag, 1973, с. 13]. Если родственная группа и демаркирована, то внутри нее ярко выражены поколенные подгруппы [Tambiah, 1970, с. 23]. Между прочим, возрастной критерий гораздо лучше укладывается в буддийскую систему ценностей, чем критерий родства, ибо прожитые годы увязываются с накопленными заслугами и мудростью.
Слабость, аморфность широких родственных структур подтверждается акцентом на нуклеарной семье. Этот акцент делался задолго до влияний индустриального урбанизма, с которым принято связывать господство нуклеарной семьи. Конечно, в тхеравадинских обществах связи вне малой семьи многочисленны и необходимы, однако нежесткость широкого круга родства делает малую семью сравнительно наиболее устойчивой единицей. Во всяком случае, контраст со структурой родства в Индии, Китае или Японии, где малая семья до сих пор растворяется в широком родстве, поразителен (см. [Yamklinfung, 1978, с. 63]). Ни малая семья, ни более широкие родственные группы никогда не выполняли в тхеравадинских обществах каких-либо политико-юридических функций [Mizuno, 1973, с. 128]. Еще одной интересной деталью является сравнительная легкость развода и в связи с этим довольно заметное равенство полов (допускаются, например, добрачные связи), в том числе в вопросе раздела имущества при разводе, что зафиксировано в обычном праве [Reid, 1988, с. 629ff]; в выборе резиденции брака тоже нет заданности, некоторое предпочтение отдается, однако, уксорилокальности [Bunnag, 1973, с. 16] (33).
——————————————————————————————————-
(33) В легкости развода, несомненно, ощущается косвенное влияние буддийского безразличия к браку, связанное с негативным решением проблемы пола вообще. Буддийского свадебного ритуала не существует, а узы, не скрепленные таинством брака, легко рвутся.
——————————————————————————————————-
В целом можно констатировать отсутствие генеалогически нисходящего рода и связанных с ним структур. Это — несомненная особенность развитых тхеравадинских обществ (при том, что культ предков в более ранний период существовал). Здесь трудно представить драматические межродовые конфликты, конфликты личности и рода, явления, подобные кровной мести, или коллизии, связанные с романтическим попранием родовых традиций (как в истории о Ромео и Джульетте), которыми переполнена европейская культура.
Даже система родовых имен здесь не была развита; в Бирме и Таиланде фамилии стали вводиться только в XX в., но до сих пор распространены слабо и преобладают личные имена. Да и существование родовой аристократии в этом социокультурном контексте было проблематичным. Подобно тому, как не было родовых имен, так не существовало и наследственных родовых имений (типа западных феодальных). Критерием аристократизма считалась, как правило, кровная близость к монарху, причем аристократические привилегии, при всей их безоговорочности в данный момент и в отношении данного индивида, не обладали гарантированным наследуемым качеством и через несколько поколений утрачивали силу; отпрыски некогда мощных чиновников скатывались вниз по социальной лестнице (в Камбодже, например, через пять поколений [Collard, 1925, с. 49]). Поэтому состав аристократии периодически обновлялся почти целиком (чаще всего — со сменами царствующих династий или квазикланов внутри династий).
Все эти отдельные штрихи связаны между собой и не могут игнорироваться. Еще раз следует подчеркнуть их древнее происхождение, восходящее к дотхеравадинской эпохе; тем не менее влияние буддийского мотива «безродности», отвержения семейных уз (разумеется косвенное влияние, а не прямое), как мне представляется, имеет отношение если не к возникновению, то к закреплению описанных характеристик.
В конце концов, идея «первородства» не может быть выражена чисто буддийскими ментальными средствами, сам факт рождения, как уже говорилось, не довлеет над индивидуальной судьбой, он лишь одно из следствий каммы и может быть преодолен. Это несколько напоминает христианскую концепцию accidence of birth, хотя «случайность» здесь далеко не абсолютная и не драматизируется, как в христианстве, верой в единственность земной жизни. Определенная мера «случайности» состоит в том, что не признается раз и навсегда заданная «роковая» принадлежность к группе — родственной или неродственной, а значит, эта принадлежность не детерминирует поведение и сознание: индивид не чувствует тирании нормативных установок, субъектом которых является устойчивый, безличный коллектив.
Буддийский персонализм. Патрон-клиентные отношения
Из сказанного следует, что буддийская социальная программа больше ориентирована, как пишет С. Тамбайя, на обладание индивидуальной харизмой, чем на «статус, получаемый по происхождению… через отношения родства, членства в линидже» [Tambiah, 1985, с. 326]. Личностный характер индивидуальных качеств в тхеравадинской культуре сомнений не вызывает [Kirsch, 1975, с. 182; Keyes, 1983а, с. 264; Mole,. 1973, с. 61; O’Connor, 1978, с. 163—164]. Это находит отражение в традиционном праве, где обязанности и нормы поведения отнесены к индивиду; групповые и общественные обязанности этому праву практически неизвестны [Hooker, 1978, с. 32].
Теперь, когда рассмотрено значение «группы» в буддийской социальной программе, можно уточнить некоторые понятия, которые упоминались выше. В частности, индивидуальную «автономию» и вообще индивидуализм можно объяснить некоторой «разряженностью» социальной атмосферы, отсутствием плотных групповых структур, предписанных и сакрализованных буддийской системой значений. Индивид, автономен, ибо не связан жесткой групповой (родственной, статусной, классовой) нормативностью. В этом же смысле человек — индивидуалист. Буддийский индивид в высшей степени ориентирован на связи с другими, только в связях он находит свое «завершение», только через связи (если он не в монастыре) накапливает и реализует свои заслуги, свою харизму. Но вся сеть этих связей строится на межличностной основе. Поэтому можно говорить о буддийском персонализме, который, конечно, принципиально отличается от христианского персонализма (и основанного на нем индивидуализма). Это персонализм, отраженный в других, направленный на других, обретающий ценность (заслугу, харизму) только в связях с другими (см. [Zago, 1972, с. 376]). Отраженный персонализм — первая и важнейшая характеристика тхеравадинской программы человеческих отношений.
Вторая ключевая характеристика (которая, в сущности, есть лишь уточнение первой) — преобладание диадических связей над групповыми; индивид может вступать во множество социальных связей одновременно, но каждая из них, как правило,— межличностная связь с одним референтом; социальное окружение человека — это сумма таких диадических связей. Отношения пары индивидов — конечная и базовая ячейка социума [Mosel, 1965]. В каком-то смысле данный тип социальной программы ближе к современному западному варианту, чем, например, к «классическому» восточному— группоцентристскому (скажем, дальневосточному), хотя различия в структуре «я» кардинально разводят буддийскую и западную программы в разные стороны.
Третья существенная характеристика социальных отношений в контексте буддийского мировоззрения заключается в том, что они, как правило, строятся вертикально; вертикальные связи по своей роли в социуме явно преобладают над горизонтальными.
В сумме эти три характеристики в наибольшей степени способствуют складыванию такого типа отношений, который принято называть патрон-клиентными. Это означает также, что в тхеравадинских обществах есть предпосылки и для формирования групп особого типа — клиентельных. Следовательно, вывод о слабости групп надо понимать как вывод об их специфике (точно так же, как «отсутствие личности» на самом деле лишь специфика личности). Наиболее распространенный и важный тип группы в изучаемых обществах — это группа зависимых (клиентов) вокруг покровителя (патрона). Последний создает вокруг себя сеть иерархических связей с лично зависимыми от него людьми. К. Мидзуно называет эту сеть «личностно-центрированным окружением» и противопоставляет японскому иэмото, китайскому клану, индийской касте и американскому клубу (figure-focal entourage) [Mizuno, 1973, с. 133]. Патрон, в свою очередь, является одним из зависимых другого покровителя и т. д. Статус покровителя определяется числом зависимых от него людей, т. е. обилием связей, в которых он выступает в роли высшего.
Здесь снова обнаруживается «структурная тень», отражение монастырской сотериологии, но в превращенном виде. В космической иерархии чем выше статус живого существа, тем выше объем заслуг, тем сильнее его неотмирность, асоциальность и самодостаточность; в общественной иерархии человек более высокого статуса также более самодостаточен, но с той существенной разницей, что гарантией его свободы является обилие связей. Если идеальный религиозный путь спасения состоит в растущей способности концентрировать заслугу (харизму) в себе, то социальный, мирской путь спасения проявляется в растущей способности рассредоточивать заслугу (харизму) в других, распространять покровительственную энергию своей заслуги (харизмы) на все большее число клиентов. В социуме религиозное, моральное имущество превращается в связи — социальное имущество. В тхеравадинских обществах оно наиболее ценно.
Отношение «патрон — клиент» и основанный на нем принцип группообразования распространяется на все сферы общественной жизни. Это наиболее характерно для Таиланда, развитие которого было непрерывным и самостоятельным, а потому его история может считаться эталонной (34). Связь значений буддийской социальной программы с тайской социальной структурой изучена наилучшим образом. Эта связь прослеживается уже в ранний Аютийский период тайской истории, а в Бангкокский период она обнаружилась со всей отчетливостью (несмотря на сохранение ряда элементов предыдущей формально-иерархической, кхмерско-индуистской модели) (35). Буддийские коннотации бесчисленных патрон-клиентных связей сохранились и в современном Таиланде.
——————————————————————————————————-
(34) О патрон-клиентных отношениях в традиционной Камбодже см. [История Кампучии, 1981, с. 94, 105].
(35) В. И. Корнев пишет: «Тхеравада осуществляла идеологическую и религиозную связь между господствующим классом и крестьянством, а также содействовала развитию патронажной системы. В XIX в. эта система стала доминирующей в социальной структуре тайского общества». В основе ее, по мнению В. И. Корнева, лежит принцип взаимных услуг — катан-ю-катаветхи [Корнев, 1987, с. 170].
——————————————————————————————————-
Блестящий вклад в изучение буддийской инфраструктуры тайского общества внес С. Тамбайя. Центральный пункт его аналитического подхода — тезис о трансформации заслуги r социальные категории престижа, влияния и власти. Первый этап — «объективация харизмы», превращение высоких религиозных заслуг, накопленных монахами с помощью аскетической практики, специальных сакральных знаний или морального поведения, в различные «заряженные» харизмой объекты — амулеты, магические слова, знаки табу, диаграммы и т. д. (все это и сегодня распространено в Таиланде). Миряне, обладающие этими объектами, получают ту сакральную энергию — харизму, которая в них заключена. Второй этап — превращение полученной харизмы в престиж и влияние, т. е. использование ее для достижения вполне мирских целей. Объекты, «заряженные» харизмой, превращаются в имущество их обладателей, использующих заключенную в них сакральную энергию «для манипулирования, подчинения, контроля своих ближних в нескончаемой драме социальных отношений» [Tambiah, 1984, с. 335—336].
Непостоянство и мобильность
К отмеченным характеристикам патрон-клиентных групп можно добавить еще одну, прочно связанную с предыдущими: в отличие от более формальных, безличных социальных групп с сильно развитым «чувством группы» и жестко фиксированным местом в социальной иерархии, группа клиентельного типа сравнительно непостоянна и открыта. Соответственно мобильность внутри каждой группы и между отдельными группами сравнительно высока. Поскольку в изучаемых обществах клиентельный принцип группообразования преобладает, названную характеристику можно mutatis mutandis отнести к особенностям этих обществ в целом. Выше об этом говорилось вскользь, теперь уместны некоторые подробности.
Мировоззренческие причины нестабильности и открытости групп состоят в следующем. В буддизме, как уже отмечалось, очень настойчив мотив «непостоянства всего сущего» (anicca). Индивид «незавершен», его моральная субстанция — заслуга — по природе своей текуча и подвижна, она может прибывать и убывать. Сакрально обоснованной формальной иерархии статусов нет; личностные же парные связи «индивид — индивид» по природе своей неустойчивы, так как узы «покровительства — зависимости» если и мыслятся в религиозных категориях, то, во всяком случае, не в категориях «долга».
Особо следует сказать о камме. Закон космического воздаяния производит впечатление безжалостной детерминированности индивидуальной судьбы (а значит, и статуса, и прикрепленное к группе).
Смягчение детерминизма, встречающееся уже в ранней литературе (см. [McDermott, 1984, с. 116]), в поздней тхераваде привело к иррациональному восприятию каммы и судьбы. В народной среде бытует твердое убеждение, что камма непредсказуема и никому (кроме Будды) не дано ее знать [Keyes, 1977, с. 287], следовательно, любой поворот судьбы справедлив и надо быть готовым к неожиданности. В бирманской деревне камма по своему значению приближается к понятию «судьба» [Nash, 1984, с. 56]; кан шиде («иметь камму») употребляется в значении «быть удачливым». Сходное употребление отмечено и в Таиланде (камма близка к слову chok — «судьба») [Ingersoll, 1975, с. 232]. Но в такой интерпретации понятия «камма» ослаблено собственно моральное содержание, нарушен строгий порядок вознаграждения за добро и зло. «Народная» тхеравада насыщает камму небуддийской религиозной архаикой, в частности верой в магическую силу (типа тала), разлитую в мире и сконцентрированную в индивидах в разной степени (36). Специфическое качество этой силы —- ее временность и нестабильность [Piker, 1968, с. 399; Keyes, 1983а, с. 269]. Камма (заслуга) как рационально-этическое обоснование качества индивида и его статуса сочетается с иррациональным критерием магической силы, судьбы, удачи (неудачи). Надо иметь в виду это вмешательство анимистических представлений и сил.
——————————————————————————————————-
(36) Б. Тервил считает веру в такую магическую силу важнейшим элементом массовой религии в Центральном Таиланде [Terwiel, 1976, с. 395]. Магическая сила, разумеется, прочно вплетена в буддийскую ткань: ее источником может быть священный текст или отправляющий ритуал монах [Terwiel, 1976, с. 396]. Такое же значение имеет бирманское понятие пхоун [Nash, 1965, с. 273].
——————————————————————————————————-
Культурологическое объяснение нестабильности группы и социальной мобильности лежит в плоскости метафизики заслуг, идеологии буддийской харизмы. Согласно тхеравадинской социальной программе, любое божество, человек или дух всегда находятся, как писал Л. Хэнкс [На nks, 1949], в процессе приобретения или утраты заслуги, и поэтому они не могут иметь постоянной роли или ранга; концепция «я» как вечного потока элементов бесконечно текучего объема заслуг приложима к принципам группообразования [Tambiah, 1976, с. 484]. Пожизненная прикрепленное к группе не характерна; такая группа сужается или даже распадается в связи с утратой патроном группообразующей энергии (харизмы); в то же время состав клиентов непостоянен, переход от одного патрона к другому облегчен.
По-видимому, такой социокультурный контекст способствует довольно высокому уровню социальной мобильности, по крайней мере он не содержит серьезных препятствий для нее. Институциональных барьеров для мобильности в тхеравадинских обществах сравнительно немного (к Шри Ланке данное утверждение относится в меньшей степени). Прежде всего высока горизонтальная мобильность, имеющая, безусловно, не только культурные предпосылки [Юго- Восточная Азия, 1977, с. 12; Kirsch, 1975, с. 187] (37). Важно отметить и вертикальную мобильность, возможность которой была предусмотрена буддийской социальной программой [Piker, 1968; Tambiah, 1976, с. 486; Nash, 1965, с. 162]. Это было показано на примере повышения статуса через членство в сангхе. Та же модель действует среди мирян: всякое участие в ритуальном процессе увеличивает объем заслуг индивида как его морального имущества. Более того, всякое действие, даже прямо не связанное с культовой практикой, но считающееся морально «надлежащим» — благодеянием, ведет к тому же (см. [Ebihara, 1966, с. 185]). Даже в ранних текстах говорится о возможности воздаяния за действия уже в этой жизни, причем в категориях мирских достижений (см., например, [Mahaparinibbana-sutta, D. N., I, 23 24]). Эта схема может работать и в обратном направлении: возвышение или падение индивида в статусной иерархии, вызванное вполне земными причинами (стечением обстоятельств, избытком или недостатком способностей и т. п.), рационализируется post factum как изменение объема заслуг и тем самым становится религиозно оправданным. Представления о камме, судьбе, удаче и силе в обыденном сознании тесно переплетены. Важно отметить, что социальная мобильность в тхеравадинских обществах стихийна, она легко допускается, но не становится ориентацией. Движение индивида вверх по лестнице статусов так же нестабильно, как и сами эти статусы.
——————————————————————————————————-
(37) Об отсутствии «мистической привязанности к земле» у кхмеров Северо-Восточного Таиланда см. [Chou Meng Tarr, 1985, с. 203]. Некоторым диссонансом звучит мнение о доколониальной Бирме Р. Тэйлора, который несколько произвольно переносит черты бирманского государственного тоталитаризма 60—80-х годов XX в. на традиционный социум. «Все силы людей уходили на то, — пишет он, — чтобы избежать бесчисленных государственных ограничений» [Taylor, 1987, с. 20]. Действительно, все сферы жизни в бирманском обществе в конце XVIII—начале XIX в. были детально регламентированы, вплоть до деления населения и земель по категориям и повинностям. Однако это была регламентация «сверху»; волевое государственное начинание было наложено на весьма аморфную структуру на уровне grass-roots. Сам государственный аппарат был рыхлым, архаичным и организационно нестабильным (как, впрочем, и современный аппарат). Регламентация и «повинностная закрепленность» были сильны лишь в имперском ядре, в районе столиц в Центральной Бирме.
——————————————————————————————————-
§ 4. Буддийская социальная программа историческое явление и идеальный тип
Перед тем как кратко суммировать полученные выводы, надо сделать одно разграничение — между идеально-типической моделью и конкретно-историческим ее воплощением. Описывая отдельные фрагменты социальной программы, я часто ссылался на элементы доктрины и культа, которые предположительно были источниками этой программы. Однако «нисхождение значений» (от доктрины через культ к социальной деятельности) сопровождается встречным процессом — трансформацией идеальной логики мировоззрения в реальную логику истории. Это обратное движение (или обратная связь) подчинено закону избирательного сродства.
Если буддизм тхеравадинского толка получил распространение и был глубоко усвоен в этой части Азии, то только потому, что социокультурный «материал» был внутренне к этому подготовлен. Более того, тхеравада в некотором смысле есть вторичное религиозное мировоззрение, сотворенное по образу и подобию исповедующих ее народов. Но верно, по-видимому, и другое: тхеравадинское мировоззрение, однажды принятое, акцентировало в социальной практике определенные ее черты, «запрограммировало» их, дав им сакральную санкцию и предопределив их дальнейшее историческое развитие.
Каковы же те «встречные факторы», которые сделали тхераваду исторически релевантной и придали тхеравадинской социальной программе тот вид, который она имеет?
«Встречные факторы» при формировании программы
Один из таких «встречных факторов» уже рассматривался: это традиционные системы родства. Во-первых, ее черты сложились до массового распространения тхеравады. Во-вторых, многие из этих черт можно обнаружить за пределами тхеравадинского ареала в соседних обществах более обширного региона Юго-Восточной Азии. Близость некоторых значений буддийской социальной программы (персонализм, слабость групповых статусов, подвижная иерархия) и специфики родства в тхеравадинских обществах вряд ли следует считать свидетельством односложной причинной связи между двумя рядами переменных; уместнее более осторожная констатация «избирательного сродства» и длительного, растянутого на несколько веков взаимоприспособления.
По-видимому, более глубокие корни особенностей социальных структур — природные, точнее, экологические; даже своеобразие форм родства можно считать в какой-то степени их частным следствием. По крайней мере для материковой Юго-Восточной Азии характерно относительное изобилие природных ресурсов в сочетании со сравнительно слабым демографическим давлением. Такая ситуация создает меньшую потребность в строгой и устойчивой упорядоченности общественного строя. В долинах с влажным климатом и «открытой земельной границей» облегчена мобильность и ослаблена прикрепленность к земле, здесь нет необходимости в регулярном групповом (производственном) действии, а значит, нет и крепкой групповой солидарности. Интересно, что переход к тхераваде в Юго-Восточной Азии по времени совпал с упадком более жестко организованных обществ «гидравлического» типа (с классическими чертами «восточной деспотии») и постепенным смещением социополитических центров из засушливых зон, где нельзя было обойтись без громоздких ирригационных сооружений, в районы с более или менее плодородными землями, где экономика была основана на рассеянном поливном рисоводстве, удобстве системы рек и близости морских внешнеторговых путей. Это совпадение, по-видимому, не случайно. Во всяком случае, некоторые социальные значения тхеравады очень удачно вписываются в подобный природно-демографический и экономический контекст (38).
——————————————————————————————————-
(38) Этот переход к новому типу обществ описан Д. В. Деопиком [История Кампучии, 1981, с. 61—66]. Глубокий сдвиг во всей общественной структуре Камбуджадеши последовал за экономическим кризисом в районе старого ядра империи — вокруг столицы (Ангкора), вызванным «износом» старой системы рисоводства (латеризацией почв, засорением каналов и т. д.). «Центр тяжести» постепенно стал сдвигаться в «восточный рисовый очаг» (бассейн Чаопрайи, район Пномпеня и других поздних кхмерских столиц), где был иной .экологический фон, не требовавший систематической ирригации. Смещение «центра тяжести» вызвало перемены, подготовившие в конце концов «социально мотивированный переход» кхмеров к тхераваде [История Кампучии, 1981, с. 61, 66]. Общее направление социальных изменений (складывание единого крестьянского слоя неактьеа, упадок крупного духовного и светского землевладения, формирование клиентелизма) точно соответствовало новым социорелигиозным ценностям.
Удивительно, что именно в XIII в., в эпоху быстрого распространения тхеравады в Юго-Восточной Азии, произошел очень глубокий поворот и в истории Ланки — структурный центр сместился из сухих северо-восточных и юго-восточных зон острова (области Раджарата, Рухуна), где на основе «гидравлической экономики» развивалась сингальская цивилизация, во влажный юго-запад. Можно предположить, что причиной этого стали не только такие факторы, как тамильское давление с севера, сильнейшая эпидемия малярии в XIII в., кризис ирригационной экономики (как в Камбодже), но и духовный кризис (как и на материке). На это указывает Э. Мейер (см. [Meyer, 1977, с. 23—24]), ссылаясь на К. Индрапалу [Indrapala, 1971].
——————————————————————————————————-
Непостоянство отношений зависимости, высокая мобильность, небольшой стимул к жесткому группообразованию — все это кажется естественным там, где много свободных и одинаково плодородных земель и где легче «бежать от повинностей», переходить от одного патрона к другому (39). Собственно, в этом — одна из предпосылок персонализма, преобладания личностных форм зависимости. В обществах, где природные ресурсы не ограничены, богатство, влияние и власть в решающей степени зависят от контроля именно над людьми (а не над землями); поэтому отношения господства принимают характер личностных патрон-клиентных связей и обладание индивида такими связями становится важнейшим критерием социального положения. Ниже будет показано, что и сила государственной власти определялась обилием подданных, а не обширностью территорий (40).
——————————————————————————————————-
(39) В Таиланде, пишет Дж. Буннаг, «очень мало корпоративных групп, постоянных группировок любого рода; на уровне индивидуального поведения это означает, что люди легко переходят от роли к роли, из одной сферы деятельности в другую и свободно отклоняют ту социальную связь, в которой они больше не видят пользы для себя» [Bunnag, 1973, с. 187]. Дж. Буннаг объясняет все это изобилием природных ресурсов [Bunnag, |1973, с. 183]. Похоже, что природные факторы она считает главным условием формирования данной социальной модели.
(40) В XII в. «складывается типичная для Камбоджи и ряда соседних стран… система базирования при обложении на числе людей, а не на числе единиц земельной площади. Поскольку в последующие века существование этой системы прочно связано с правом относительно свободного перехода крестьян на новые земли, естественно предположить, что такое положение начало складываться в XII в., после освоения основной массы земель на собственно кхмерских территориях» [История Кампучии, 1981, .С- 55]. Именно XII век стал началом массового принятия тхеравады. Об укоренении системы «свободного перехода» см. [История Кампучии, 1981, К. 84]. О специфике войн, целью которых были не территории, а рабочая сила побежденных, см. [Rabibhadana, 1969, с. 16].
——————————————————————————————————-
Еще один важный «встречный фактор» политической истории— открытость государственных границ на материке, бесчисленные межэтнические войны и, как следствие, постоянное перемешивание населения, миграции — насильственные и добровольные (о войнах как факторе социальной истории региона см. [Wijeyevardene, 1987, с. 35]); в этот же ряд можно поставить мозаичность этнокультурного ландшафта и взаимоналожение волн культурных влияний. О нестабильности государственных образований речь пойдет ниже.
Все это в целом подрывало всякий устойчивый формальный порядок, создавало открытую систему, внутренне предрасположенную к неустойчивому многообразию социокультурных форм при сравнительно слабо выраженном господстве какого-либо одного уклада, «переваривающего» все прочие (как, например, кастовый уклад в Индии или конфуцианско-бюрократический в Китае). По-видимому, эта открытость социальной системы (несомненно, большая на материке, чем на Ланке) создавала условие для появления такого феномена, как китайская диаспора (на Ланке — тамильская), а несколько позднее, в колониальный период,— так называемого плюрального общества, о чем речь пойдет ниже.
Многие из перечисленных долговременных факторов не имеют отношения к тхеравадинскому мировоззрению; они присущи и островной небуддийской Юго-Восточной Азии (нельзя забывать и о едином для всей Юго-Восточной Азии субстрате «индианизации» I тысячелетия н. э.); но композиция всех этих фактов является благоприятной эколого-социальной и исторической почвой для некоторых тхеравадинских ценностей. Они были выборочно восприняты, адаптированы, укоренены и в какой-то момент начали оказывать обратное, «программирующее» влияние на общества.
Западная экспансия как «встречный фактор»
Не является ли западное проникновение решающим источником тех значений, которые я называю буддийской социальной программой? Не характерны ли такие черты, как персонализм, «незавершенность» индивида, слабость группы, мобильность, патрон-клиентные отношения, только для: последних одного-двух столетий? Не ошибочно ли обосновывать при помощи прошлого то, что имеет истоки в настоящем, т. е. не до, а после массированного наступления западной цивилизации?
Действительно, есть опасность искусственно удлинить историю позднейших явлений, причем опасность двоякая. Во- первых, к буддийским значениям можно по ошибке отнести значения современной западной социальной программы. Не принимаем ли мы западное социокультурное влияние за влияние буддизма (это касается, например, индивидуализма, ролевой множественности и т. д.)? Во-вторых, можно принять за буддийские или восходящие к буддизму такие формы и принципы общественной организации, которые на самом деле являются свойством дезинтегрированного, переходного состояния. Не смешиваем ли мы исторически объяснимую дезинтеграцию с рыхлостью как имманентной чертой, социальной традиции?
Что касается первого сомнения, то, если не вырывать отдельные элементы из контекста, из целостной системы мировоззрения, сходство буддийской и западной программ окажется поверхностным. Я уже касался довольно плоской западноцентристской интерпретации личностной «автономии» и индивидуализма в буддийских обществах как аналогичных или близких к западному либеральному индивидуализму. Буддийский индивидуализм имеет больше отличий от западного, чем сходства с ним (так же как буддийский персонализм больше отличен от христианского, чем схож с ним): достаточно вспомнить невозможность индивидуального высвобождения из связей с другими, а также всепроникающую иерархичность отношений, чтобы рассеялись иллюзии о внутреннем сходстве. Тем маловероятнее западное происхождение указанных значений, даже если они подтверждаются эмпирическими примерами (в основном современными). То же самое можно сказать о такой черте, как высокая социальная мобильность, имеющая иные источники, мотивы и следствия, чем социальная мобильность в рамках западного Modernity.
Второе сомнение кажется более обоснованным. Действительно, всякая глубокая ломка общественных структур чревата увеличением числа форм, если не сказать хаотичности, социальной жизни, возникновением широкого спектра вариантов, разрыхлением традиционных институтов и общим ростом нестабильности. Мощное западное влияние было и остается таким дезинтегрирующим фактором на всем Востоке. Нарушается целостность общественных систем, ломаются традиционные формы, в то время как новые приживаются с трудом и существуют в ограниченных анклавах; возникают определенная бесформенность, вакуум, который заполняют неустойчивые личностные связи. Новые колониальные и постколониальные города создают особенно диверсифицированную и подвижную социальную структуру; городское пространство и ритм городской жизни организуют отношения людей таким образом, что они становятся более интенсивными, мобильными, спонтанными, лишаются ритуального постоянства, которое характерно для живущей по природным циклам деревни. Индивидуализм, ключевая роль малой семьи, множественность ролей индивида и пр. присущи городской жизни по определению. Кроме того, в вестернизированных секторах восточных обществ (в городах прежде всего) человек теряет старые групповые связи, отрывается от своей почвы и превращается в утратившую цельность маргинальную личность (см. [Эволюция, 1984, с. 483])—личность в известном смысле «незавершенную».
Во всем этом можно обнаружить черты, которые я выше связывал с буддизмом. Но может быть, у них более позднее происхождение или они свойственны всему Востоку в период западной экспансии и о буддийской специфике, следовательно, говорить не приходится?
Иногда фактор колониальной дезинтеграции расценивается как решающий в появлении рыхлости; такой точки зрения придерживается Р. Тэйлор, описывая колониализм в Бирме [Taylor, 1987, с. 68] (41). Ф. Риггз рассматривает специфические тайские социальные формы, включая патрон-клиентные отношения, только как результат модернизации, как продукт сравнительно позднего времени (начиная с Чулалонгкорна) [Riggs, 1966]. Трудно отрицать, что между дезинтеграцией традиционного общества и складыванием рыхлой персоналистской системы социальных связей есть очевидная зависимость. Но, по моему мнению, ошибочно относить ее возникновение к позднейшему периоду. Дезинтеграция является в большинстве случаев не причиной появления описанных выше значений и форм, а только фактором, который многократно их интенсифицировал. Несомненно, что тенденции, резко усилившиеся в XIX—XX вв., были в качестве потенциального варианта, в качестве одной из возможностей, изначально закодированы в общественной практике и менталитете тхеравадинских обществ в совокупности. Есть весьма ранние свидетельства, подтверждающие традиционное (буддийское) происхождение многих ценностей (патрон-клиентные связи внутри системы сакди на, своеобразие ланкийских каст и т. д.). Очевидный контраст между старыми тхеравадинскими обществами и их дотхеравадинскими предшественниками, а также соседними нетхеравадинскими обществами позволяет утверждать, что тхеравада, по крайней мере частично, ответственна за своеобразие социальной модели. Другое подтверждение этого — возрождение описанных особенностей в постколониальных обществах, например, в 50—60-е годы, когда во всех независимых восточных странах стихийно восстанавливались именно те структуры (ценности и институты), которые были традиционно закодированы. В Бирме в 50-е годы, сразу же после слома британского колониального каркаса, общество, как бы предоставленное самому себе, моментально породило множество клиентельных групп местного масштаба во главе с лидерами (патронами)— «бо» (первоначально этот термин обозначал людей, имеющих офицерское звание) [Taylor, 1987, с. 267]. Бурно расцвели патрон-клиентные отношения и в независимой Шри Ланке (42). В Таиланде после второй мировой войны старые принципы группообразования стали быстро проникать в новые (современные) сферы городской жизни (те же принципы, как уже говорилось, сохраняются в тайской деревне) (см. [O’Connor, 1978; Словесная, 1991; Jackson, 1987] (43).
——————————————————————————————————-
(41) Дж. Ферниволл связывает с колониальной дезинтеграцией складывание «плюрального общества», которое включает отдельные расовые группы (в Бирме, например, — бирманцы, европейцы, индийцы, китайцы). Каждая часть такого общества скорее совокупность, чем корпоративное и органичное целое. Общественная жизнь индивидов, пишет Ферниволл, является «незавершенной» [Furnivall, 1956, с. 306]. «Общество разбито на группы изолированных индивидов, и дезинтеграция социальной воли отражается в дезинтеграции социальных обязательств» [Furnivall, 1956, с. 310]. Все это, безусловно, связано с колониальной ломкой. Но все же в колониальной Индии Дж. Ферниволл вряд ли увидел бы то, что бросилось ему в глаза в Бирме: отсутствие групп и «дезинтеграцию социальных обязательств». В связи с этим возникает вопрос, не было ли бирманское общество к этому предрасположено.
(42) Э. Мейер пишет: «Кастовый дух часто принимает форму отношений патронажа — современной аватары феодальных отношений, смененной в колониальную эру нынешней практикой фаворитизма» [Meyer, 1977, 1977, 104]. По-моему, здесь есть две неточности: во-первых, патронажные отношения, хотя и сплетены с кастовой системой, вряд ли являются «формой кастового духа»; во-вторых, эти отношения лишь очень условно можно связать с «феодализмом». Вместе с тем Э. Мейер прав, считая этот тип отношений традиционным и видя в них аватару (и наверняка исторически особый вариант) некоего доколониального образца.
(43) Авторы «Эволюции восточных обществ» (см. [Эволюция, 1984, Ир 433]) пишут о «воспроизводстве в новых условиях такого важнейшего свойства традиционноориентальной социальной организации, как неформальные патронажно-клиентельные связи, вносящие в общество и новые формы адаптации, и новые стимулы для эмоционально-духовной напряженности». Хочется отметить в этой цитате тезис о том, что воспроизводится древнее, традиционное свойство. Правда, здесь говорится обо всем Востоке. Все-таки клиентельный тип социальной организации нигде не был доминирующим в такой степени, как в буддийских странах.
——————————————————————————————————-
Таким образом, глубокие социальные сдвиги в тхеравадинских странах в XIX—XX вв. не могли не оставить следа на конфигурации социальных ценностей. Эти сдвиги сделали очевидными и актуальными многие элементы буддийской социальной программы. В то же время история самих тхеравадинских обществ в XIX—XX вв. (при всех их различиях) была в известной мере закодирована теми значениями индивида, группы, межличностных связей и т. д., которые сформировались в более раннее время и, между прочим, под влиянием буддизма.
Буддийская социальная программа (идеальный тип)
Перечислю основные элементы буддийской социальной программы.
1. «Незавершенность» индивида; индивид как поток ощущений; открытость границы между «я» и социальным окружением.
2. Личные заслуги как «моральное имущество», являющееся основой индивидуальной идентичности; «автономность» индивида как независимость от жестких норм индивидуального поведения (следствие индивидуального фокуса в сотериологии).
3. Неизбежность и всеохватывающий характер социальной взаимозависимости, высокая ценность социальных связей; персонализм, отраженный в связях с другими (а не основанный на личностной самодостаточности).
4. Сочетание латентного равенства (как свободы от пожизненной стабильной приверженности социальным статусам) с глубоким иерархизмом организации социума в целом и в каждом межиндивидуальном отношении в частности; различие в объеме личных заслуг как критерий места в иерархии.
5. Взаимность в иерархических отношениях; покровительственный характер господства (в связи с комплексом «бодхисаттва — каруна» и концепцией «передачи заслуг»); клиентельный характер зависимости.
6. Слабость длительной групповой приверженности, невыраженность групповых границ и внутригрупповой солидарности; отсутствие единой иерархии групп и системы межгрупповых связей; преобладание диадических (парных) личностных связей.
7. Патрон-клиентные группы как преобладающий тип социального объединения; личностные связи покровительства и зависимости как основа таких групп; высокая (стихийная) горизонтальная и вертикальная мобильность как их свойство.
|
|